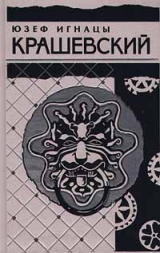
Текст книги "Чудаки"
Автор книги: Юзеф Крашевский
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 16 страниц)
– Право, нужно восхищаться, – отозвалась пани Лацкая, – с какою легкостью наш сосед составляет теорию и объясняет ее; но, мне кажется, это очень легко сделать.
– Я ожидаю и слушаю, – сказал Граба.
– Я, слабая женщина, не могу состязаться с таким борцом, – иронически сказала m-me Лацкая, – однако ж я осмеливаюсь спросить: всякий ли труд можно подвести под эту общую теорию? Мне кажется, что труд можно разделить на две различные категории: труд умственный и механический; первый – производительный, а второй – только изнурительный. Хотя разбор белого мака от черного будет тоже труд, но сомневаюсь, чтоб пан Граба с приятностью взялся за него.
– Без сомнения! – смеясь, ответил Граба. – Но есть тоже Два разряда людей: мыслящих и почти немыслящих, или мыслящих так мало, что перебирание мака будет служить удовлетворительной темой для их разговора. Каждый человек избирает соответственный ему труд, и только в таком случае он будет полезен обществу. Извините, если я вам скажу, что в нравственном отношении пе-ребиранье мака лучше бездействия. Ни одна женщина, если бы ее с детства приучили к терпению и труду, распутывая шелк или перебирая мак, как бывало в старину у ваших дедов, не изнывала бы в будущем под бременем жизни, потому что она нашла бы достаточно для этого сил.
М-те Лацкая, принимая последние слова на свой счет, покраснела от гнева и, сжимая губы, склонила голову к работе, ничего не ответив. Когда пан Граба произносил эти слова громко и медленно, сын его, который вел разговор с молчаливой m-me Лацкой, встал и посмотрел в окно, но остановился на несколько секунд, и подошел к отцу с дурно скрытым беспокойством; но видя, что отец не обращает на него внимания, подошел еще раз к окну, стал пристально всматриваться в даль, повернулся, притворяясь равнодушным, прошелся по комнате и, не говоря ни слова, вышел.
Глаза двух женщин машинально следили за ним, и, открывши тайну его удаления, посмотрели одна на другую. Граба, хотя ничего не заметил, но как будто магнитом повернулся к окну, посмотрел, задрожал и подбежал ближе.
Вслед за ним все встали; не зная в чем дело, но судя по быстрому движению его, можно было предполагать, что он не без причины смотрел в окно.
– Что там такое? – спросила с живостью Ирина, подходя к окну.
Граба молча смотрел, бледный, и мысленно что-то соображал.
Столб густого дыма, принимая снизу кровавые оттенки, подымался с северной точки горизонта над лесом, окружающим окрестность.
– О горе! Пожар! – вскричали женщины.
– Пожар, – повторил Граба, – и кажется, в моей деревне. Но если даже и не у меня, обязанность всякого, имеющего здоровые руки, спешить на помощь несчастным.
Граба схватил шапку и бросился к двери. Юрий задержал его.
– Позвольте мне сопутствовать вам, – сказал он, – у меня здоровые руки, хотя еще не привыкшие к работе, не пренебрегайте ими. Мне дадут лошадь, я поскачу с вами, потому что один не попаду, не зная местности.
– Пойдем скорее!
В дверях прощальный взгляд Ирины вдвойне подкрепил в нем рвение и мужество.
У порога, прощаясь, Ирина воскликнула:
– А я должна остаться? Разве мы, бедные женщины, решительно ни к чему негодны? – Лицо ее запылало алою краской; она схватила колокольчик. – И я с вами! Коня, – сказала она входящему человеку, – для пана Сумина и для меня! Если я умею ездить для своего удовольствия, сумею поехать и на пожар. Если не спасу несчастного, по крайней мере утешу его.
M-me Лацкая, в беспокойстве и почти в гневе, подбежала к Ирине, пытаясь уговорить ее не ехать на пожар, но напрасно; Ирина была непоколебима.
– Я скоро вернусь, со мной беды не случится; отсюда видно, что пожар недалеко. Может быть, я пригожусь там: буду руководить, приказывать другим спасать народ, если сама не умею. О, нет, женщина не так бессильна, как вам кажется! Не правда ли пан Граба? Но могу ли я ехать? Не пригожусь ли я вам для спасения людей?
Граба стоял взволнованный и молчал.
– Лучше останьтесь, m-lle Ирина, – сказал он, – вечереет, дорога не хороша. Останьтесь, прошу вас, уже темнеет.
– Ведь зарево пожара сияет! Пустите меня, я должна ехать. Коня, коня!
И наскоро набросив шляпу, шерстяной бурнус, платок, она выбежала на крыльцо, не слушая m-me Лацкой, топая нетерпеливо ногами и посматривая то на конюшню, то на пожар, все более усиливающийся.
Наконец, послышался топот коней, которых рысью вели из конюшни. Оба Грабы сели на своих; Юрию дали верховую лошадь, Ирине ее любимца Белоножку; а все дворовые, по принятому обычаю, вскочили, кто на какую попало лошадь, и готовились сопутствовать своей госпоже.
Из деревни видно было множество лошадей, скачущих в перегонки по направлению пожара, потому что Ирина своими просьбами и кротким обхождением с крестьянами сделала то, что их не нужно было принуждать и приказывать идти на помощь ближнему. Каждый из них бросил работу, вскочил на лошадь и мчался к зареву.
Во главе дворовых людей, отец и сын Грабы, Ирина, Юрий – мчались во весь опор. Странное зрелище представляла эта женщина: во главе нескольких десятков всадников, среди которых бледное, но мужественное лицо старого Грабы, печальное – его сына, мрачное и страстное Юрия, отражались на первом плане. Все молчали; хорошо выкормленные лошади быстро мчались. По дороге свита постоянно увеличивалась присоединяющимися к ней крестьянами, которые спешили на пожар. Все устремили глаза на огромное зарево. Огонь все более расширялся, раздуваемый осенним вечерним ветром. Столб черного дыма, среди которого сияли, как звезды, подымающиеся искры, возносился медленно вверх, то расстилаясь далеко направо и налево, то опять утихая, как будто для того, чтоб вспыхнуть с новой яростью и распространиться по горизонту.
Деревня пана Грабы лежала за лесом, дорога к ней шла крутая, ухабистая, и для скороскачущих лошадей даже опасная; многие должны были осадить своих рысаков, только отец и сын Граба, Юрий и Ирина гнали своих по полям, спеша на помощь несчастным. В сумерках иногда мелькала лужа, плескалась вода под ногами лошадей, трещали ветви, шелестели листья, или конь фыркал, испугавшись.
Лес начал редеть, а мрак становился гуще и гуще; сквозь перепутанные ветви деревьев видно было кровавое зарево пожара. Деревня была за плотиной и лугом, почти в полумиле расстояния; но огонь освещал весь этот путь людям, спешащим на помощь. Проехав лес, старый Граба заметил, что догадки его, к несчастию, оправдались: горела его деревня, а ветер бросал пламя от одной житницы к другой, и ряд крестьянских сараев, наполненных осенним хлебом, почти весь подвергался лютости огня.
– О! Лучше бы мои сараи и скирды горели! – вскричал с чувством Граба. – Бедный народ, бедный народ!
И стегнув сильно коня, он поскакал вперед. Страшное, но величественное зрелище представлял пожар. Почти черное небо озарялось кровавыми клубами дыму; вблизи лес, купол церкви, белый фронтон каплицы сияли ярким блеском. Гумна, точно похоронные костры, пылали то синим, то желтым, то красным племенем; красные клубы дыма, как большое покрывало, колебались над деревней, разрываемые ветром, движимые в разные стороны. Треск падающих строений, из которых с большою яростью вспыхивало пламя, крик людей, печальный звук колоколов и глухой шум осеннего ветра сливались в один печальный хор. Чем ближе подъезжал всадник, тем ярче озарял его зловещий свет, тем яснее слышен был крик, от которого его сердце разрывалось в груди. Доходящие издали стоны, причину которых всякий понимал, терзали всех чувством глубокой скорби и страдания. Ирина была бледна, глаза ее сверкали; устремив взгляд на пылающую деревню, она гнала машинально свою лошадь. Юрий, несмотря на чувства, которые давили его грудь, взглянув на Ирину, не мог не сознаться, что воодушевление усиливает красоту и еще более возвышает ее. В эту минуту Ирина была идеальным созданием, какое только художник в минуту божественного вдохновения в состоянии создать магической кистью на холсте.
Когда они подъезжали к деревне, жар огня обхватил их кругом, удушливый дым давил грудь, все голоса великой драмы соединялись и сливались в один траурный звук; чье ухо не слышало его, чье сердце не трепетало? Отец и сын, желая скорее поспеть, гнали из последних сил своих лошадей и, перескакивая низкие заборы, пустились через огороды. Юрий и Ирина последовали их примеру. Ветер гнал им в глаза дым и искры, и лошади бросались во все стороны, пораженные огнем, который мчался вперед, послушный движению ветра, производя везде опустошение. Земля была покрыта догорающими снопами и раскаленными угольями. Они подъехали к сараям, огонь которых еще не коснулся, а потому здесь помощь была нужнее, чем где-нибудь. Лошадь пана Грабы, которую он пустил свободно, неслась, фыркая, по знакомой дороге во двор и конюшни.
– Барин! Барин! – почти радостно крикнуло несколько голосов.
– На крышу, ребята! – крикнул Граба, поднимая руки. – Разбросать сарай Василья, прекратится огонь!
И в один миг местные люди и приезжие карабкались на строение; но в это же время слышен был жалобный стон.
– Хаты горят! Хаты горят!
Граба пустился бежать по тесным закоулкам между двумя горящими сараями и проскользнул скоро на улицу к хатам. Действительно, ряд хат, по обыкновению стоящих напротив сараев на широкой улице, занялся пламенем.
Здесь собралась толпа народа: кто спасал, что мог, а кто плакал, ломая руки, над тем, что потерял, или цепенел от страха, опасаясь того, что ему угрожает.
Одна хата, вся обхваченная пламенем, горела сильнее и быстрее других. Народ выбрасывал на двор уцелевшую утварь. Вдруг послышался пронзительный крик женщины, которая, ломая руки, бежала к хатам.
– Мое дитя! Мое дитя! Где мое дитя?!
Муж, опустив голову, стоял молча, она металась в отчаянии. Пламя через сени проходило уже во внутрь избы, полной дыму.
Услышав этот крик, не задумавшись ни на одну минуту, старый Граба вломился в дверь. Сын, шедший за ним, увидев это, остановился и оцепенел; но видя, что отец не возвращается, вмиг бросился в дверь строения, которое все более и более разгоралось, и исчез в клубах дыма.
Народ, любивший барина, как отца, с пронзительным криком окружил хату, переставая спасать строение. Вдруг отец и сын с ребенком в руках показались в дверях хаты, выскочив из нее в дыму и копоти, но невредимые. Все ахнули в один голос от радости и удивления. А мать? Она упала к ногам спасителя ее дитяти, протягивая руки, схватила своего единственного сына и, прижимая его к груди, упала без чувств.
Граба был уже в другом дворе, становил людей в ряд от колодца к горящему строению, подавал сам ведра, воодушевлял, просил, приказывал народу.
Пример пана Грабы воодушевил народ и придал ему решимость победить предрассудок, который для них страшен потому, что будто огонь отомстит тому, кто будет заливать его. Молодые и старые с усердием бросились ломать обхваченные пламенем строения, чтоб загородить дорогу распространению огня. Отец и сын Грабы с Юрием, для которого опасность в глазах Ирины казалась отрадой, были везде первыми. Ирина, между тем, ласкала детей, утешала рыдающих женщин и тихо молилась Богу.
Всякое бедствие, превышающее силы человеческие, возносит дух к Богу, ища в нем утешения. Пожар значительно уменьшился, благодаря силе воли, разуму и присутствию духа распорядителей.
На крышах, облитых водою, сидели дворовые люди из Румяной; Юрий и молодой Граба трудились вместе с другими и распоряжались подачей ведер.
Кровавый блеск постепенно исчезал; дым становился реже; и тлели только те строения, которых пожирало пламя. Граба сперва распорядился всем, поставил стражу у огня, и видя, что опасность миновала, возвратился к своим гостям весь в копоти, саже и дыму, приглашая их к себе, чтоб отдохнуть и подкрепить силы. Ирине в особенности нужен был отдых; душевное волнение, верховая езда, участие ее во время пожара, испуг – напоминали ей, что она женщина.
По приказанию, вмиг явились лошади, и каждый, вскочив на свою, помчался к господскому дому.
Вдали под тенью старых деревьев, раскинутых на холме, белели стены низкого господского дома, к которому вела широкая дорога. Там и сям под старыми липами и дубами стояли простые, но широкие скамьи. Легко догадаться, что их оставили не для господ, но для крестьян, возвращающихся с работы. Кое-где виднелся крест между густыми ветвями дерев. За холмом блестел теперь кровавыми отливами широкий и прозрачный пруд. Нигде здесь не встретишь той заграничной роскоши, которую часто можно видеть у нас, рядом с развалинами и опустошением; но порядок и со вкусом выстроенные здания дышали прелестью и простотой. Юрий, зная вперед о богатстве пана Грабы, удивлялся с какою простотой выстроена его усадьба.
– Вы, вероятно, живете в другом имении? – спросил Юрий.
– Нет, – улыбаясь ответил хозяин. – Я понимаю, почему вы мне задаете этот вопрос: вы удивляетесь моему скромному жилищу, зная, что я богат. Но богатство не должно служить орудием для нравственной порчи. Роскошь изнеживает нас, делает рабами тела и портит, потому что отнимает закал души. Я избегаю роскоши и неги не столько для себя, сколько для сына. Зачем приучаться к тому, что не составляет необходимости, а только по привычке делается необходимостью, и рождает неприятные страдания?
Заканчивая эту беседу, они остановились перед крыльцом дома.
Дом пана Грабы был небольшой, невысокий, но белый, чистый, и простота составляла все его украшение; однако же, в нем жил миллионер. Свет из окон служил доказательством, что ожидали хозяина, а может быть и гостей. Несколько людей и молодых мальчиков, одинаково одетых, выбежали на крыльцо, встретив хозяина и гостей без излишнего унижения и прислуживания, но искренно и чистосердечно.
В их обращении выражались более чувство и привязанность, нежели покорность и унижение.
Юрий на каждом шагу приходил в изумление. Комнаты, в которые они вошли, были белые, довольно большие, хотя дом на вид казался мал; в них не было паркетов, раскрашенных потолков, ни разных безделушек, которыми обыкновенно украшают их, словом никакого излишка. Диваны, столы, простые стулья, столики ясеневого дерева, зеркала в черных рамах – вот почти вся мебель, находившаяся в них.
Ирина была сильно изнурена; пан Граба позвал сейчас свою родственницу пани Квасовскую, проживающую у него, и поручил ей заботиться об Ирине, пока не приведут лошадей, которые должны были отвезти ее в Румяную. Но сам хозяин нисколько не устал, потому что привык к труду; он умылся только, переоделся и возвратился к Юрию.
– В ваших глазах выражается любопытство, – сказал он, – и я хочу удовлетворить его: я покажу вам себя и все, что меня окружает, с любезностью хозяина и даже с некоторым хвастовством. Много вещей требует объяснения, но сегодня нет времени для этого. Вы переночуете, а завтра, надеюсь, захотите погостить у меня.
Вместо ответа Юрий пожал ему руку, но не ложился до тех пор спать, пока не успокоился за Ирину. Она вскоре, подкрепив свои силы, села в коляску и, прощаясь с Юрием, с улыбкой напомнила ему, что если не завтра, то послезавтра она ждет его к себе, а пока она пошлет известить конюшего о причине его задержки.
После отъезда Ирины молодой Граба отвел Юрия на другую половину дома, где находилось несколько гостиных. К своему удивлению, он нашел здесь роскошь, к которой привыкли люди «высокого воспитания».
Войдя, он спросил взглядом, что все это значит? Молодой Граба ответил ему с улыбкой:
– Мы с отцом привыкли к самой скромной жизни; но старопольское гостеприимство не дозволяет лишать удобств людей, привыкших к ним, без которых им трудно обойтись.
– Я легко могу отказаться от этого удобства, – ответил Юрий, краснея.
– И мы поместили бы вас в одной из обыкновенных комнат, если бы она была теперь свободна. Мой отец взял себе за правило поступать с молодыми людьми нашего возраста с несколько нравоучительной важностью, но вместе с тем с ангельскою добротой. Он никогда не приучает к роскоши тех, которые могут еще отвыкнуть от нее; но это делает он для стариков, для которых удобство сделалось необходимостью… Спокойной ночи! До завтра.
Ян ушел, а Юрий бросился на кровать и увидел тревожный сон, в котором его воображению рисовалась картина пожара, Ирина, верховая езда, и в сладких грезах он проспал до самого утра. Но после первого пробуждения любопытство, подстрекаемое всем, что он вчера видел, не давало ему более сомкнуть глаз. Он наскоро оделся и прошел тихонько через дверь, ведущую в сад.
Теперь, при дневном свете, он мог лучше различить то, что вчера ему мелькнуло при зареве пожара. Воздух был еще пропитан дымом и гарью; но утро было дивное, теплое, точно весною. Белый, прохладный туман носился над землею и постепенно расступался перед осенним солнцем. Большой, в чистоте содержимый, сад спускался к пруду и к речке и представлял прекрасное зрелище. Деревья, с умением сгруппированные, ели, сосны на первом плане, вдали тополя, потерявшие уже свои серебристые листья, извилистые дорожки, прорезанные через пожелтевший луг, все это представляло редкое явление на Полесье.
– Однако ж это роскошь, – сказал про себя Юрий. – А, попался спартанец в грехе!
Он пошел по направлению послышавшихся голосов, между которыми он вскоре отличил серьезный голос Грабы, который встал с зарей, чтобы посоветоваться с народом.
Несколько долетевших слов убедили слушателя, что здесь иначе обращаются с крепостными. Отношения помещика и крестьянина, стоящих на двух противоположных концах общественной цепи, взаимно их связывающей, здесь изменились в патриархальную связь одной семьи, скрепленной взаимною благодарностью. С одной стороны не было упреков, с другой дерзких ответов.
Они совещались без шума, а когда барин говорил, то в молчании выражалось уважение, которое крестьяне питали к нему, одобрительные возгласы доказывали, что они понимают друг друга. Голос старшего Грабы звучал так нежно, как будто отец или брат говорил с ними. Юрий, приближаясь, услышал следующую речь Грабы, исполненную глубокого чувства:
– Теперь, мои дети, не плачьте и не скорбите, но вдвойне трудитесь. Что касается меня, то я сделаю для вас все возможное; но вы не должны опускать рук. Бог посылает на нас бедствия, чтоб испытать, достойны ли мы Его милосердия. Я дам лес, пособие, о хлебе не беспокойтесь, вы не будете в нем нуждаться. Возьмитесь за постройку хат, потому что зима приближается.
Погоревшие ушли, успокоенные словами пана Грабы; тогда Юрий подошел и почтительно приветствовал хозяина.
– Еще рано, а вы уже встали, – сказал пан Граба, подымаясь со скамьи крыльца. – Не беспокоило ли вас что-нибудь?
– Да, я торопился видеть вас и слышать. Я не скрою, что привык много спать; но сегодня мне стыдно моей дурной привычки.
Граба посмотрел ему в глаза.
– Я вас поздравляю, – сказал он. – Действительно, то, что ложно называют цивилизацией, обыкновенно проявляется в различных причудах и роскоши, вся жизнь переиначивается; есть люди, доказывающие, что такое понимание жизни есть неизбежное следствие цивилизации; не будем в этом случае подражать Западу. В столицах после каждого бала демократические газеты публикуют: «Сколько несчастных семейств можно было бы накормить на эту сумму!» На подобные возгласы остроумные журналисты противной партии отвечают: «Посчитайте, скольких ремесленников прокармливают балы и барская роскошь». Это так; но это дурно. Если в человеческом теле одна часть живет за счет другой, мы называем это болезнью; то же самое и в теле общества. Избыток, действительно, кормит; но одних лишь дармоедов роскоши, между тем другие классы страдают. Пропустим даже и это; роскошь менее вредна для тех, которых лишает пищи и которых могла бы прокормить на свой счет, нежели для тех, которые живут в ней и ей дышат. От сна мы перешли к подобному рассуждению. Вы осудите меня в нелогичности; но я помню, с чего начал и к чему стремлюсь. Излишний сон, происходящий от лености, принадлежит к обычаям роскоши. Противный природе, он есть следствие порчи нравов, потому что вреден для здоровья, для ума, и отнимает время, не принося никакой пользы. Но мы слабые дети роскоши.
– Я вижу, что роскошь, по вашему мнению, более всего губит общество.
– В особенности наше. На нас лежат великие, священные обязанности; нам нужно подняться из нравственного падения, укрепить ум и тело. Если же нельзя совершенно изгнать роскошь, оставим ее счастливцам. Враг всякого избытка – я не покажу вам ничего бесполезного, – сказал Граба, вставая. – Я заметил вчера, что все, что вы видели у меня, выходящее из пределов обыкновения, возбуждало в вас сильное любопытство. Любопытство это жажда души. Я считаю своею обязанностью утолить ее, если то, что я задумал, хорошее и полезное, слилось с понятием и убеждением массы. Итак, – прибавил он весело, – як вашим услугам. По моему дому вы лучше всего можете судит обо мне. Пойдем.
Они вошли в дом без всяких старосветских церемоний у дверей – кому войти первому. Первую комнату, увиденную еще вчера, они прошли молча. За ней была вторая, почти такая же, с окном в сад. Юрий, увидев из него прекрасный угол парка, улыбнулся и спросил пана Грабу:
– Не поймал ли я вас в преступлении против собственных законов? Вы терпеть не можете роскоши; а тот сад, занимающий столько поля, стоит немало труда и денег, не лишняя ли это вещь?
– Я вам благодарен за этот вопрос, потому что он дает мне возможность в точности объяснить вам мои убеждения. По-видимому, это так, как вы сказали; но на деле совсем не то. Человек живет не одним лишь хлебом; он не ограничивается животными потребностями, удовлетворяющими только тело, ему нужна пища для души, которая открывает нам прекрасную сторону жизни. Прекрасное нельзя определить общими выражениями, как это делают пошлые эстетики. В обаянии прекрасного соединяются стремления души ко всему благородному, великому, вообще к добру и идеалу. О, это слово – идеал, есть величайшее пятно на лице рода человеческого. Все, чего боятся и не хотят исполнить, чего ленятся достичь и низвести с небес на землю – называют идеалом. Все прекрасное есть пища для души. Душа мыслит, жаждет общества великих людей, стремится к исполнению добрых дел, к размышлению о Боге, о самом себе и к познанию природы. Пища моя – книги, разговор, произведения искусств, и те прекрасные картины природы, которые я нахожу теперь в саду, а в будущем представляю садом всю землю, потому что в счастливейшие времена она приблизится к идеалу. Эта картина, на вид изысканная, составляет пищу и потребность для моей души; в ней я вижу прошедшую жизнь человеческого рода и потерянную колыбель, о которой рассказывают предания; в ней я вижу будущее, к которому я подвигаюсь медленно и с трудом. Это мой рай. Вот объяснение, почему я завел сад. Что я мог его иметь, я оправдываю тем, что у меня была земля, а у крестьян довольно ее, а на содержание его я издерживаю то, что мне остается от моих обязанностей. Пот крестьян до сих пор не проливался для моих фантазий и прихотей. Я стараюсь, чтоб этот рай не орошала человеческая слеза, чтоб в нем не отозвался стон.
Юрий слушал с восхищением речь пана Грабы, не возражая ничего. Вдруг хозяин отворил дверь, и гость к своему величайшему удивлению увидел перед собою длинную галерею, с одной стороны украшенную картинами, а с другой заставленную шкафами книг.
– Вот еще моя роскошь! Я исповедываюсь сразу во всех грехах этого рода: это двойная пища для души. У меня нет экипажей, карет, нет парадных лошадей, ливреи, дворцов, нет повара француза, нет тысячи безделушек, которыми нас наделяет мода; но я купаюсь (если можно так выразиться) в книгах, наслаждаюсь произведениями искусств. Смотрите, – прибавил он, – вот превосходные картины, которые передали на полотно как наши художники, так и иностранные; они служат доказательством всемогущества мысли в борьбе с скудными средствами воплощения. Это истинная победа человека над веществом, это вечная его слава, это доказательство искры бессмертия его души. Творить для наслаждения, воплощать мысль, производить ее на свет ребенком, чтобы впоследствии выросла она гигантом – один только человек в состоянии это сделать. Но мы не должны этим гордиться: всякая черта человеческого творчества служит вместе доказательством его бессилия и пределов могущества.
Юрий подошел сперва к книгам, к которым ни шкафы, ни блестящая отделка не привлекали к себе. Он, который до сих пор мало занимался литературой, в особенности своей национальной, с удивлением увидел, сколько полок она здесь занимала. Дорогие исторические памятники, свидетельствующие о древней жизни славянского племени, собраны в одно целое. Один только шкаф был посвящен отборным произведениям человеческого ума, остальные принадлежали польской литературе.
Напротив висели избранные картины. Они изображали происшествия минувших времен, лица великих людей; в них отражалась мысль художников, религиозное вдохновение, или верно изображенная физиономия нашей страны.
– Эта коллекция, – сказал Граба, – более всего мне стоит; но богатый человек обязан ее иметь, а также и библиотеку. Я предпочел оставить моему сыну это богатство вместо лишних капиталов, которых у него и без того много. Если у него будет гораздо меньше денег, я спокоен за него, потому что он приучен к труду. Портфели, которые вы здесь видите, дополняют галерею моих картин. Здесь вы найдете прекрасные и нередко художественные произведения людей, о которых вам не приходилось даже слышать. Это древняя икона Яна Велики, это вдохновленная кисть Яна из Ниццы, эта резьба, изображающая лик Божией Матери, Вита Стосса, а далее Любенецких, Кунца, Лексицкого, Чеховича, Плонского и произведения Шмуглевича. Потом вы можете лучше рассмотреть этот музеум. Вот моя роскошь, даже грех, если хотите; но совесть не может упрекнуть меня, что я когда-либо пожертвовал творениям искусств и фантазии аматера строгими обязанностями жизни. Хотя искусство я считаю потребностью жизни, даже насущною необходимостью, как хлеб и воздух, а тех, которые не понимают его и не находят в нем надобности, я считаю уродами; однако, обязанности к ближнему я ставлю на первом плане.
– О, помилуйте, – сказал Юрий, – вы чересчур строги!
– Нужно быть строгим в особенности к самому себе, иначе нельзя быть справедливым. Все можно простить людям, себе – ничего: это мое правило. Пойдем далее!
Они вошли в небольшой арсенал, прекрасно устроенный. Гость, который был лучшим знатоком оружия, нежели книг и картин, не мог надивиться их богатству, доброте и устройству.
– Вот еще продолжение моей роскоши, – прибавил скромно хозяин, – ив этом тоже я должен дать вам отчет.
– Разве и это требует объяснения?
– Слушайте меня; объяснения – страсть моя. Мысль, заключенная во мне – беспокоит меня; высказавшись, я чувствую облегчение. Я собирал древнее оружие; есть у меня новое. Наш народ был храбрый народ, а потому оружие есть самый характеристический памятник его мужества. В нем, в его форме и украшениях – более истории, чем предполагают даже сами историки. Эти булаты, булавы, топоры, чеканы, луки, самострелы, карабины, кинжалы, камки, щиты, копья, рогатины долгое время были единственным орудием наших предков, большая часть которых кончили жизнь свою с ними в руках, на груди, на боку. Они составляют дорогие памятники, облитые кровью; каждая ржавчина на них не слеза ли умирающего на поле брани, или последняя капля крови героя? Что касается нового оружия, я хочу оставить его своему сыну. Мы сделались слишком изнеженными; все, что закаляет и укрепляет тело, что развивает мужество и ловкость, теперь нам очень нужно. Цивилизация в чужих странах приняла ложное направление; она развивает роскошь, как дерево с большими листьями, не приносящее плода, она выжимает из нас соки, заковывает в цепи, ослабляет, и из человека делает только прекрасную куколку, завернутую в футляр и вату. Я сам иначе понимаю прогресс цивилизации, и потому я воспитал сына, как закаленного мужчину. Развитие мысли нисколько не мешает силе тела; ложный софизм доказывает, что одно приобретается за счет другого. Крепкие силы души нисколько не уничтожают сил тела, но те и другие находятся в неразрывном согласии.
Я прежде выучил самого себя, теперь учу сына не страшиться ничего, что для нежных сынов этого века кажется почти убийственным. Мы умеем преодолеть голод, жажду, холод, нужду, – словом, страдание. Средством для развития телесной силы я употребил охоту, которая подвергает различным физическим неудобствам и борьбе с природой. Мы оба умеем тоже копать, пахать и заниматься садоводством.
– Как копать, пахать? – спросил Юрий.
– Да, – ответил Граба, – и вы не сыщите в целой деревне человека, который лучше меня проведет соху.
– Вы пробовали идти за сохой, за плугом?
– И не один раз. Для меня это не было желанием отличиться, или причудой, игрушкой; нет, в этом я видел серьезную цель.
– Можете ли сказать какую? Разве этого не сумеет каждый крестьянин?
– Без сомнения; но я научил крестьян деревенскому труду. Вообще ремесла и хлебопашество в каком-то пренебрежении; крестьяне сами привыкли быть в унижении; нужно, чтобы мы лично убедили их, что назначение земледельца, который в поте лица дает хлеб свету, не только не ниже других занятий, но даже благороднее.
Я постоянно твержу своим крестьянам, что их быт и труд я уважаю. Наша обязанность поднять их нравственно; а показывать им, что их самопожертвование и труд достойны презрения – в вышей степени неблагородно! Однако это делает всякий, кто, стараясь возвысить быт и ум бедного мужика, не развивает в нем убеждения, что хлебопашество не мешает развитию ума, и рука, подымающая плуг, благороднее многих изнеженных рук, покрытых перчатками.
Юрий не переставал удивляться.
– Но если вы один раз попробуете пойти за плугом или сохой, вы ничего не сделаете. Они сочтут это вашей фантазией, примут за шутку. Если бы уважение, которое я питаю к земледельцу, не подтверждалось всеми моими действиями, то они бы непременно приписали это моей фантазии. У нас обыкновенная награда: принять во двор; дворовый находится в большем почете; а у меня наоборот. Я сам уважаю седину моих старых хозяев, и все ее уважают; поэтому ни один из моих крестьян не захочет переменить своего положения, но стремится, по возможности, к улучшению благосостояния своей души и тела. Удовлетворяя потребностям тела, я не забыл обратить их чувства на путь истины, склонить к добру, а ум – к высшим потребностям. Теперь, когда они это почувствовали, я спокоен за их будущее. Великие и полезные реформы не скоро исполняются: «Тише едешь, дальше будешь», говорит пословица. В природе все, что должно существовать – растет и создается медленно; одно лишь уничтожение быстро. А потому я не могу надеяться исполнить для крестьян все, о чем мечтал и мечтаю; но Бог милостив! Другой исполнит за меня. Мы начинаем, а Провидение приводит благую мысль в исполнение; будем сеять, и зерно не пропадет даром!








