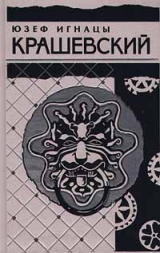
Текст книги "Чудаки"
Автор книги: Юзеф Крашевский
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 16 страниц)
Пани Сумина.Бог не дал здоровья ни мне, ни детям моим, – это одно только мое желание; несмотря что они румяны, однако, нежны, как барские дети. Мой Володя немного здоровее, но я еще более боюсь за него, потому что таким точно был и другой, пока не получил лихорадки, которая изнурила его так, что он до сих пор не может поправиться.
– Ох, не жалуйтесь, пани Янова, – перебила ее старушка, которой надоело молчать. – Когда вырастут, соберутся с силами. Помните ли, пан конюший, мою молодость? Уже не мало лет прошло, это было еще за Понятовского. Благодаря Бога, я теперь довольно полна, а бывало покойница моя мать, Кунигунда из Драбских, всегда полагала, что я не выросту, до такой степени я была худа. Однажды сам князь Сапега, будучи в доме моих родителей…
Подали кофе. Кто бросился разливать, кто подавать, кто кормить, тот сахару добавлял, другой превозносил сухарики. Дети положили на стол ручонки, оперлись подбородками о его края и с детским любопытством смотрели на разные лакомства, но не наскучали, хотя сухарики им не давали покоя.
Чем только нас не угощали: и грушами, и яблоками, кофе, чаем, медом, орехами, булочками, сухариками, крендельками и разным пирожным; словом все, что только было в доме, выложили на стол, и всего нужно было попробовать. Грушу привил сам хозяин, отводни яблони привезла пани Янова, орехи в Замалинном имели особенный вкус, мед был лучше липца. Мы ели с аппетитом, чему хозяева были очень рады. Среди веселой беседы незаметно, как прошло время. Настали сумерки и все наперебой просили нас остаться ночевать; но конюший, сказав каждому приятное слово, раздав детям гостинцы и пану Яну тоже что-то в руку, собрался ехать домой. Все провели нас на крыльцо, усадили в экипаж и стояли, пока мы не исчезли из глаз. Я с искренним чувством простился с этой доброй семьей. Другой заметил бы здесь много смешного; но не смешны ли мы тоже в своем роде? В наше время честные, откровенные и гостеприимные люди – редкость. Я восхищался привязанностью матери, трудолюбием отца, которым он содержит всю семью; в бабушке я уважал христианскую беззаботность и спокойствие духа среди бедности. Даже дети увлекали меня своей наивностью и простотой.
Мы уже были за воротами, когда к ним подъехал какой-то всадник; я не мог его узнать, мне показалось, будто это был Ян Граба; но что ему здесь делать? Конюший говорил, что он его хорошо заметил и что он ему поклонился.
Будет с тебя на сегодняшний день. Прощай,
твой Юрий.
XX.Эдмунд к Юрию
Вчера мы были у Мари на большом званом обеде, который давал Станислав N. Был разговор о тебе; мы пили за твое здоровье. Воспоминание о тебе и последнее письмо преодолели мою лень – я сел писать. Бедный мой поселянин, несчастный Цинцинат! Вскоре мы будем воспевать тебя в акафистах: «Преподобный Сумин, моли Бога о нас!» Что с тобой сделалось! Я со страхом смотрю на тебя с тех пор, как ты облекся в мантию философа-хозяина и превратился в добродетельного человека. Боюсь за себя, чтобы и со мной не случилось такой беды. Боже, и я скучал бы, как ты! Ну, признайся, наконец, любезный, положа руку на сердце, ведь ты ужасно скучаешь, только, сжав зубы, не хочешь признаться. Нет, со мной этого не будет – я не дурак! Теперь ни за что не поеду в деревню: она точно смола, дотронься только до нее – прилипнешь. Я люблю город, в нем я живу как рыба в воде. Преподобный мученик Сумин, ты мне уже надоел своею моралью, своими физиологическими картинами, и ребяческой наивностью. Ты цветешь осенью, любезный! Пиши ко мне о чем-нибудь другом. Ты сам, твой Граба, конюший, пан Петр просто сумасшедшие; пани Лацкая какая-то замерзшая героиня; вся вереница твоих полесчан просто костью в горле стоит у меня.
Расскажи какую-нибудь другую новость. Кончай скорее с своей Ириной, с которой вы вместе напоминаете баснословную историю Колеандра с Леонильдой: смотрите друг на друга и не можете сказать того, что вы прекрасно знаете. В девятнадцатом ли это столетии! Сколько мне помнится – ты ее страстно любишь, зачем же медлить? Разве хочешь, чтобы она досталась другому? Это непременно наступит, если ты будешь откладывать. Женись, приезжай в Варшаву и брось твое несносное Полесье. Этот совет дает тебе искреннейший друг
Эдмунд.
P.S. Я писал в дурном расположении духа – проигравшись, и был несовсем здоров: обед у Мари повредил мне. Извини, мне лень переписывать письмо, пиши, о чем хочешь, только пиши – твои письма нужны мне, я привык к ним; после обеда я сажусь в кресло и, читая их, засыпаю. Они не вредят моему пищеварению. Пиши о чем-нибудь и женись, если можешь. – Dixi.
XXI.Юрий к Эдмунду
Вчера я был в Румяной; застал одну только m-me Лацкую у камина, молчаливую и скучную, как всегда. Я спросил об Ирине, она ответила, что Ирина нездорова.
– Нездорова? Лежит в кровати?
– Нет, она не лежит, но у нее болит голова и нервное расстройство (причем, она пожала плечами). Впрочем, я не знаю, что с нею.
– Но нет никакой опасности?
– О, нет! Ей только нездоровится.
Вдруг растворилась дверь и вошла Ирина. Она действительно была расстроена и краснее обыкновенного; грусть пробивалась на ее прекрасном лице.
– Вы больны? – спросил я. – Я не хочу вас беспокоить: здравствуйте и прощайте.
– О, нет, я вас прошу остаться m-r Georges. Я только чувствую слабость и усталость; впрочем, мне ничего.
Мы сели; m-me Лацкая взяла книжку, которую она прежде читала, прошлась по комнате, незаметно улыбаясь, и ушла.
Сначала разговор был общий: меня спросили о Грабе, о конюшем, даже о капитане; опершись на спинку кресел, Ирина имела изнуренный и страдальческий вид. Я вторично хотел проститься, но она опять удержала меня.
– Вы мне нужны, – сказала она, – разве вы этого не видите?
– Как опахало от мух – опахало от скуки.
– Кто ж скучает? – спросила она. – Вы можете думать, что хотите.
Она пожала плечами.
– Вот уже год, как мы знакомы, а вы, как вижу, вовсе еще не знаете и не понимаете меня.
Я молчал.
– Видите, – сказала она, наклоняясь, чтобы поднять книгу, – вы мне нужнее, нежели сами предполагаете. Эта книга – это письма Якова Ортиса. Я вас прошу почитать мне ее.
– Такую грустную книгу!
– Как я – будет кстати.
– Вы грустны?
– Какой вопрос! Никто не хочет понять меня; бывают иногда минуты, что я сама себе не доверяю. Ну, читайте, пожалуйста.
Я начал.Не знаю, читал ли ты письма Якова Ортиса. Ирина остановилась на письме 29-го апреля, и я должен был начать от слов, которые странно изображали мое настоящее положение.
«Vicino a lei sono, si piena délia esistenza…»
(Я близок к ней – столь полной жизни).
Я прочел до места, в котором Ортис изображает себя и ее:
«La pazza figura ch'io ho quand'ella siede lavorando, ed io leggo!»
Ирина именно тогда взяла работу, мы посмотрели друг на друга; она грустно улыбнулась, я продолжал читать:
«Я переведу тебе то, что мы читали, ты знаешь итальянский язык по одним либретто.»
«Какой у меня забавный вид, когда она сидит и работает, а я читаю». Перебиваю свое чтение за каждым словом, а она «читайте далее»; я возвращаюсь к чтению, но, не закончив двух страниц, читаю все скорее, и кончаю одним невнятным бормотаньем: – «Тереза сердится».
– Вы, в самом деле, читаете так скоро и невнятно, как Ортис, – перебила Ирина, – хотя перед вами сидит не Тереза.
– Прикажете читать тише? – спросил я.
– Да, тише.Ах, какой вы скучный с своей покорностью. Читайте, как хотите.
Я продолжал читать; но далее следовали картины, полные чувств, которые при ней воспламеняли меня.
Опасно читать любимой женщине книгу, в которой изображается душевная борьба, и ты не смеешь сказать ей об этом: губы, глаза, голос поминутно обличают твое внутреннее состояние. Мы прочли историю Лореты и остановились на 14 мае. Я прежде еще читал письма Якова Ортиса, и потому не хотел продолжать дальше.
– Вы первый раз читаете эту книгу? – спросил я.
– Первый.
Я хотел как-нибудь вывернуться от письма 14 мая, но не было возможности; нечего делать – нужно было продолжать. Слова любви на сладкозвучном, приятном и певучем языке, полные нежного чувства, сильно подействовали на мое сердце, я с трудом удерживал собственные мысли, которые чуть не сорвались у меня с языка, и читал:
«Si Lorenzo odilo! La mia bocca e umida ancora di un baccio di Teresa…»
(Если бы Лоренцо мог это слышать? Мои уста еще влажны от поцелуя Терезы).
Ирина склонила голову к работе; я перескочил к другому письму того же числа.
«О quante volte ho ripigliata la penna, e non ho potuto continuare…»
(О сколько раз я снова брал перо, и не мог продолжать…).
– Я тоже не могу продолжать! – закрывая книгу, воскликнул я.
– Вы? Что ж это значит?
Я… чуть было уже не проговорился, что не могу читать при ней хладнокровно, когда буря в сердце, но удержался:
– Отчего вы не можете читать? – спросила она опять.
– Оттого, что не хочу, это такая скучная вещь. Дайте я там прочту что-нибудь другое.
– Но мне нравится Ортис.
– Я не люблю его – он растянут и монотонен; по крайней мере, пропустим несколько страниц.
Она пожала плечами.
– Я вижу, – прибавила она, – что вы неслыханный скромник. Ведь я знаю, что Ортис имел влажные уста от поцелуя Терезы; будем читать описание этого момента – это любопытно в художественном отношении: передать чувства на бумаге, сжать их в словах – дело хорошего художника.
– Ах, вы холодны, как лед! – воскликнул я. – Вы смотрите на эту книгу чувств с критической точки зрения; он изгнанник, и потому он верно изображает в ней свое сердце.
– И вы думаете, что можно писать сердцем? – равнодушно спросила она.
– Почему же нельзя?
– Потому что кто чувствует, тот не пишет; выражения чувств – это одно лишь воспоминание. Кто сел писать, тот уже перестрадал и перечувствовал.
Я молча перелистывал книгу.
– В отношении искусства, – прибавил я, – Ортис не сравнится с Вертером.
– Вертера писал художник, который сам никогда не чувствовал (доказательство – жизнь этого Юпитера), но превосходно знал анатомию чувств, как Cuvier, который, не видя мастодонтов, отгадывал их организацию.
– Можно ли так строго судить того, кто создал любовницу Фауста?
– Конечно, потому что жизнь писателя – это камень испытания.
– Нет, вы ошибаетесь; мне кажется, что жизнь поэта разделяется на две категории: обыденная и праздничная жизнь; часто между ними целый мир противоречий: в одном теле заключены два человека. Поэт не может в течение всей своей жизни обладать даром вдохновения.
– Все же хоть тусклая искра остается в нем навсегда.
– Мы затронули слишком высокий вопрос.
После минутного молчания она прибавила: «читайте дальше».
У меня выпала из рук книга, я смотрел на нее глазами, какими смотрел Яков на Терезу; но пугливая любовь боялась сойти с языка, не зная, что ее ждет. По глазам только можно было прочесть мое желание. Я чувствовал, что нужно было или уйти, или же все высказать в одном слове.
Ирина бросила на меня магический и испытующий взгляд, который, казалось, готов был вырвать тайну из моей груди. В беспамятстве я схватил шапку.
– Куда вы? – спросила она.
– Я?.. Не знаю… (сам не помню, что ответил, бросил опять шапку, и сел вдали на стул).
– Что с вами?
В отчаянии, как молния, промелькнула у меня мысль сказать ей все, а потом уехать, уехать навсегда.
– Вы меня спрашиваете? – возразил я с лихорадочным беспокойством. – Год уже, как я гляжу на вас, страдаю, молчу – этого довольно, даже слишком много. Пускай осуждают меня, пускай говорят, что хотят, наконец, оттолкните вы меня с презрением, – удивлю ли я вас, если сорвется с моих уст давно давящее меня слово – люблю!
Ирина была, видимо, взволнована; голос замер на моих устах, я чувствовал, что решается моя участь, но не знал чем закончить и быстро подошел к Ирине.
Она молча подняла свои красноречивые глаза; долго, долго смотрела на меня, и наконец, подала свою дрожащую руку.
Это была минута настоящего блаженства и немого счастья; нет слов, чтобы выразить ее и никто не в состоянии описать этой торжественной минуты. Ее дрожащая рука в моей руке – это был брак перед Всевидящим Оком; потому что такая женщина, как она, не подает напрасно руки мужчине, не связав ее навсегда с судьбой любимого человека.
Мы долго еще сидели – она на диване, я возле нее на стуле, в торжественном и упоительном молчании. Наконец, она встала и слабым голосом проговорила:
– Можно ли тебе верить? Неужели ты, ради минутного, легкомысленного счастья, сделаешь своей игрушкой всю жизнь женщины?
Я не нашелся, что ответить, клятвы оскорбили бы ее и меня; но по глазам моим и по нескольким несвязным словам она видела, что я не лгал. Я уехал в упоении, как безумный; еще теперь пишу в горячке, вероятно, уже последнее письмо – счастливые не пишут. Прощай,
Юрий.
XXII.Ирина к мисс Ф. Вильби
Румяная, 11 ноября 18…
Вперед прошу тебя, милая Фанни, не удивляться растянутости моего письма; я хочу тебе открыть все то, что касается меня, чтобы, прочитав мою историю, ты вознесла с молитвою глаза к Всевышнему. Я верю в могущество благословения и в силу желаний истинного друга. В последнем письме [6]6
Мы не имеем под руками этого письма
[Закрыть]я извещала тебя, сколько мне помнится, что отношения наши не переменились. Мой опекун, хотя не препятствует с прежней злобой Юрию искать моей руки, чему, впрочем, нет явных доказательств, но он предугадывает это инстинктом своей привязанности ко мне, тем не менее пользуется еще всяким случаем, чтобы представить мое будущее в мрачных красках. Но теперь он обратил на него все внимание и даже переменил прежнее, невыгодное о нем мнение, сделался к нему добрей и теперь только молчит.
Однажды, когда разговор зашел об Юрии, конюший отозвался:
– Конечно, и теперь не иначе скажу: он ветрогон и больше ничего; но имеет хорошее основание, характер, в нем течет благородная кровь. Его-то вполне винить нельзя – сирота, пущенный на волю, он шел, куда глаза глядят.
– Слава Богу, вы сами стали оправдывать его.
– Нет, милостивая государыня, вы ошибаетесь, я нисколько не оправдываю его. Он шалопут, вертопрах, но что делать: нужно принять его, каков он ни есть.
– Вы говорите, что его нужно принять? – спросила я с улыбкой.
Старик испугался.
– Напротив, не нужно его брать! Зачем его брать, пускай черти берут его!
Он посмотрел на меня, я улыбнулась.
– А что, – сказал он, – пока я разъезжал по делам, не сделал он тебе втихомолку предложения?
– Нет не он, но я, может быть, сделаю ему предложение, потому что другого исхода не вижу.
– Так вот до чего дошло! Старик ломал руки.
– Он любит меня.
– Ба! Нет ничего удивительного!
– И я его люблю.
Он схватился за голову, побежал по комнате, возвратился назад и воскликнул:
– Не пугай меня! Правду ли ты говоришь?
– Я люблю его, – повторила я опять.
– Теперь только остается, – сказал он с горькой иронией, – поехать в Западлиски и сделать ему предложение, а потом заехать за ним в карете и взять его в Румяную. Прекрасно, прекрасно!
– Ну, а если дошло до этого?
– Это безумие!
– Называйте, как хотите.
– Подожди, по крайней мере, пускай он сделает тебе предложение.
– Но он такой застенчивый, я никогда от него не дождусь этого.
– Он застенчивый? Маленький ребенок, бедняжечка!
– По крайней мере, он никогда ни слова не говорил мне об этом.
– Расчет! Цыганская штука!
– Можно ли так осуждать человека?
– Я не осуждаю его, но боюсь.
– Бог поможет.
– Эх! Знаете ли вы пословицу: береженого – Бог бережет. Я твой опекун и не хочу им быть на одной только бумаге. Помилуй, не делай скандала – ожидай!
– Хорошо, я буду ждать. Он поцеловал мою руку.
– Но если уже на то пошло, вы не будете, папаша, сопротивляться?
Старик подумал.
– Разве ты не делаешь со мной все, что захочешь? Эх, не будь я так слаб, имей я более власти над самим собою, я никогда не согласился бы на этот брак.
После этого разговора он уехал, и как сам сознался мне теперь, поехал прямо в Западлиски. Он уверял Юрия, что во мне нет никаких чувств, что я безжалостно отказала нескольким искателям моей руки, что я живу одним разумом, но не чувством; он надеялся отклонить Юрия от предложения. Усилия его были напрасны, потому что Юрий никогда не был слишком смел со мною. Наконец, настала решительная для меня минута. Я была не совсем здорова, приехал Юрий. Лацкая, по обыкновению, ушла, чтобы не быть свидетельницей нашего разговора, который чрезвычайно раздражал ее. Я просила его читать мне книгу; на столе, как будто нарочно, лежали сочинения Якова Ортиса. Ты верно знаешь Ортиса? Фосколо издал их в первый раз в Лондоне.
Когда мы дошли до страстной сцены между Терезой и Яковом, он не решался читать далее. Я напрасно настаивала, он не хотел продолжать; он не мог скрыть своего волнения; чувство, раздраженное чтением, рвалось наружу. Может быть, и я, потеряв терпение, довела его до неизбежного признания, которого он боялся. Наконец, он открылся – у меня не хватило ни слов, ни силы; молча я подала ему руку, мы разговаривали только глазами. Он любит меня; я почувствовала бы, если бы он лгал: притворство обнаружилось бы в словах, в движениях, но нет, он любит меня! А я… зачем писать? Я люблю его также горячо и всегда буду любить. Пишу эти слова, и у меня потемнело в глазах: человек часто в жизни произносит это слово всегда, но оно бывает так непродолжительно. Грустно, печально, страшно даже на пороге самого счастья!
На другой день мы увиделись только вечером; он приехал с конюшим. Старик целый день провел в Западлисках, но о вчерашнем разговоре ничего не знал. Я встретила их с радостным и сияющим лицом; конюший, посмотрев на меня, вероятно, догадался, потому что все это время он упрекал меня, что я грущу. Действительно, я просияла от радости и помолодела, – такая быстрая перемена не могла быть без причины. Конюший, заметив это, сказал мне мимоходом:
– А может быть, уже сделано предложение?
– Отгадайте? – спросила я шутя.
– Ты готова сама броситься на шею! – сказал он нахмурившись.
– Я? Нет!
– Так он дерзкий! Этого-то я не ожидал.
Чуть заметная грусть и ревность выразились на его лице.
– И так он отнимает тебя! – воскликнул старик. – Ты не будешь любить меня. Он все еще сердится, я сделал ему столько зла!
– Пан Юрий, – возразила я, – вы ведь любите пана конюшего и не помните зла?
Этот неожиданный вопрос озадачил Юрия.
– Без всякого сомнения, я уважаю деда и не помню зла, которое он сделал мне.
– О, нет! Не верю, – ответил конюший, качая головой, – ведь я немало насолил тебе. Теперь нечего вспоминать старое, не правда ли?
– Как теперь? – спросил Юрий.
– Неужели ты думаешь, что я ничего не знаю?
У старого, почтенного Немврода навернулись слезы на глазах.
– Слушай, хлопец, – сказал он серьезно, – против воли Божией не пойдешь, я напрасно ломал бы голову, чтобы разорвать то, что Бог сказал: видно, судьба! Но помни, помни, что это не пустая шутка! Бог дает тебе просто ангела, а не женщину: умную, с характером, красивую, добрую, и если ты не постараешься быть достойным ее, ну, так, знай… если ты не сделаешь ее счастливой, как Бог на небе – отомщу, помни это, о, безжалостно отомщу!
Юрий поцеловал его в плечо; они обнялись; конюший заплакал, потом сел около стола и задумался.
Выслушай еще другую историю, милая Фанни, которую Юрий рассказал мне. Он был тогда у Грабы, когда конюший приехал в своей бричке с таинственным видом и с иронически-злобной улыбкой на устах. Еще у крыльца он спросил:
– Ну, дорогой сосед, где ваш сын?
– Кажется, поехал на охоту, – отвечал Граба.
– Ой ли?
– Мне кажется.
– Теперь не время охотиться. Можете ли вы уделить мне свободный часик?
– Я весь к вашим услугам.
– Можете ли вы поехать со мной за несколько миль?
– С удовольствием. Он обернулся к Юрию.
– Ну, и пан Юрий тоже.
– Я сейчас уезжаю в Западлиски.
– Нет, пан Юрий тоже с нами поедет, – ответил конюший.
– Куда это?
– О, какое любопытство! Узнаете куда!.. Ну, а если б в Замалинное, навестить наших добрых Суминов?
– С большим удовольствием! – ответили оба и поехали все трое.
В этом путешествии скрывалась тайна. Конюший тер руки, с беспокойством все высматривал, скоро ли они приедут. Приближаясь к двору, он высунулся из брички и указал старому Граба на привязанную к забору лошадь:
– Не Сарнечка ли это пана Яна (так называлась его верховая лошадь)?
– Да, в самом деле, – сказал Граба, – это Сарнечка Яна.
– Что пан Ян делает здесь? – смеясь, спросил конюший.
– Что? Он, как и мы, приехал навестить Суминов, – равнодушно ответил отец.
– Кажется, он частенько приезжает сюда?
– Нет ничего удивительного, они очень добрые люди.
Конюший полагал, что Граба будет сильно удивлен, увидав своего сына в бедной хижине, но ошибся в предположении и замолчал. Мы молча подъехали к крыльцу. Конюший прошел на цыпочках через гостиную, ведя за собою пана Грабу.
Старушка, мать Сумина, дремала над чулком; панна Юлия, ее дочь, вышивала в пяльцах у окна; Ян Граба сзади ее читал вслух книгу.
Неудивительно, что они не услышали, когда мы приехали. Конюший указал рукой отцу на эту парочку, как будто хотел сказать: а что? Отец улыбнулся.
В гостиной все уже зашевелилось. Бабушка сорвалась с подушек, воскликнув:
– О, Иисусе Христе, Пресвятая Дева! Пан конюший!
Ян отскочил, покраснел; барышня не успела поклониться – убежала.
Однако понемножку все пришло в нормальный порядок; и хотя на лицах выражалась еще тревога, но спокойный и веселый вид пана Грабы, самой страшной здесь фигуры, вскоре успокоил суматоху в доме. Конюший, полагая, что отцу нужно объяснить какие отношения связывают его сына с бедным шляхетским домом, постоянно преследовал Яна и Юлию вместе. Граба, как будто не замечая этого, был очень весел, с хозяином разговаривал о хозяйстве, с бабушкой о генеалогии, с девицами о цветах. Юлия бросала на него испуганный взгляд, как будто умоляющий о пощаде; сын был грустен, но покоен.
Перед самым почти отъездом, когда все поднялись со своих мест, старый Граба подошел к пани Терезе со следующими словами:
– Я приехал сюда не столько для того, чтобы навестить вас, сколько по другому более важному делу.
Все побледнели; конюший зажал рот, ожидая, что будет.
– Я упросил папа конюшего приехать вместе со мной, чтобы торжественно просить руки вашей дочери для моего Яна.
Старушка от удивления не могла промолвить ни одного слова; она не верила своим ушам, ломала руки и упала в кресло.
– Я знаю о его привязанности к панне Юлии, знаю, что вы считаете этот брак неровным, и вежливым образом давали ему заметить о напрасном посещении вашего дома; знаю, что Ян с терпением перенес все, любит панну Юлию, и во всех отношениях будет с нею счастлив, и потому прошу руки вашей дочери для моего сына.
Кто в состоянии описать удивление конюшего, радость честной семьи, и чувство, с которым сын бросился отцу на шею, а старушке к ногам. Действительность показалась сном этому бедному семейству; все плакали от радости; Юлия была почти без чувств. Конюший после минутного остолбенения, потому что никогда не ожидал такого конца, схватил Грабу за руку, сильно пожал ее и сказал:
– Сто тысяч чертей! Я никогда не ожидал этого! Да вознаградит тебя Бог!
Это была чисто драматическая сцена. Юрий был свидетелем ее и потом с увлечением рассказывал мне ее весь вечер.








