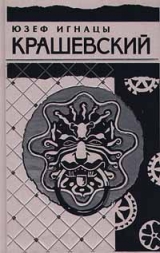
Текст книги "Сиротская доля"
Автор книги: Юзеф Крашевский
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 19 страниц)
Адольфина стала еще красивее; перед нею исчезала и бледнела прекрасная Люся, и утомленная, хотя еще красивая, но уже осенней красотой пани Серафима.
Мечислав стоял еще в изумлении, когда Адольфина сама подбежала к нему.
– Что ж это, вы не узнаете старых друзей? – сказала она ему, протягивая обе руки.
– Имел бы право, потому что вы так… так…
– Изменилась и подурнела, не правда ли? – спросила шаловливая Адольфина.
– О, не вызывайте же меня на…
– О, мне ничего не надо, кроме старинной дружбы.
– Она не угасла.
В ту же минуту, едва успев снять шляпку, Адольфина вбежала на крыльцо.
– Как здесь мило, прелестно! – восклицала она, хлопая в ладоши. – Что за игрушка этот Ровин! Как вам должно быть здесь весело и как любезна пани Серафима, что пригласила нас сюда!
Прибытие гостей снова оживило старинную резиденцию, однако пани Серафима на другой день заметила, что веселье это и умножение общества не только не принесло нового счастья, но смутило и частицу прежнего. Она уже не была свободна, ей казалось, что людей уже много, что она слишком уже занята, что теряет Мечислава… Это было нечто вроде предчувствия опасности, которой, однако, она видеть не могла и которой до тех пор не знала.
Графу общество пани Буржимовой и в особенности веселость Адольфины доставляли большое удовольствие. Он благодарил племянницу за подобную счастливую мысль.
Возвратясь к себе, Мечислав почувствовал какое-то раздражение и беспокойство. Он несколько раз встречал глаза Адольфины, каждый взор которых волновал его до глубины души, и он видел, как забытые сны вставали снова, пробуждались нелепые надежды, как убегало добытое трудом спокойствие. Он радовался ее прибытию, но и почти гневался на нее. Адольфина была безжалостна и не раз заходила так далеко, что Мечиславу необходима была вся сила воли, чтобы не увлечься и не позабыть о своем положении.
После долгих раздумий он сказал себе наконец, что через два дня должен придумать какое-нибудь настоятельное дело в В… и возвратиться в город. Безопаснее всего было уйти от чародейки: так повелевал рассудок. Дальнейшее пребывание в Ровине могло быть Для него опасным: он знал, что не совладает с собою.
Ничего не говоря сестре, он твердо решил привести намерение свое в исполнение.
Весь другой день прошел в болтовне, к которой охотно присоединилась пани Серафима, оставив дядю и пани Буржимову за игрой в экарте и беседой о Париже. Мечислава не отпускали, он обязан был помогать, болтать со всеми вместе и прислуживать. В особенности Адольфина была в отличном настроении, хотела ка-| таться по озеру, бегать по саду, посетить все его углы – одним словом, пользоваться всеми удовольствиями Ровина. Несколько раз! молодой доктор собирался ускользнуть, но его немедленно призывали громкие голоса и поневоле приходилось повиноваться.
Точно так же прошел и следующий день. Вечером Мечислав тихо заявил хозяйке, что должен отлучиться на короткое время по весьма важному делу.
Чрезвычайно удивленная пани Серафима смутилась, видимо, была недовольна и, схватив его за руку, просила объясниться, ибо догадывалась, что под этим что-то кроется.
Мечислав только уверял, что дело для него важное, хотя отнюдь не тревожное, и, уклоняясь от расспросов, удалился поспешно.
Все разошлись. Люся начала прощаться с пани Серафимой, когда последняя позвала ее на минутку в свою комнату.
– Скажи мне, пожалуйста, что сделалось с твоим братом? Зачем он уезжает? Ведь он ничего не говорил прежде. Не знаешь ли ты причины?
– Решительно ничего не знаю. Он сказал мне только вообще, что должен уехать.
– Но что же тебе кажется? Что это может быть? – настаивала пани Серафима.
– Что-нибудь не очень важное, какое-нибудь студенческое дело, а иначе он не таился бы от меня. Могу похвалиться, что пользуюсь полнейшим его доверием, – он говорит мне все… Что-нибудь пустое.
– Тем более он должен был бы тебе довериться.
– Я и не допрашивала, – отвечала Люся, – но убеждена, что ничего нет серьезного.
Пани Серафима, видя улыбку на лице Люси, перестала расспрашивать, однако ей очень хотелось бы узнать тайну. Ей казалось уже, что Мечислав не должен был иметь от нее никаких тайн.
Любопытство еще более подстрекало Адольфину, которая в свою очередь подхватила Люсю, выходившую от хозяйки, и увела ее на балкон. Ночь была великолепная. Подруги уселись на скамейке под плющом.
– Вот хорошо! – воскликнула Адольфина. – Только что мы приехали, а твой брат словно убегает от нас! Что это значит?
– Об этом именно расспрашивала меня добрая наша пани Серафима, – сказала с улыбкой Людвика. – Это ничего не может значить, кроме того, что мы, бедные, имеем такие нужды и дела, о которых вы, богатые люди, не хотите иметь понятия. Тут нет ничего удивительного. Мечиславу дорога каждая минута: ему нужны книги, или препараты, или, наконец, мало ли что.
– Скучный он педант! – прервала Адольфина. – А мы уж, значит, не стоим и препаратов!
Люся поцеловала подругу.
– Милая моя! Вся наша будущность зависит от его труда.
– Ах, милый друг, я знаю об этом и не могу сердиться, т. е. не должна бы, а между тем злюсь на него… Так было здесь с ним весело и приятно.
Люся вздохнула и задумалась.
– Я, – сказала она, – не удивлялась бы даже брату, если б он бежал отсюда единственно для того, чтоб не избаловаться. По крайней мере, мне приходило не раз в голову, что вы нас портите… Мы помогаем вам развлекаться, но за то сами привыкаем к праздности, усваиваем несвойственные нам обычаи, отвыкаем от труда… Потом приходится замкнуться в тесную комнатку, сесть за работу, и в то время нужда покажется еще тяжелее.
– Может быть, это и правда, – молвила Адольфина, – но, с другой стороны, чья же жизнь бывает золотистой тканью без черных узелков? Вас обоих с братом так щедро одарил Господь, что вы скоро должны выйти из этого положения.
– Каким же образом?
– Не знаю, но должны! – воскликнула Адольфина. – Вы созданы для другой, лучшей жизни.
– Мечислав, может быть, но не я. О, Мечислав очарует каждого, кто его узнает, – продолжала Люся, – ему невозможно противиться, он привлекает сердца, сам об этом не думая.
Люся наклонилась к подруге.
– Знаешь ли, Дольця [6]6
Уменьшительное Адольфины.
[Закрыть], – шепнула она. – Но нет… я не смею сказать.
– Как! Не смеешь мне сказать?
– Потому что, может быть, это фантазия, хотя сердце сестры и угадывает, что творится в родственном сердце брата.
– О, говори, что же там творится? Ты мучишь меня.
– Я еще и сама не знаю.
– Но что же тебе кажется?
– Так, ребячество! Мечислав для меня такой идеал, что я готова каждого заподозрить в любви к нему.
– Например? – спросила Адольфина, слегка дрожащим голосом. Люся наклонилась еще ближе, прикрыв губы рукой и прошептала:
– Серафима.
Адольфина, несмотря на сдержанность, выпрямилась и воскликнула:
– Не может быть!
– Почему?
– Почему? О, я не знаю… но не думаю, – прибавила Дольця, качая головкою, – нет, нет!
– Я не спорю, хотя… может быть, и имею доказательства.
– В таком случае говори откровенно, все говори, – сказала подруга, крепко взяв Люсю за руку, – умоляю!
Люся не заметила горячности, с какой были произнесены эти слова.
– Трудно было бы рассказать и передать тебе все оттенки и мелочи, замеченные сестринским взглядом, а может быть, и созданные боязливым сердцем… Пани Серафима очень добра к нам, душа ее открыта для каждого… но для Мечислава, говорю тебе, она более чем сестра. Она его так понимает, угадывает, так согласна с ним.
– Ты находишь? – холоднее и сдержаннее спросила подруга.
– Имею на это тысячи доказательств, – молвила Люся. – С тех пор как мы, по вашей милости, сделали это знакомство, сколько удовольствия, сколько облегчения и сколько счастливых минут испытали мы с братом… Не раз присматривалась я к ней издали; она не сводит глаз с Мечислава, подхватывает его невысказанные еще мысли, так искренно верит в него.
– А он? – слабым голосом спросила Адольфина.
– Он, очевидно, сдерживает себя, чтоб не обезуметь, чтоб не поверить своему счастью, чтобы не влюбиться в нее.
– И это тебе кажется? – подхватила подруга.
– Но я ничего не знаю, ничего не понимаю! – воскликнула Люся, пожимая руку Адольфине. – Слежу за этим и тревожусь. Иной раз он слишком холоден, в другой раз забудется, расчувствуется… но постоянно в беспокойстве и словно в страхе.
– Так ты полагаешь, он любит ее? – настаивала Адольфина.
– Никогда я не решалась спросить его, а сама не знаю. Есть минуты, когда я подозреваю его, есть дни, когда кажется совсем другое. Знаю только одно, что бедный молодой человек должен бороться с собой, чтоб не закружилась голова…
– Да, это правда, – быстро прервала Адольфина, словно говоря сама с собою, – теперь только приходят мне на мысль вчерашние и сегодняшние его разговоры, взгляды и ее предупредительность к нему. Ты права! Мне даже кажется, что ты мало видела, а мне открываются теперь глаза. Он ее любит, они любят друг друга… Да, непременно!
И Адольфина, встав со скамейки, начала в волнении прохаживаться по балкону. Люся встала вслед за нею.
– Видишь ли, милая Дольця, – сказала она, – я чувствую сестринским сердцем, что он оттого хочет уехать на два дня отсюда, чтоб бежать этого искушения, чтобы уклониться от замеченной им здесь опасности.
– Какой опасности? – с каким-то странным смехом прервала Адольфина. – Скажи лучше, что он хочет натешиться всецело своим счастьем в одиночестве! Они любят друг друга, никто им не мешает, она свободна, он также… Посмотришь, они женятся и на этом прелестном островке окончат жизнь в тишине под тенью деревьев, при ропоте волн.
– Ты не знаешь Мечислава, – прервала Люся, – говорю тебе, не знаешь его! Я одна его понимаю. Неужели ты думаешь, что он, бедняк, захотел бы жить из милости и, вместо того чтоб быть обязанным себе и своему труду, согласился бы принять даже от любимой женщины положение, к которому не мог бы прибавить ничего от себя?
– Ты дитя, – прервала Адольфина. – Что значат деньги там, где бьется сердце? Подобная щекотливость была бы святотатством, когда идет дело о счастье жизни. Гордость была бы преступлением.
– Но у нас об этом одни понятия с Мечиславом.
– Они переменятся, когда он будет любить, – прибавила грустно Адольфина. – Желаю ему счастья, потому что он достоин его. И ты, в самом деле, полагаешь, что он уезжает от этого?
– Догадываюсь, ибо ничего не знаю, – молвила Люся.
– Когда же он уезжает? – допрашивала подруга.
– Завтра.
– Ты будешь видеться с ним?
– Непременно, потому что должен же он попрощаться с нами. Подруги ходили еще, обнявшись, по балкону, но говорили уже
о других предметах. Адольфина против обыкновения была грустна и задумчива; она приписывала это головной боли и усталости.
На другой день утро было знойное; над озером плавали облака. Все встали рано; душный воздух, тяжелый для дыхания и предвещающий грозу, не давал спать ночью. Люся пошла первая в башню к брату, который поспешно укладывал свой студенческий чемоданчик. Он в такую пору никого не ожидал и объявил, что, пользуясь утром, хочет выехать немедленно, когда отворилась дверь и вошла неожиданно хозяйка. При виде Люси она покраснела немного.
– Я шла вслед за тобою, милая Люся, – сказала она, – мне хотелось пробраться сюда под твоим покровительством и спросить еще раз у пана Мечислава, что гонит его отсюда?
– Необходимое дело, – отвечал Мечислав, – потому что иначе я добровольно не покинул бы этого рая.
Пани Серафима смотрела на него вопросительно и недоверчиво покачала головой. Люся с любопытством поглядывала на обоих.
– Не смею насильно напрашиваться на доверие, настаивая на открытии тайны, – сказала пани Серафима. – Я не удерживаю, если есть действительно необходимость, но, если б я попросила, вы остались бы?
Мечислав опустил глаза.
– Не могу, – отвечал он, помолчав.
– В самом деле вы несносный добровольный раб обязанности. Когда же возвратитесь? Скоро?
– Как только буду в состоянии. О, меня об этом просить не надо, – прибавил Мечислав, – ибо где же на свете может быть мне лучше, нежели здесь?
– А между тем вы уходите.
– Необходимость.
– Покоряюсь, не расспрашивая об этой таинственной необходимости, – отвечала пани Серафима, – но дайте мне слово, что возвратитесь, не теряя ни минуты.
Пани протянула трепетную руку, которую Мечислав схватил с чувством и поцеловал с признательностью. Стоявшая тут же Люся, которая следила за всей этой сценой любопытным взором, не пропуская ни малейшего движения, покраснела, неизвестно от беспокойства или от счастья.
– Теперь еще два слова чистейшей прозы, которые должна я прибавить в качестве хозяйки дома, – сказала пани Серафима. – Вы наняли лошадей в местечке. Я велела их отослать, ибо на это не соглашусь, так как это было бы оскорблением дому. Есть известные предания гостеприимства, которые мы свято соблюдаем в деревне: экипаж и лошади к вашим услугам, отвезут вас в В… будут там ожидать вас хоть целый месяц и доставят обратно.
Мечислав покраснел; ему пришло в голову, как эта любезность могла быть для него обременительна. Он не мог допустить, чтоб люди и лошади содержались на счет пани Серафимы, а у него в студенческом кошельке имелось очень мало денег. Отказываться было невозможно, и он поблагодарил.
– Идите, по крайней мере, позавтракайте с нами, – прибавила пани Серафима, – я велела подавать.
Надо было повиноваться. Не все еще успели собраться к утреннему чаю, и только явилась одна Адольфина, бледнее обыкновенного и какая-то робкая. Она взглянула на Мечислава, подала ему руку и уселась. Все заметили, что она была не в своей тарелке, но она приписывала это нездоровью и усталости после усиленных прогулок. Мечислав хотел что-то посоветовать в качестве медика, но Адольфина воспротивилась и покраснела, позабыв о своей болезни. В глазах у нее стояли слезы, а глаза эти постоянно с робостью обращались к Мечиславу, который даже не смел взглянуть на нее.
– Я пришла попрощаться с вами, – сказала она, стараясь быть веселой, – по всей вероятности вы уже нас здесь не застанете. Маме необходимо быть скоро дома, поедем на В… и там, может, еще увидимся, если позволите, потому что даже нам будут необходимы ваши советы и помощь: нам надобно сделать разные покупки.
Мечислав пробормотал что-то, поклонившись. Он уходил от нее, а она ему объявляла, что через два дня они должны увидеться именно там, где ему эти глаза грозили еще большей опасностью.
– О, прошу вас, – подхватила пани Серафима, – не задерживать нашего доктора, потому что мы все разболеемся: Люси пьет эмские воды, я чувствую себя нехорошо, дядя также.
Обратив это в шутку, Адольфина встала, словно ей трудно было долее оставаться, подала руку товарищу детства и вышла молча. Мечислав не мог уже изменить своего намерения и уехал тотчас после завтрака.
Он был рад остаться наедине с собой, собраться с мыслями и обдумать свое положение, исследовать состояние своего сердца. Он положительно не мог отдать себе отчета, что делалось с ним и его сердцем: он боялся Адольфины и вместе чувствовал, что добротой, приветливостью и пламенной дружбой его победила пани Серафима. Он любил и ту, и другую. Он хотел избавиться от обоих этих чувств и не мог; всю дорогу в голове его роились фантазии и по очереди являлись то черные, то голубые глаза, маня его напрасными надеждами. Разбитый приехал он в город. Лакей объявил ему, что лошади останутся ожидать, сколько будет нужно, и что ему приказано ежедневно наведываться. Мечислав хотел предложить ему денег, но молодой слуга очень вежливо отказался, уверяя, что получил такое приказание. И об этом подумала Серафима, чтоб облегчить ему всевозможные тягости. Не успел Мечислав выйти из дому, как встретил профессора Вариуса, который с удивлением поздоровался с ним.
– Что вы здесь делаете? Неужели возвратились?
– Нет, я приехал только один дня на два, за книгами.
– А панна Людвика?
– Осталась в Ровине.
– Когда же возвращаетесь?
– Скоро. Не хотелось бы опоздать, чтобы не пропустить ни одной лекции.
Профессор расспросил еще о здоровье Людвики, об эмских водах, поговорил немного и, дружески подав руку студенту, попрощался с ним, советуя не запаздывать. Он был чрезвычайно любезен и снова очаровал Мечислава.
Когда последний возвратился домой, судьба, словно не желая, чтоб он оставался наедине с собою, послала ему гостя: это был пан Пачосский.
Мечислав немного встревожился.
– Что вы здесь делаете? Один? – спросил он, поздоровавшись. Пан Пачосский робко оглянулся вокруг, приложил палец к губам и сел, отирая пот с лица.
– Я здесь инкогнито, – шепнул он, – никто не должен знать об этом, потому что мне не следовало быть здесь, но я не могу отказать этому несчастному.
– Кому? В чем?
– Несчастному Мартиньяну. Малый безумствует. Он прислал меня сюда, не имея возможности сам приехать.
Пан Пачосский снова отер лицо и, казалось, что-то обдумывал, потом принял серьезную трагическую мину.
– По возвращении отсюда, у нас была драма, – сказал он, – напоминающая трагедии Еврипида. Просто ужас. Мартиньян был уверен, что он свободен как птица, а между тем за ним и за мною следили стоглазые шпионы, следили за каждым нашим шагом, записывали каждое наше слово, донося обо всем пани Бабинской. Возвратясь в Занокцицы, мы уже имели какое-то смутное предчувствие, которое и осуществилось. Не успели мы возвратиться домой, как над нами разразилась буря с градом и молнией, да такая, перед которой меркнет буря, описанная бессмертным Гомером. Мартиньяну удалось еще как-то уклониться от самой грозной силы, но меня, несчастного, как подстрекателя к разгулу, к непослушанию, как порочного старика, смешали с грязью. За что? За то, что сопутствовал в поездке за молотилкой. Пани Бабинская строжайше запретила какую бы то ни было поездку, под каким бы то ни было предлогом без ее позволения. Мартиньян перенес горячку… Одним словом, трагедия. Послали за доктором… Плач, стоны, а на меня гром и молния, молния и гром. Ну и что же? После всего этого, невзирая ни на какие запрещения, я снова тайком приехал сюда, по делу этого несчастного юноши.
– По какому делу? – спросил Мечислав.
– Собственно для того, чтоб узнать о драгоценном для него здоровье…
– Вы плохо поступили, позвольте вам сказать, любезнейший пан Пачосский, – отозвался Мечислав, – потворствуя Мартинья-ну. После вашего отъезда я получил от тетки письмо, оскорбительное для меня и для моей сестры, на которое не отвечал, но хотел, по крайней мере, с этой стороны быть покойным. Пусть лучше Мартиньян не подвергает себя и нас неприятностям и старается позабыть… Не следует питать его юношеских мечтаний.
– Но, пан Мечислав, он влюблен! – воскликнул педагог. – А вы, по-видимому, легко смотрите на чувство, которое, как нам известно из древних поэтов, служит поводом и к величайшим добродетелям, и к страшнейшим преступлениям, и к геройским подвигам. Нельзя шутить с этим. Пан Мартиньян любит со всей силой юношеской страсти, а это не безделица. Он даже начал писать стихи, чего никогда не бывало, конечно, не самые блистательные, но исполненные огня.
Мечислав улыбнулся.
– Любезнейший пан Пачосский, – сказал он, – вместо того чтоб принимать это серьезно, обратите лучше в шутку.
– Чтоб я святое это чувство обратил в шутку! – возразил педагог. – О, не требуйте этого от меня, я уважаю его.
– Я очень благодарен Мартиньяну за привязанность его к Людвике, но, как ее опекун и зная ее очень хорошо, ручаюсь за себя и за нее, что не будем ни тайно ободрять Мартиньяна, ни допускать сближения его с нами без ведома родителей. Объясните ему это.
Пачосский вздохнул.
– Вы очень строги. Но я не могу возвратиться к бедняге с подобным решением, ибо это причинило бы ему новую болезнь. Я ему не скажу этого.
– В таком случае скажите, что нас не застали и не разойдетесь с истиной. Я здесь случайно и на короткое время, а Людвика осталась в деревне.
– В самом деле? – спросил педагог.
– Уверяю вас. Этим способом, любезнейший пан Пачосский, вы хоть и не удовлетворите его, то, по крайней мере, не подольете масла на огонь. Надо стараться выбить у него это из головы.
– Но кто же выбьет у него это из сердца! – воскликнул пан Пачосский, опустив голову. – Увы, нам с ним обоим не везет. Это все равно, что мне с моей "Владиславиадой". Столько лет добросовестного труда. Восемнадцать лет воспитывал я это детище моей души… и чего же дождался! Когда я был здесь прошлый раз, то после долгих переговоров Зельман сказал наконец: "Подождите, я дам рукопись прочесть пану Малиновскому, и, если она чего-нибудь стоит (так и выразился), тогда поговорим". Я оставил копию, и он дал мне формальную расписку. Теперь, по приезде, первый мой выход был к Зельману. Спрашиваю с беспокойством… и что же? Он мотает головой, и ни то, ни се. "Что ж сказал пан Малиновский?" – "Говорит, что так себе". Слышите ли, "Вадиславиада" так себе! А потом прибавил: "Знаете ли что, последнее слово, даю вам 200 злотых!" Если б я не поостерегся, мог бы убить его на месте, но Паллада удержала меня за руку. "Нет, – отвечал я, – только отдай мою рукопись!" Начали искать и где-то в углу, в пыли, нашли мою драгоценность, запачканную, изорванную, которую я и унес с собой.
Мечиславу хотелось смеяться, но, когда он взглянул на пана Пачосского, у которого слезы навернулись на глаза, он удержался.
– С чем же я возвращусь к несчастному юноше? – воскликнул педагог. – С опозоренной "Владиславиадой" и с разбитым сердцем!
– Скажите ему, что не застали нас, что мы в Ровине, где и пробудем с Людвикою до конца каникул.
– Бедный молодой человек! – сказал пан Пачосский. – Вот чем кончается его первая, чистая любовь! Как я ему объявлю об этом? Но что хуже всего, он снова готов послать меня после каникул… Таинственная, рискованная поездка, в доме столько шпионов! Сохрани Бог, узнает пани Бабинская, прогонит меня…
– Зачем же вы взялись за это? – спросил Мечислав.
– Но я люблю этого юношу! – воскликнул педагог. – Понимаете, я люблю его, а мы оба несчастны!
С трудом успокоив несчастного пана Пачосского, Мечислав, однако, не скоро от него отделался.
Но ему суждено было в тот день не знать покоя: вечером пришел к нему сосед Борух с веселой физиономией.
– Как поживаете, пан доктор?
Мечислав, который был ему должен, считал обязанностью принять его вежливо…
– Есть какое-нибудь дело? – спросил он.
– Сохрани Бог! Сохрани Бог! – отвечал купец. – Никакого дела, я пришел только поклониться, спросить о здоровье и узнать, не надобно ли чего?
– Очень благодарен. На этот раз ничего.
– Ну, что? – улыбаясь шепнул Борух. – Разве я дурно предсказывал? Его мосць уж там у графини, словно пан…
– Бога ради оставьте…
– Зачем вы делаете тайну из того, о чем воробьи щебечут на крышах. Люди, приехавшие с вами из Ровина, остановились здесь у моего шурина и говорят, что все считают вас там своим паном, что его мосць скажет, так тому и быть. Они иначе и не называют вас, как молодым паном. Поздравляю!
– Борух, будь добр, не говори об этом никому, это чистейшая клевета, гнусные сплетни! – сказал Мечислав. – Нет, не будет и не может быть ничего похожего.
– Ну, хорошо, пусть будет по вашему, – сказал, вздыхая Борух, – я и это понимаю. Пусть себе и ничего не будет. Но у меня есть маленькая просьба: там по дороге есть трактир; я набавлю двести злотых, устройте, чтоб он остался за мною.
Мечислав покраснел с досады и схватился за голову. Борух испугался, увидел, что поступил неловко, поклонился и вышел. Обстоятельство маловажное, но наводившее на размышления. Мечислав мог убедиться, что поведением своим пани Серафима обратила на себя всеобщее внимание и что, пренебрегая приличиями, она могла пострадать. Он почувствовал, что обязан был собственными силами остановить дальнейшее развитие неосновательных сплетен, которые могли повредить славе достойной, в высшей степени доброй и искренней женщины! Конечно, он не мог не возвратиться за Люсей, но решился по возвращении в город перестать мало-помалу бывать в доме пани Серафимы, а Люсе рассказать все, чтобы склонить последнюю к перемене образа жизни.
Так он промучился дня два. Каждое утро приходил к нему ровинский слуга, с улыбкою осведомлялся, не пора ли ехать и прибавлял потихоньку, что ясновельможная пани просила возвращаться поскорее.
Это сердило Мечислава, но он принужден был притворяться, что ничего не видел и не слышал.
На третий день ему пришло в голову, что, ускорив поездку, он избегнет встречи с Адольфиной. Когда слуга, по обычаю, пришел за приказаниями, Мечислав объявил ему нерешительно, что, может быть, им удастся выехать после полудня. Ему нужно было видеть кое-кого, достать пару книг, а потом он рассчитывал, что удастся как-нибудь разминуться в дороге с пани Буржимовою. Так было лучше всего, но сердце упрекало его, что он даже не хотел попрощаться. Он боролся с собой, но чувство долга одержало победу. Зачем мечтать о невозможном? Зачем упиваться краденым нектаром? В дорогу! В дорогу!
Так рассчитывал он, как говорит иноземная пословица, без хозяина. Едва он вышел из дому, как ему попалась навстречу горничная пани Буржимовой с записочкой, в которой его просили прийти немедленно.
У него сильнее забилось сердце, когда он вошел в гостиницу. Застал он, однако, одну председательшу. Адольфина, по словам последней, ушла с одной подругой к модистке – мадемуазель Флерон. Пани Буржимова приняла его с обычным радушием.
– Вы видите меня счастливой, – сказала она, – а так как вы друг нашего дома, то я и поделюсь с вами радостной вестью.
Она придвинулась с креслом и продолжала:
– Дорогой мой пан Мечислав, вы знаете моего мужа и привязанность его к дочери, а мою к ним обоим и не удивитесь, если скажу, что я давно уже не была так счастлива. Муж постоянно беспокоился о судьбе Адольфины, хотя девочка так еще молода, что могла бы подождать. Ему чрезвычайно хотелось выдать ее как можно скорее замуж за солидного человека, который был бы ей надежным покровителем. Вам, может быть, неизвестно, что за нее вот уже больше года сватается очень почтенный, богатый и образованный господин, хотя и не первой молодости, пан Жегота Драминский.
Мечислав побледнел, потом покраснел, чего, вероятно, не заметила панна Буржимова, ибо продолжала:
– Правда, Адольфина не влюблена в него, да этого трудно было бы и ожидать, но она уважает его. Три раза она отказывала ему неизвестно по какой причине. Упрямый Драминский, однако, не переставал бывать у нас и ухаживать за нею. И вот теперь на дороге она поручила мне написать отцу, что принимает предложение пана Драминского.
Мечислав провел по лбу, его бросало то в жар, то в холод, подступало к сердцу; он изменился в лице, но в этой пытке он улыбался.
– Я уж написала к мужу, – сказала председательша, – и немедленно принялась за приданое. С того дня, как вы уехали, я заметила, что она обдумывала и они шептались с Люсею. Мне кажется, что доброму сердцу и влиянию милой нашей Люси я обязана этой решимостью, которая делает нас счастливыми.
И председательша посмотрела в глаза Мечиславу. Он сидел неподвижно, не зная, как поздравлять, чтоб не обнаружить чувства. Бедняга глотал какие-то слова, которых не понимал ни он, ни председательша. Последняя, может быть, и заметила бы его смущение, если б не отворилась быстро дверь и не вошла Адольфина с подругой.
Вставая, Мечислав взглянул на Адольфину и нашел в ней страшную перемену, но не такую, какую производит обыкновенно счастье. Лицо было покрыто румянцем, глаза горели, но лихорадочным, болезненным огнем; она старалась казаться веселой… Улыбкой она приветствовала Мечислава.
– А, вы еще здесь, – воскликнула она. – А я думала, что вы уйдете от нас, скроетесь или поспешите в красивый Ровин. Неправда ли, что это прелестная деревня, и хозяйка ее очаровательна, и что там маленький рай на земле?
Мечислав не знал, что отвечать.
– К счастью, что мы поймали вас здесь и овладеваем вами на все время нашего пребывания, – продолжала девушка. – Подарите нам эти два дня. Кто знает, увидимся ли, а если и увидимся, то будем ли так веселы, как сегодня… Я очень весела.
И она начала смеяться резким принужденным смехом, и, усевшись против Мечислава, устремила на него глаза. Потом посмотрела на мачеху и угадала, что последняя уже все рассказала молодому человеку.
– Вы знаете, что мне делают приданое и что я выхожу замуж?
Мечислав начал поздравлять тихим голосом, но слова как-то не клеились. Адольфина посмотрела на него как бы с удивлением, и слезы навернулись у нее на глаза.
– Вы знаете пана Драминского? – спросила она.
– С самой лучшей стороны.
– Я также, я также, а иначе не пошла бы за него. Папа так хотел этого, мама уговаривала… Надо было решиться. Ничего нет грустнее положения старой девы… В голове роится Бог знает что… мечтается о каких-то идеалах…
Вдруг она умолкла и потом продолжала:
– Платье себе заказала я у госпожи Фрелон. Великолепное платье! Госпожа Фрелон! Какая прелестная фамилия. Когда вы уезжаете в Ровин?
– Хотел уехать сегодня, – отвечал Мечислав едва слышным голосом.
– О, нет, нет! Они там так счастливы, пускай подождут немного… Вы мне подарите эти последние два дня.
В это время приятельница, приехавшая с Адольфиной, подошла попрощаться и прервала разговор. Пани Буржимова вышла проводить ее. Мечислав остался наедине с девушкой.
Девушка быстро приблизилась к нему и взяла за руку с грустным выражением лица.
– Неправда ли, я хорошо делаю, что выхожу замуж? Ведь так или иначе счастья нет на свете. Живется как-то в мечтах, а они, как птички перед зимой, улетают перед старостью. Зачем мечтать! Успокоить отца, утешить мачеху, вот и все! Наконец как вы думаете? Говорите же!
Но Мечислав дрожал и не мог промолвить ни слова.
– Что с вами?
– Вы навеяли на меня грусть своими речами.
– А разве я неправду сказала? – воскликнула девушка, смотря на него. – От молодости не останется ни одного зеленого листика… мечтания разлетятся… пусто, холодно! Да, пан Мечислав, жизнь – это крестный путь на Голгофу.
– Разве же вам можно говорить это? Вы окружены любовью, избалованы судьбою, вы счастливы!
Адольфина начала смеяться, быстро ходя по комнате.
– Как вы забавны! Я счастлива? Я? Кто ж вам это сказал?
– Но вы заслуживаете счастья и будете счастливы.
– Очень мило, – улыбаясь, сказала Адольфина. – Где это вы вычитали?
Мечислав смешался.
– Вы готовы, пожалуй, рассердиться и отравить мне последние два дня. Но довольно! Будемте такими детьми, какими были, когда вы приезжали к нам из Бабина во время вакаций. Давайте играть в волан.
Мечислав с удивлением посмотрел на нее.
– Правда, – продолжала Адольфина, – это неожиданное счастье сделало меня смешной, но известно, что счастье кружит голову. Так вот и со мною… Сами вы сказали, что я должна, обязана быть счастлива, и вот я упилась этим счастьем.








