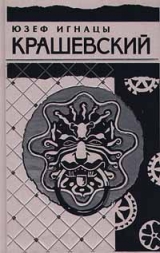
Текст книги "Сиротская доля"
Автор книги: Юзеф Крашевский
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 19 страниц)
Он взглянул на сестру, которая, вместо того чтобы разделять его радость, стояла бледная, испуганная, не зная, как скрыть смущение. Она одна поняла, зачем так благородно поступил профессор. Бедняжка старалась улыбнуться, заговорить и не могла.
– Я искренно радуюсь за вас, – отозвалась пани Серафима.
– А я радуюсь и вместе боюсь, – прибавила сестра. – Мечислав после болезни все еще слаб, экстерн потребует чрезмерных занятий и напряжения ума.
– О, я согласен на все, чтоб только покончить с этим! – воскликнул Мечислав. – Хотя бы потом пришлось заболеть снова.
– Зачем же болеть, об этом не должно быть и речи, – сказала пани Серафима. – Люся всего боится. Одна уже радость придает вам силы, а я заранее поздравляю вас с докторским дипломом.
– Слава Богу! – отозвался Мечислав. – Я буду свободен, стану зарабатывать для спокойного существования с сестрой и со студенческой скамьи выйду в свет. Будем независимы.
Он подошел к сестре и поцеловал ее.
– Добрый, честный, неоцененный Вариус! Как он горячо занимался этим, бегал без моего ведома, просил, ручался за меня! О, сердце мое полно признательности к нему!
– Я удивляюсь этому, – прервала вдова. – Разве уже чувствуя суд общественного мнения за многие дела, он решил оправдаться.
– Вы так безжалостно о нем судите, – отозвался Мечислав с упреком.
– Я эхо того, что говорят о нем – не услышите ничего другого.
– О, люди так злы!
– Если действительно он будет вам помогать, как обещает, я сделаюсь его защитницей, – прибавила пани Серафима. – Я иначе не могу этого объяснить, как желанием оправдаться в общественном мнении.
– Стало быть, вы не допускаете, чтоб раз в жизни он мог сделать доброе дело от чистого сердца?
– Потому что характеры всегда логичны, – возразила пани Серафима. – Кто умеет любить, любит, кто зол, тот должен быть злым до конца.
– А светлые минуты, вдохновение, обаяние добра?
– Будем верить в это, пан Мечислав, это утешительно.
– Разве вам нужно утешение? – сказал Мечислав, засмеявшись.
– Конечно, – отвечала, покраснев, вдова, – с моей точки зрения, свет достоин осуждения.
– Это ужасно. А что же мы?
– Вы одни неподсудны, но только вас ведь всего двое.
– Это незаслуженно, – возразил Мечислав, – я не причисляю себя к святым, разве что Люсю.
– В самом деле, – сказала, смеясь, вдова, – и знаете почему? Потому что недоверчивы, холодны и не так искренни, как свойственно молодости.
Люся вскочила со стула.
– О, дорогая моя! – сказала она. – Мечислав не холоден, не неблагодарен, а робок. Верьте мне, я его знаю. Он боится высказать, что у него на душе.
Пани Серафима покраснела и обратила это в шутку.
– Мы ведь старые друзья, – молвила она, – и я также знаю пана Мечислава, но должна сказать кое-что в свое оправдание! Мы так давно знакомы, живем дружно, и не было случая, чтобы пан Мечислав обратился ко мне как бы к сестре, пришел ко мне и сказал: "Сделайте мне вот это, помогите в этом". Никогда! Он предпочитал искать… не скажу кого, чем обратиться ко мне…
Пани Серафима проговорила это с живостью, Люся опустила глаза, Мечислав смутился.
– О пани Серафима! – отозвалась наконец Людвика, подымая глаза на нее. – Отношения людей, положение которых в жизни неодинаково, тогда только могут поддерживаться, когда человек умеет сохранить чувство собственного достоинства.
– Но ведь тут нет того доверия, той откровенности, какой бы мне хотелось! – воскликнула вдова, подавая руку Мечиславу. – Простите мне упрек, но он от чистого сердца.
В то время когда происходило вышеописанное, Мартиньян мучился в своих Занокцицах под беспокойным надзором матери. Пана Бабинская не спускала с него глаз, особенно после его неосторожной первой поездки, о которой она знала, потому что последующие удавалось скрыть от нее. Мучила она сына из сильной материнской любви, из боязни, чтобы кто-нибудь не отнял у нее этой драгоценности. О Люсе и Мечиславе невозможно было вспомнить при ней; она называла племянницу не иначе, как змеей, а для Мечислава был у нее целый ряд эпитетов, варьировавшихся, смотря по расположению духа, но одинаково "любезных" и выразительных. Все беды и несчастья сына она приписывала влиянию Люси и ее интриг, которые, как она предполагала, не прекращались. Пан Пачосский, добровольный связной, мог удержаться на месте благодаря только геройской защите Мартиньяна. Пан Бабинский молчал с обычной покорностью жене, хотя и далеко не разделял ее мнения. Иногда, несмотря на многолетний обычай послушания, он даже: осмеливался высказаться… Но ему немедленно устраивали страшную головомойку, и он умолкал…
Мартиньян сердился, изворачивался, мучился, но не смел восстать против матери. Несколько раз в неделю пани Бабинская приезжала в Занокцицы удостовериться лично, что сын занимается) хозяйством, заставала его со стихотворениями в руках, бледного, несчастного, и сердилась, что ничего не могла поделать. Впрочем, любовь и эту страсть к поэзии она приписывала добряку пану Пачосскому и его воспитанию. Она старалась даже сбыть последнего, но Мартиньян мужественно защищал его. Жалела немного пани Бабинская, что не женила сына хоть бы на Адольфине, не сомневаясь, что могла б достигнуть этого, если б захотела. Брак, по ее мнению, выбил бы из головы юноши любовь, а невеста принадлежала к хорошему семейству, была богата, и к тому же их имения граничили. Но было уже поздно.
Адольфина вышла замуж и, как говорили, приводила доброго пана Драминского в отчаяние своими странностями и грустью, которой ничто не могло рассеять. Пани Бабинская была убеждена, что эта особа влюблена в Мартиньяна; она полагала, что все девицы должны были влюбляться в него.
Мартиньян, верный своей привязанности, в одиночестве еще пламеннее любил Люсю. Страсть эта не только не проходила, а, напротив, казалось, увеличивалась. Между тем мать была неумолима.
Сам пан Бабинский беспокоился. Бедняга был очень недалек, но имел доброе сердце. Ездил он в Занокцицы под предлогом хозяйства, а в сущности, узнать о положении сына и каждый раз возвращался всей более встревоженным. Однажды он встретил пана Пачосского в саду.
– Ну, что же будет с Мартиньяном? – спросил он. – Как вам кажется?
– Не знаю, – отвечал пан Пачосский, – известно только из опыта и многих примеров из древности и новейшей истории, что любовь в сердце юноши могущественная сила, которую не следует удерживать, как пар в котле, потому что разорвет котел. Правда, я сам знал одного провиантского писаря, который из любви к некой пани Вильчевской, выстрелил в себя и всю жизнь был калекой, потому что не насмерть застрелился. О, есть тысячи подобных примеров!
– Что ж тут делать? Должно же быть лекарство, хоть я, простой человек, и не знаю какое.
– Позвольте, – отозвался тихим голосом педагог, – если б пан Мартиньян влюбился действительно в какую-нибудь девицу низкого звания или легкого поведения, какие встречаются в городах… а ведь кузина, прелестная, молодая, отлично воспитанная.
– Знаю, знаю, – отвечал пан Бабинский, – но об этом и говорить нечего. Жена моя женщина умная, и она имеет свои резоны, самые верные. Об этом не может быть речи. Мы оба с тобой этого не понимаем… а что она знает, то уж как по написанному.
– В таком случае и помочь нечем! – воскликнул Пачосский.
– А время? – спросил пан Бабинский. – Я слышал и от жены, и от других, что время много значит в таких случаях.
– Конечно, но ведь это может продолжаться двадцать лет.
Пан Бабинский рассмеялся.
– Э! Да ведь она сделается тогда старой девой.
– Но любовь, зародившаяся в эти лета, когда чувства достигают самой могущественной силы, может продолжаться до седых волос.
– Что ты говоришь? – воскликнул пан Бабинский. – Это было бы волшебство!
– И есть волшебство. Я на вашем месте старался бы исподволь влиять на пани, и, может быть, из любви к этому благородному юноше, она смягчилась бы.
– Ха, ха, ха! – рассмеялся пан Бабинский. – Что, асан, толкуешь? Я на жену не имею влияния. Она женщина умная, а я человек простой… Тут ничего не поделаешь… Я при ней молчу.
Ответив таким скромным образом педагогу, пан Бабинский, беспокоясь о сыне, думал, нельзя ли в самом деле хоть раз в жизни повлиять на жену. Опыт, однако, не удался.
Возвратясь домой, пан Бабинский, вздыхая, начал словами педагога толковать что-то об опасности любви в молодых сердцах. Потом выставил пример провиантского писаря, смешал этот пример с древними писателями, о которых слышал от бакалавра, и понес околесицу.
Пани Бабинская слушала и наконец разразилась хохотом:
– Вот простофиля! – воскликнула она. – Тебя непременно научил Пачосский. Ну что ты городишь? Ведь это не твоя голова выдумала. Это ты начитался каких-нибудь писателей? Где же и когда?
Пан Бабинский смутился.
– Ты же знаешь, милочка, что я читал Робинзона, – возразил он.
– А есть там хоть слово об этом?
Пан Бабинский замолчал и только махнул рукой.
– Ну, так делай, милочка, что хочешь… Я ничего не скажу, но храни Бог от несчастья Мартиньяна, я умываю руки…
При этих словах пани Бабинская вскочила с места.
– Чтоб ты не смел показываться в Занокцицах! Это все проделки мудреца-бакалавра! Но я вытурю его оттуда! Потому только, что глупый мальчик дал себя увлечь этой бесстыдной кокетке, я еще должна допустить, чтоб она связала его по рукам и по ногам? Никогда в жизни, никогда!
Пан Бабинский, почувствовав приближение бури, хотел улизнуть и на цыпочках направился к двери… Но жена побежала за ним, осыпая его упреками, так что он едва успел умолить ее, целуя руки и сознавшись в своей вине.
Подобные сцены, конечно, не могли изменить положения.
Об Орденских в Новом Бабине почти ничего не знали, да и не осведомлялись, а если порой председательша, получив какие-нибудь сведения от пани Серафимы, хотела передать о них известия родственникам, злопамятная тетка отказывалась слушать.
– Они мне порядком надоели! Пусть делают, что хотят; уехали из нашего дома, не сказав даже "спасибо", отравив жизнь Мартинь-яну. Не хочу их знать, не хочу слышать о них!
Однажды пан Орденский, брат пани Бабинской и родной дядя Мечислава и Люси, неожиданно навестил сестру. Пан Петр, как уже было сказано выше, был женат на богатой наследнице и вращался в высшем свете, вследствие чего немного стыдился Бабинских, хотя людей и богатых, но незнатных. Проходили годы, а ни он не приезжал к сестре, ни Бабинские не бывали у него, потому что последних невестка принимала весьма холодно.
Пан Бабинский удивился и даже испугался, узнав о приезде зятя. Боялся он жены, а пана Петра и боялся, и уважал, так как последний был солиден, серьезен и якшался с большими панами и притом его трудно было принимать, так как он привередничал относительно вин и кушаний.
Извещенный о приезде пана Петра пан Бабинский перекрестился, тотчас же переоделся с ног до головы и взял даже чистый носовой платок, хотя платком никогда не пользовался.
Он застал уже пана Петра с сестрой, которая, шепнув слугам о завтраке, занимала брата беседой. В разговоры, которые жена вела с умными, как выражался пан Бабинский, особами, он никогда не вмешивался. Сидел себе в стороне и покашливал, иногда, когда был уверен, что может засмеяться, смеялся и зевал, прикрывая рот рукой.
Поздоровавшись с зятем, пан Бабинский занял свое обычное место и начал покашливать.
Разговор шел оживленный.
Хотя пан Петр и давно не был в Новом Бабине, однако отлично знал, что здесь делалось, ибо любил сплетни: не имея занятий, он развлекался ими. История Мечислава и Люси была ему хорошо известна, и любовь Мартиньяна, и нелюбовь сестры к сиротам. Пан Петр недавно возвратился из города; он невольно слышал об Орденских уже собственно потому, что сам носил эту фамилию.
Конечно, он не посетил Мечислава, не виделся с родственниками, но рад был насолить любезнейшей сестрице.
– Знаешь ли, милая сестра, – сказал он, – я был недавно в В… и имею самые свежие известия о твоих питомцах.
– О каких? Что это за питомцы?
– Но ведь, несмотря на всю свою скромность, ты не можешь отпереться, что воспитала двух сирот.
Пани Бабинская покраснела.
– И можешь ими похвалиться, – прибавил пан Петр, – потому что люди отлично отзываются о них. Люся очень хорошенькая, а Мечислав, конечно, далеко пойдет, потому что малый с талантом и ему везет.
Сестра посмотрела искоса – не шутит ли брат. Пан Петр говорил серьезно.
– Я тебе расскажу. Мечислав, кажется, познакомился с молодой вдовушкой из графского дома Цорбстен, особой богатой, пользующейся общим уважением, и говорят он женится на ней. Прошлый год летом, когда он заболел у нее в деревне, она день и ночь не отходила от его постели. По слухам, они уже обручены и ждут, когда Мечислав окончит эту глупую медицину, которая ему ни к чему не послужит, разве он будет лечить мужиков по деревням, которых у нее много.
Пан Бабинский кашлянул. Пани Бабинская сказала с живостью:
– Вот городишь вздор!
– Честное слово, правда; все говорят об этом. Но это вздор, а Люся делает партию еще блистательнее. У нее два жениха и оба богачи: один маршалкович, а другой профессор Вариус, который собрал кучу денег, приставляя банки… Говорят, просто Крез…
– О, это очень обрадовало бы меня, – прервала пани Бабинская, – пусть бы выходила хоть за цыгана. Мой Мартиньян по крайней мере излечился бы от любви к ней. Эта бесстыжая кокетка увивалась около него, что совершенно вскружило ему голову. Это наказание Божье.
– Слышал об этом, – отвечал пан Петр. – Кажется, вы отдали Мартиньяну Занокцицы, а он первым делом под предлогом покупки молотилки начал увиваться за панной Людвикой.
– Правда, но с тех пор не сделал ни шагу из деревни, ибо и ему, и пану Пачосскому я хорошенько намылила головы.
Пан Петр пожал плечами.
– Но тебе это так кажется, – отозвался он, – а я знаю, что он был, и письма отправлял, и кажется посылал Пачосского.
– Это ложь! – возразила мать. – Он не осмелился бы.
Пан Петр посмотрел на пана Бабинского и заметил, что тот знаками призывал его замолчать, а потому засмеялся и умолк.
– Все это гнусные сплетни, которыми пан Петр любит пробавляться, – заметила пани Бабинская, – сплетни и чепуха. Панна Людвика выйдет, но не за миллионера, а увидите как отлично и за кого. Ее ожидает то же, что и всех подобных личностей. А если женится и пан Мечислав, то разве на какой-нибудь старой обанкротившейся бабе, ибо кто же другой захотел бы его! Продает себя, тунеядец!
Пан Бабинский закашлял. Жена поворотилась к нему, посмотрела и спросила:
– Что с тобой?
– Ничего, кашляю.
– Милая сестрица, ты предубеждена и не права, – сказал пан Петр, – все это я слышал из верного источника. Действительно детям повезло. Я ведь видел пани Серафиму, показывали мне ее в костеле… вместе с Люсей. Приехали в карете, лошади отличные, ливреи богатые…
– Как у всех банкиров, – заметила пани Бабинская.
– Вдовушка молода и еще очень хороша, вполне порядочная. Пани Бабинская расхохоталась.
– Догадываюсь, – сказала она, – вероятно, потеряв доброе имя, так что никто не берет, она выходит за медика. Отличая партия для молодого мальчика! Но ему не хочется трудиться.
– Если хочешь узнать обстоятельнее, спроси у пани Буржимовой она отлично знает вдовушку. Вы ошибаетесь. Да и почему же этим детям не посчастливилось бы?
– Потому что они не стоят того. Я только поблагодарю Бога, когда Людвика выйдет замуж, тогда и Мартиньян мой опомнится. Даже и теперь не мешает шепнуть ему, что она выходит замуж.
Она взглянула на мужа, и тот кивнул головой в знак того, что понял приказание.
Разговор был довольно долгим, и пан Петр искусно задевал самолюбие любезной сестрицы. Пани Бабинская краснела с досады, а когда уехал пан Петр, она отыгралась на муже, в поведении которого нашла множество непростительных ошибок.
На другой день, чтобы загладить вину, он должен был поехать в Занокцицы и там сообщить через Пачосского Мартиньяну, что Людвика выходит замуж.
– Если б у тебя была хоть капля соображения, – прибавила жена, – ты мог бы дать этому делу ловкий оборот; но с тобой просто несчастье.
– Но если ты скажешь мне, милочка, что я должен делать, все будет исполнено, – воскликнул пан Бабинский.
– Не наделай глупостей!
– О, нет! Я передам под секретом пану Пачосскому, – и все.
И пан Бабинский поехал с твердой решимостью исполнить поручение жены. Ему удалось как нельзя лучше. Начав разговор с педагогом, он вскоре прибавил:
– А я вам скажу что-то под секретом. Панна Людвика… Люся, в которую влюблен Мартиньян, выходит замуж… Это его вылечит.
Пан Пачосский взялся за голову.
– Если только не пустит себе пулю в лоб!..
– Нет. Надо спрятать все ружья.
– Может отравиться, утопиться, – заметил педагог.
– Что вы! – воскликнул пан Бабинский. – В нашем семействе не было подобных примеров. Жена моя, которая все знает, говорит, что это наследственное.
– А если сделает какую-нибудь глупость?
– За глупость не поручусь, потому что в нашем семействе это случалось, – сказал Бабинский. – Вот сумасшествия так не бывало. Впрочем, вы этого ему не говорите.
– Он может узнать со стороны.
– Гм! С какой же стороны?
Пан Пачосский пожал плечами, а отец отправился к сыну. Усевшись в замешательстве возле него на диване и поцеловав в голову, сказал:
– Милый Мартиньян… Я не знаю, но бывают разные случаи. Если б случилось, например, что Люся, в которую ты так непозволительно влюблен, выходит замуж или что-нибудь… хотя об этом нет речи, прошу тебя и приказываю как отец, чтоб ты не сделал какой-нибудь глупости.
Мартиньян посмотрел на отца и ничего не отвечал, а когда последний уехал, юноша бросился к педагогу с криком и отчаянием.
– Любезный Пачосский! Отец мне сказал что-то, и это не может быть без значения… Он, вероятно, слышал о замужестве Людвики.
– Он вам это сказывал? – воскликнул педагог.
– Намекнул весьма ясно.
– Отец?
– Ну да! Ты знаешь! Умоляю, говори же!
Пан Пачосский начал было отпираться, но наконец не выдержал и признался, что слышал нечто подобное от пана Бабинского, но утверждал, что это пустая сплетня.
Бедный юноша вскочил как ошпаренный.
– Если в этом есть хоть тень правды, – воскликнул он, – я должен ехать воспрепятствовать, хотя бы пришлось поплатиться жизнью!
– Ради Бога! Вы не имеете права сделать ни шагу!
– Я? – закричал Мартиньян. – Никакая в мире сила не удержит меня. Я это вам говорю. Вы, пан Пачосский, можете ехать или оставаться, но я сегодня же в ночь выезжаю.
Напрасно педагог заклинал его – все было бесполезно, Мартиньян начал укладываться. Пан Пачосский хотел немедленно дать знать пани Бабинской, но, к счастью, его остановило одно обстоятельство. Кроме своих обязанностей в Занокцицах при молодом помещике, пан Пачосский имел также на руках кассу – то, без чего Мартиньян, несмотря на все свое отчаяние, не мог уехать в город. А в ней было не более пятидесяти злотых – так ее вычерпали.
С этой суммой нельзя было ехать. Это до такой степени успокоило педагога, что он и не уведомлял пани Бабинскую. Мартиньян со своей стороны понимал очень хорошо, что обойдется без гувернера и достанет себе денег. Притворившись за обедом, что успокоился, он обманул тем пана Пачосского, который лечил его своими стихами и утешал классическими элегиями, а сам ушел прогуляться. Уединенная прогулка, свойственная влюбленным, казалось пану Пачосскому, вытекала из природы вещей. Юноша был в спокойном настроении, и педагог не предвидел никакой опасности, ибо, как он полагал, острый период окончился и наступила хроническая грусть
Ничего не подозревая, он разрешил юноше идти куда угодно Мартиньян отправился прямо к богатому арендатору, который держал мельницы и трактир в Занокцицах и был весьма предупредителен к будущему владельцу.
– Пан Гирш, – сказал он, – не спрашивай, зачем мне нужны деньги, так как я не буду у тебя спрашивать, что возьмешь с меня но ты должен дать мне сегодня до вечера тысячу рублей под вексель.
– Как, ясновельможный пан, без ведома папы и мамы?
– Никто в мире не должен знать об этом!
– А сколько же вам лет?
Лета оказались недостаточными, имение не было передано, однако Мартиньян давал честное слово кроме векселя. Гирш колебался, ходил, обдумывал и наконец отсчитал тысячу рублей, которые юноша поспешно спрятал в карман, и возвратился домой задумчиво. Пан Пачосский с удовольствием нашел его успокоенным. Вечером они долго беседовали. Геро и Леандр, Элоиза и Абеляр Франческа Римини, разные герои и любовные приключения служили предметом разговора. Разошлись как обыкновенно.
Ночью казалось педагогу, будто бы он слышал стук экипажа, н он решил, что это во сне. Когда на другой день он пошел поздороваться с Мартиньяном, то остолбенел, узнав, что молодой человек уехал ночью до первой станции и никому не сказал, куда отправился. Немедленно послал он верхового с письмом в Бабин, a сам с горя улегся в постель. Куда уехал Мартиньян, было понятно. Но где он мог достать денег? Известные пятьдесят злотых лежали железной кассе, купленной для нового хозяйства, вместе с поэмой "Владиславиадой".
Около полудня разыгралась буря – приехала пани Бабинская. Пан Пачосский спасся лишь тем, что заранее слег в постель. Он не встал, а она могла только разговаривать с ним через дверь, и дело кончилось неизбежной, сильной, но короткой руганью. При этом пани Бабинская плакала и заклинала педагога ехать немедленно искать и найти беглеца.
– Но, ясновельможная пани, где же я найду его! Он ушел от меня и будет скрываться. Зачем же пан Бабинский сказал ему, что панна Людвика выходит замуж?
– Куда только пан Бабинский сунется, непременно натвори пакостей! Никуда нельзя послать, ничего нельзя поручить. Заклинаю вас, поезжайте! Я не могу, я, увидев эту негодницу, выцарапала бы ей глаза. Мужа нельзя отпустить, потому что он все испортит.
Пан Пачосский немедленно получил денег на дорогу. Вскоре он встал с постели и под вечер грустный выехал в погоню, к чему не чувствовал ни малейшего расположения.
Кто из нас не припомнит тех лихорадочных дней, когда после долгих лет испытания, сидения на гимназических и университетских скамейках, перед нами открывался тот мир, которого мы так жаждали, когда наконец нам предстояло снять школьный мундир, побросать книжки и вступить в круг людей, идущих широким, свободным путем к неизвестному, к идеалам, к мечтам, как иногда казалось, а в сущности, к жалкой действительности! Этот перелом, эта минута в жизни человека – торжественна; за ее желанным пределом улыбается рай, открывается мир…
Так мечтает каждый, покидая студенческую жизнь для жизни во сто раз более тяжелой. Самые холодные сердца трепещут, пробуждаются надеждою, – всюду открыта дорога… Но все это действует еще сильнее, когда годы студенчества, как для Мечислава, были необыкновенно тяжелы, были годами ожидания не только для него одного, но и для сестры. Поэтому можно представить, с каким восторгом он принял как величайшее благодеяние совет и помощь доктора Вариуса. Он не находил слов для выражения благодарности.
– Все это сделается, за успех ручаюсь, – сказал профессор, – мы найдем предлог, а вы только займитесь подготовкой и явитесь во всеоружии. Об остальном я сам позабочусь.
Мечислав сел за работу и уединился настолько, что даже пани Серафима не могла видеть его. На Люсю обрушились все домашние заботы, и она редко выходила из квартиры; приятельница должна была сама наведываться изредка. Она прокрадывалась потихоньку, чтобы не мешать Мечиславу, шепталась с Людвикою и уходила с грустью. Люся часто плакала, но и ближайшей подруге не хотела сказать о причине своих слез. Пани Серафиму беспокоила эта тайна. Она старалась выведать что-нибудь от Орховской, с которой была в хороших отношениях; но старуха ничего не знала и ничего не могла сказать.
С необыкновенной заботливостью о судьбе студента доктор Вариус доставлял ему всевозможные материалы, присылал заметки, указания, в общем, старался почти с отцовским рвением. Мечислав приходил в восторг от великодушия человека, который не только сумел позабыть личную обиду, но и старался вознаградить за минутную вспыльчивость. И молодой человек дни и ночи просиживал над книжками, работа шла легко, память отлично служила ему. Диссертация, первый набросок которой он показывал Вариусу, была, по мнению последнего, превосходна; одним словом, все складывалось как нельзя лучше. Срок экзамена приближался, когда приехал Мартиньян. Не успев соскочить с экипажа, он побежал на Францисканскую улицу. Его не пускали, но, задобрив ласками старушку, он ворвался к Мечиславу. Последний сидел среди кучи книг, костей, препаратов, с пером в руке, которое уронил при виде кузена. Мечислав нахмурился.
– Что ты здесь делаешь? – воскликнул он. – Разве же это хорошо – против воли Люси и моей навлекать на нас гнев тетки, преследовать нас? Милый Мартиньян, не сердись на меня, но поставь себя в положение меня с сестрой и убедишься, что мы не можем поступать иначе.
– Дорогой мой! – воскликнул Мартиньян, бросаясь ему на шею почти со слезами. – Извини, прости меня! Ты говоришь, чтоб я стал в твое положение, но войди же и в мое. Я люблю, схожу с ума, не знаю сам, что делаю… ты скорее должен жалеть, чем упрекать меня.
– Всему есть предел, – прервал Мечислав, – и самая идеальная любовь должна его иметь. Пределом этим для тебя должно быть сознание наших обязанностей к вашему дому. Для его счастья Люся не пожертвует собственным достоинством; мы не можем казаться интриганами, стремящимся воспользоваться твоею слабостью. Умоляю тебя, не мучь ни себя, ни нас и возвращайся домой.
– Мечислав, сжалься! – сказал Мартиньян умоляющим голосом. – Я вам не навязываюсь, но виноват ли я, что люблю без меры, теряю рассудок, сам не знаю, что делаю, и готов всем пожертвовать.
– Бедный брат! Есть вещи невозможные. Мартиньян молча опустился на стул у двери.
– Итак, – спросил он наконец, – ты выдаешь Людвику замуж против ее воли?
Мечислав засмеялся.
– Откуда же ты взял это?
– Выходит за какого-то профессора!
– Вздор! Ничего подобного нет, успокойся. Действительно, старик влюбился было в Люсю, так же как и ты, но вскоре одумался и отказался от смешной мысли. Это старая история!
Мартиньян вздохнул свободнее.
– Стало быть, это не правда?
– Ручаюсь, – сказал Мечислав, – и вместе с тем прошу тебя – уходи! С Людвикой видеться ты не можешь, я принимать тебя не имею права. Уезжай домой! Забудь…
Мартиньян покачал головой.
– Не поеду домой, – отвечал он тихо. – Ты выгоняешь меня, я уйду, но в деревню ни за что. Я знаю, что там ожидало бы меня. Будь что будет, а я остаюсь в городе. Не примите меня, буду ходить за вами следом. Увижу ее издали… не всегда же у вас хватит духу отталкивать меня. – Он встал, посмотрел на Мечислава, стоявшего неподвижно, поклонился и вышел.
Мечислав ни слова о нем не сказал сестре, но старуха Орховская шепнула ей об этом.
Люся покраснела, и слезы навернулись на ее глаза. Она ждала, что брат ей скажет что-нибудь, но поскольку он не говорил, то она и не дала понять, что знала о приезде Мартиньяна.
На третий день прибежал, запыхавшись, пан Пачосский и постучался у двери Мечислава.
– Здесь пан Мартиньян? – спросил он.
– Был, а теперь не знаю где. Вы за ним приехали и хорошо сделали. Возьмите его и возвращайтесь домой. Здесь ему нечего делать, я его не принимаю, с сестрой он видеться не будет, пусть напрасно не тревожится.
– Золотые слова! – прервал педагог. – Но когда же, пан Мечислав, любовь слушалась рассудка? Этот молодой человек влюблен, что же я буду с ним делать? Ведь не побоялся ни матери, ни отца, ни ответственности, которую берет на себя.
– Любезнейший пан Пачосский, – сказал Мечислав, – я готовлюсь к экзамену, не могу терять ни минуты. Ищите Мартиньяна, увозите его и извините, что прощаюсь с вами.
– Но где же искать его?
– Уж этого не знаю.
– Несчастье, сущее несчастье!
– Ищите по гостиницам.
Пан Пачосский вышел. Уж, конечно, менее всех он был способен на подобные поиски, и, если б случайно не натолкнулся на Мартиньяна, он мог бы искать его целый год без успеха. Он встретил его на улице и догнал.
– Что же это вы сделали, скажите ради Бога! Меня послали за вами. Мама плачет… Нам необходимо возвратиться. Я не отпущу вас, не отпущу ни на шаг… Едем домой, вам здесь нечего делать. Возлюбленной своей не увидите и только напрасно будете подвергать себя пытке. Умоляю вас всеми святыми, едем!
Напыщенный слог Пачосского не произвел на Мартиньяна ни малейшего впечатления.
– Добрейший пан Пачосский, – сказал он. – Возвращайтесь один, а я останусь здесь. Так или иначе, на меня будут гневаться, гневаются уже и теперь… Но я не могу выносить неволи. Я не поеду.
– Открытый бунт против родительской власти!..
– Вы лучше всех знаете, как могущественна любовь.
– Правда, – отвечал педагог, – но вы здесь умрете с голода… а предмета страсти даже не увидите.
– Предоставьте это мне. Возвращайтесь домой, скажите, что меня видели и что я остаюсь в городе.
– Не смею. Пани Бабинская обрушит всю силу своего гнева на мою несчастную голову. Бога ради рассудите, к чему все это ведет? Панна и брат ее запирают перед вами двери, повторяю, вы не увидите даже возлюбленной… Родители могут заболеть, лишить вас наследства…
Мартиньян помолчал немного, а потом проговорил:
– Прощайте, пан Пачосский!
Молодой человек собрался уходить.
– Остановитесь, заклинаю вас всеми силами земли и неба. Юноша! Послушайся преданного тебе сердца! Умерь свою страсть и поддайся голосу рассудка!
Мартиньян пошел, педагог погнался за ним, и они непременно учинили бы какую-нибудь неприличную сцену на улице, если б наконец пан Пачосский не изменил тона и позы.
– Вы хотите погибнуть, – шепнул он, – в таком случае погибнем вместе, ибо я не оставлю вас. Если вы не возвратитесь, мне тоже незачем ехать домой.
– Напротив, любезнейший, драгоценный мой пан Пачосский, – отвечал Мартиньян, пожимая ему руку. – Поезжайте, но из дружбы ко мне скажите, что я с отчаяния отправился в Америку, что вы меня не нашли.
У педагога кружилась голова, он даже не нашелся, что ответить. От него требовали лжи, а он никогда не лгал. Он вошел с Мартиньяном в гостиницу.
– Пан Мартиньян, – сказал он серьезно. – Я поэт, по призванию – воспитатель; я покорный подражатель великих и чистых мужей древности, и как же вы хотите, чтобы при всем этом я допустил бы, хотя бы из дружбы, сознательную ложь вашим родителям?
– Прибавьте к этому, любезнейший, что вы и педант, – сказал с досадой Мартиньян. – Завтра я уезжаю в Америку, а потому вы не погрешите против совести, если уведомите об этом наших родителей.
– Я этому не верю, это пустяки, – возразил педагог, – ибо знаю, что у вас даже нет денег.
Мартиньян бросил на стол толстую пачку ассигнаций, которая привела пана Пачосского в остолбенение, и оба замолчали.








