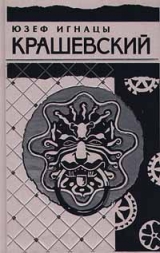
Текст книги "Сиротская доля"
Автор книги: Юзеф Крашевский
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 19 страниц)
– Наша пани сегодня скончалась в полдень, – шепнул он.
Бедного молодого человека ввели в комнату. По испуганному лицу педагога Мечислав догадался, что случилось самое ужасное. Он, даже не спрашивая ни о чем, уговорил Мартиньяна лечь в постель и отдохнуть до утра и потом уже вышел осведомиться о подробностях. Пани Бабинская не пережила кризиса: все средства были употреблены, пригласили нескольких докторов, заказали молебны в костелах, приводили даже одного пастуха, который славился как целитель, – ничего не помогло. От самой смерти жены пан Бабинский стоял на коленях у ее тела, от которого трудно было оторвать его.
Посчитали, что уже нечего было ехать в Бабин. Один лишь пан Пачосский сел в экипаж и поскакал туда уведомить отца о приезде сына.
Было уже светло, когда он возвратился с паном Бабинским, сильно осунувшимся, желтым, небритым, остолбеневшим. Бедняга почти лишился дара речи, тряс головой и плакал горькими слезами. Его не впускали к больному, пока Мечислав не подготовил последнего. Старик вошел и бросился обнимать сына.
Он ничего не говорил, а только выл, рыдая.
Необходимо было несколько часов, чтоб улеглось это сильное горе. По полудни пан Буржим, узнав о приезде пана Бабинского в Занокцицы, приехал к нему с соболезнованиями. Он удивился, застав тут Мечислава, к которому подошел с распростертыми объятиями и поцеловал с прежним дружеским расположением.
– О Боже мой, при каких грустных обстоятельствах мы встречаемся! Так бы мне хотелось поговорить с тобой. Останешься на похороны?
Мечислав еще и сам не знал, что делать, хотя и сознавал обязанность отдать последний долг тетке, у которой они нашли с сестрой свой первый приют.
– Погребение, – сказал Буржим, – будет не иначе как послезавтра, и, конечно, ты должен приехать к нам обедать. Я жду.
Не было возможности, да и желания отказаться. Мечислав обещал. Весь день прошел в напрасных утешениях Бабинского, который, как только перестал плакать и стонать, начал заботиться о похоронах и делал весьма толковые распоряжения. Вечером он непременно хотел ехать в Бабин, чтоб молиться у тела покойницы. Мартиньян должен был отправиться туда на другой день.
Мечислав поехал к Буржимам и был у них уже около полудня. Старик вышел к нему навстречу на крыльцо.
– Представь себе, – сказал он, – и Адольфина сегодня утром приехала, не зная ничего о смерти этой бедной Бабинской. Она будет тебе очень рада, потому что вы были дружны с детства.
Мечислав немного смутился, но уже нельзя было вернуться. Может быть, если б он предвидел, что встретится с ней здесь после свадебного вечера, после разлуки, он отказался бы и не приехал. Теперь было уже поздно. Войдя в гостиную, он застал председательшу и Адольфину в дорожном платье, но на удивление спокойную и нимало не смущенную его приездом. Она подала руку, смело смотря ему в глаза, стараясь уловить, какое эта встреча произвела на него впечатление. Видимое замешательство Мечислава вызвало у нее странную улыбку… Он не скоро мог прийти в себя, она была спокойна.
– Не правда ли, – сказала она, смотря ему в глаза, – что мы не надеялись увидеться так скоро? Бедная Бабинская! Как неожиданно умерла! Когда же приехали?
– Утром, после свадьбы и удивляюсь, что вы меня опередили.
– Я тоже только что приехала… Мужа отправила отдыхать домой. Как же я рада, – прибавила она тихо, – что мы видимся еще раз, прежде чем Серафима отнимет у меня старинного друга. Я не люблю Серафиму.
И Адольфина быстро отвернулась.
Пани Буржимова прервала разговор рассказом о Бабинской, которая заболела преимущественно от беспокойства о сыне и от гнева на его непослушание.
Первый раз в жизни присутствие Адольфины было почти тягостным для Мечислава; он не понимал ее спокойствия и веселости, чувствуя себя униженным и грустным; она, казалось, торжествовала.
– Ну, что же ты теперь думаешь делать? – спросил его председатель за обедом.
– Еще ни на что не решился, – отвечал Мечислав, – а думаю только о бедном Мартиньяне и осиротевшем дяде.
– Вот вы смеялись над неженкой, – вмешалась Адольфина, – а он умеет любить как следует. Никогда я не ожидала от него такой силы чувства, и теперь уважаю его. Ручаюсь, что замужество Люси не охладит его; он останется ей верен.
– Что ты городишь! – прервала председательша. – Пусть бы он лучше выбил себе это из головы и перестал мучить Люсю и себя.
Пани Драминская посмотрела на Мечислава.
– Кто любил по-настоящему, должен до гроба сохранить это чувство, потому что любят только один раз. А иначе то не любовь.
На этом и кончился разговор. Адольфина была чрезвычайно оживлена и непонятна Мечиславу, который страдал, смотря на нее и слушая ее речи. Вскоре после обеда он попрощался и уехал, разбитый несколькими часами, проведенными около Адольфины.
Он был уже у выхода, когда она, догнав его, шепнула:
– Любят один только раз и навеки! И, отвернувшись, убежала.
Мечислав не мог понять ее. На другой день все поехали из Занокциц в Новый Бабин на вынос тела. Здесь Мечислав после долголетней разлуки должен был встретиться с дядей Петром и теткой Ломицкою. И тот, и другая, редкие гости при жизни покойницы, не могли отказаться от приглашения приехать на похороны. Пан Петр, опиравшийся на трость по случаю подагры, был огорчен и смертью сестры, и тревожился относительно похорон, потому что боялся простудить ноги, стоять в костеле и идти за гробом с открытой головой, трястись в экипаже, а главное, не вовремя поесть и не так, как он привык. Для бедной и обремененной семейством пани Ломицкой, которая, овдовев уже несколько лет, одна хозяйничала в маленьком именьице, терпела нередко нужду, тоже было тяжело выехать прилично с тремя взрослыми дочерьми. Надо было сшить траурные платья и шляпки, иметь порядочный экипаж и одеть людей. Ломицкая жила в другом, более скромном кружке, где довольствовалась малым; а здесь, в многочисленном обществе, нужно было явиться иначе. Похороны эти, действительно, стоили ей слез. Дочери ее, может быть, и утешались, что побывают между богатыми семействами и посмотрят на людей, но мать плакала, хотя еще и не могла простить умершей сестре, что та решительно не хотела быть ей сестрою.
– Пусть Бог простит ее, – шептала она, сидя в экипаже, – и при жизни она порядочно мне насолила. Два года она ко мне не заглядывала, а последний раз, когда уезжала, то высунулась из коляски и ругалась. Теперь только отдохнут Бабинские, когда ее не стало.
Похороны прошли пышно, ибо муж ничего не жалел, чтоб они были как можно великолепнее. Пригласил множество духовенства, свечей горели сотни, костел обили черным сукном, всюду нарисовали гербы. Ворчали, особенно старики, что это были бесполезные и даже пагубные расходы, ибо другие захотят подражать и живые разорятся для умерших. Но Бабинский делал это не из тщеславия, а искренно, для женщины, ум которой ценил высоко и которой был благодарен, по его словам за то, что она вывела его в люди. За гробом он шел, рыдая, так что его надо было поддерживать, а рядом шли Мартиньян, Мечислав, дядя Петр и пани Ломицкая с дочерьми. Съехались все соседи и пани Драминская, которой Мечислав избегал, поклонившись ей только издали. Обед приготовили в местечке, но на нем не могли присутствовать отец и сын Бабинские; Мечислав тоже хотел уехать, но его удержала почти незнакомая ему пани Ломицкая.
– Нехорошо, пан доктор, – сказала она, – что и вы нас знать не хотите; а между тем я ваша родная тетка, и если Бог наказал меня бедностью…
Мечислав не дал ей окончить, протестуя против дурного умысла со своей стороны.
– Я, – продолжала Ломицкая, – не охотница до этих похоронных обедов и поеду домой… Но хотела бы познакомиться с вами и расспросить о вашей сестре.
К этой группе присоединился из любопытства и пан Петр, напоминая о себе племяннику.
– Я слышал, что ты выдал сестру удачно? – сказал он. – Да, говорят, и ты хорошо женишься?
– Как, женишься? – подхватила пани Ломицкая. Мечислав только кивнул утвердительно.
– Богатая пани, вдова, я слышал о ней, – прибавил пан Петр, – из графского рода. От души тебя поздравляю. Вот и сироты, а сделали партию лучше тех, у которых были родители. Помни, пан Мечислав, от родных не отрекаться и поддерживать с ними связи.
Так прошло около часа.
Мечислав возвратился в Бабин и нашел Мартиньяна задумчивого у окна, а Бабинского в кресле. Старик заснул от изнурения, но и во сне у него текли из глаз слезы. Мечислав хотел ехать в город, но Мартиньян удержал его до вечера.
– Мне здесь нечего делать, – сказал он тихо, – отец мне не будет противиться, и я поеду туда к вам… Здесь я остаться не в состоянии.
– А что же ты там будешь делать? – спросил Мечислав.
– Не знаю, но мне там легче. Отец не будет противиться.
И действительно, проснувшийся вскоре пан Бабинский обратился к Мечиславу:
– Мартиньян сказал мне, что хочет ехать в город, пусть едет. Что ему здесь делать? Я за него буду управлять хозяйством – это мое дело… Пока жив, не выеду из Бабина, потому что здесь как бы присутствует покойница; я словно вижу ее и слышу; мне все ее здесь напоминает, и это теперь мое единственное счастье.
Мечислав усердно отговаривал кузена от поездки в город и советовал ему путешествие за границу. Мартиньян промолчал, но от своего намерения не отказался.
Мечислав спешил в В…, зная, с каким нетерпением его там ожидали, беспокоился также о сестре, а собственная будущность была для него предметом раздумий. Женитьба на Серафиме отнюдь не должна была, по его мнению, изменить дальнейшего плана жизни… Он хотел выехать для продолжения учебы за границу, потом хлопотать о кафедре или работать уездным врачом и труду быть обязанным своею независимостью.
Жить на средства Серафимы было для него крайне тяжело. Он отдавал себя, но хотел стать наравне с той, на которой женился, и дать себе независимое положение. Он не допускал, что могло быть иначе. В таком расположении духа он приехал к полудню в город, и как был в дорожном платье, не переодеваясь, явился к Серафиме. Радость была большая; вдова ждала уже его давно, беспрестанно подходя к окнам. Продолжительное одиночество этой женщины, не знавшей счастья с первым мужем, делало ее нетерпеливой.
– Наконец! – воскликнула она. – Теперь уж я не отпущу тебя. Нам о многом надо переговорить, необходимо обдумать всю будущность. Мы знали друг друга, виделись, разговаривали ежедневно, но ни один из нас не может сказать, чтоб мы знали, что на душе друг у друга.
– Як вашим услугам.
– К чему это "вы", довольно уж "вы"! – возразила вдова.
– В таком случае я к услугам моей Серафимы…
– Это лучше, но все еще не хорошо, – прервала невеста.
– Ну так к услугам моего Серафима, – сказал Мечислав с притворною веселостью. – Я готов исполнить приказание, только отряхну дорожную пыль.
– После, после, а уж если непременно хотите, позовите Якуба, пусть принесет, что нужно. Францисканская улица далеко, придется ехать туда, возвращаться, а я и минуты не желаю потерять, я буду капризничать.
– Но ведь Якуб не посвящен в тайну. Что он подумает!
– А пусть думает, что хочет, что я больна, а ты мой домашний доктор, – прибавила Серафима, рассмеявшись, – мне все равно.
Мечислав настаивал, но все было напрасно, и пани Серафима позвонила. Явился Якуб.
– Ведь комната, в которой жил граф, готова? – спросила она.
– Готова.
– Принеси туда вещи пана Мечислава, который и переоденется там, чтоб ему не беспокоиться после дороги. Возьми извозчика и привези что нужно.
Между тем подали завтрак. Разговор оживлялся, переходя с одного предмета на другой.
– Не видела ты Люси? – спросил Мечислав.
– Как же! Она была у меня с парадным визитом.
– Ну, как она выглядит?
– Словно надгробное изваяние молодой мученицы: молчаливая, сосредоточенная… одеревенелая. Спрашивала о тебе, я рассказала, что знала. Ждет известия о твоем прибытии.
– Мне хотелось бы навестить ее.
– Поедем вместе, я не могу отпустить тебя. С ней был доктор Вариус; помолодел, такой веселый, вежливый… но в то же время несносный и страшный. Он напоминал мне о твоем намерении ехать за границу… Но путешествие теперь к чему?
– Во всяком случае, должен же я продолжить обучение.
Серафима откинулась назад с удивлением:
– Какое? Докторское? Зачем? Разве же ты полагаешь остаться лекарем?
– Зачем же мне покидать труд стольких лет и бросать науку, которую люблю?
– Более, нежели меня? – спросила пани Серафима.
– О, нет, но, во всяком случае, мне позволено любить ее.
– Любить да, но заниматься ею – этого я не понимаю. Во-первых, она будет отнимать тебя у меня, а во-вторых, поставит нас в фальшивое положение…
Мечислав смутился. Вдова заметила легкое облачко грусти на его лице, с проницательностью светской женщины, знакомой с жизнью и ее пружинами, и дала другой оборот разговору.
– Я слишком уважаю науку, – сказала она, – чтобы препятствовать тебе заниматься ею. Будучи свободен и независим, ты можешь сделать для нее более… но, Мечислав, тебе не следует отбивать практики у других, занимать кафедры, которая бедному труженику даст верный кусок хлеба… в то время как ты ни в чем не нуждаешься, и все, что я имею, общее у нас с тобою.
– Но у меня… нет ничего, – возразил Мечислав грустно. – В это будущее наше хозяйство я не приношу ничего, кроме голода и нищеты.
– Приносишь золотое сердце, мой Мечислав, и бриллиантовую молодость, которая украсит мою старость. Бога ради не будем говорить об этом.
– А я, напротив, умоляю говорить об этом, – прервал Мечислав. – Позволь мне остаться тем, чем подобало быть.
– Не могу же я называться докторшею! – воскликнула с жаром пани Серафима. – Я принадлежу к обществу. Ты также принадлежишь к нему по рождению, и только сиротство принудило тебя искать в другом кругу временного пристанища. Разве же ты можешь отказать мне в этой малой жертве самолюбия… из боязни, что там кто-нибудь не сказал, что ты живешь у меня из милости?
– Я мог принять твою руку и сердце, – сказал Мечислав, – но подобного подарка никогда.
Он проговорил это так решительно, что пани Серафима нахмурилась и остановилась перед ним, как бы колеблясь с ответом.
– Прекрасно мы начали нашу общую жизнь, – сказала наконец она со вздохом, – начали ее спором и недоразумением. Помилуй, Мечислав, мне кажется, если мы лучше узнаем друг друга, то скорее согласимся. Не будем говорить об этом сегодня и помечтаем вдвоем о счастье…
– Милая Серафима, но счастье это требует, чтобы между нами не было тайн и разных убеждений; договоримся наперед…
– Как наперед? – прервала пани Серафима. – Неужели это с твоей стороны условие?
Мечислав опустил немного голову; он не нашелся сразу ответить.
– Я не ставлю условий, – сказал он, помолчав, – а прошу, и ты отказываешь в первой моей просьбе.
Пани Серафима снова нахмурилась, но в ту же минуту ее озарила какая-то счастливая мысль, она подбежала к Мечиславу, протягивая руки:
– О, прости мне, прости, я виновата! Зачем ставить этот вопрос? Ведь я должна тебе доверять: все, что ты ни сделаешь, будет хорошо и благородно. Я тебе говорила, что не хочу быть госпожой, а желаю быть твоей служанкой. Верю тебе, делай как знаешь… Я ничего не требую. Для тебя я готова даже быть докторшей… Чего ж еще хочешь больше?
Мечислав поцеловал ее руку.
– Кажется мне, – сказал он тихо, – что мы только не понимали друг друга.
Пани Серафима прикоснулась губами к его лбу и в каком-то лихорадочном волнении начала ходить по комнате.
– Первым делом, – отозвалась она, – наша свадьба. Я приготовила бумаги, ждать не хочу, не умею, не могу – я стара. Свадьба должна быть скоро, а потом уедем за границу, куда хочешь… В Вену, Берлин, Париж, в Италию, мне все равно, лишь бы с тобой. Навестим и дядю, которому я уже писала. Возвратившись, уедем в деревню, меня так манит сельская тишина. В Ровине все будет готово к нашему приезду. Согласен?
– На все согласен, – отвечал Мечислав.
– Ты будешь себе большим паном посещать госпитали, но только не тифозные и не холерные, этого я не позволю.
Мечислав рассмеялся, и на том кончился разговор. Якуб доложил, что вещи привезены.
Едва затворились двери за Мечиславом, пани Серафима подбежала к зеркалу. Она увидела в нем красивое, но изнуренное лицо, и поспешила освежиться. Она сердилась на себя за неловкое ведение первого разговора, оставившего довольно тяжелые следы, чувствовала, что впала в заблуждение, что выдала тайну и что то, чего желала, могла бы достигнуть иначе и искуснее. Она решилась не вспоминать об этом. В таком намерении она села одеваться и в зеркале заметила две слезы, которые текли по лицу ее. Неужели же это были признаки будущего счастья?
Беспокойство о собственном будущем, может быть, не столько тревожило Мечислава, который крепко верил в привязанность невесты, сколько судьба Люси. В тот же день еще он успел убедить пани Серафиму, что ему необходимо одному навестить сестру с целью узнать от нее, как она освоилась с новой жизнью. Не без труда он вырвался на час и полетел в квартиру доктора.
Однако он не мог, как хотел, пройти прямо к сестре: камердинер доложил о нем прежде Вариусу, а последний радушно поспешил к нему навстречу с той вежливой, но холодной веселостью, которая не допускает ни короткости, ни искренности и отделывается общими местами. Профессор казался в отличном настроении и совершенно счастливым. Обменявшись несколькими словами, он предложил идти к жене. У Люси были и свои комнаты, и своя прислуга, то есть стража. Ее окружала всевозможная роскошь, не было недостатка ни в чем, что могло развлечь ее; были тут и великолепное фортепиано Эрара, и книги, и цветы, и разные безделки украшали эту тюрьму… Мечислав ни на пять минут не мог остаться наедине с сестрой; доктор занимал его, отвечал за молчаливую сестру, объяснял все, показывал, что она ни в чем не имела недостатка, заботился о том, чего она еще могла бы пожелать.
Людвика, действительно, по выражению пани Серафимы, походила на изваяние, сидела бледная, молчаливая, улыбалась, но как-то грустно; отвечала робко, говорила как бы про себя.
Мечислав сказал ей о смерти тетки.
– Бедная тетенька, бедный дядя! – воскликнула она, но взгляд ее упал на Вариуса и голос оборвался.
Мечислав в нескольких словах рассказал о своей поездке в Бабин, о встрече с пани Ломицкою, с дядей Петром, но Людвика уже не обращалась с вопросами, даже не отозвалась ни одним словом. Брат заметил, что она оглядывалась на мужа, чувствовала его присутствие и деревенела. Но это не мешало Вариусу быть в отличном расположении духа.
– Достойнейший профессор, – сказал Мечислав, – я знаю, как у вас всегда много занятий: не теряйте же для меня времени, и позвольте мне побыть вдвоем с сестрой.
– У меня теперь нет никакого занятия, – возразил с жаром Вариус, – я оставил все, чтобы упиваться своим счастьем. Я ничего не делаю, мне приятно быть с вами, для чего же вы хотите удалить меня?
– О, нисколько, – отвечал Мечислав, – но я думал…
– Я совершенно свободен, – сказал Вариус, – от практики отказался, редакцию медицинской энциклопедии передал другому и ничего не делаю.
Несмотря на все старания, от Люси нельзя было добиться ни слова. Муж попросил ее попробовать фортепиано, она чинно встала, подошла к инструменту, отворила его, села и сыграла. Окончив пьесу, спросила, играть ли еще? Потом встала и, подобно автомату, возвратилась на прежнее место. Было что-то поразительное в этой немой, бледной женщине, не жаловавшейся, несмотря на страдание, не открывавшей души, сдерживавшей даже выражение глаз, чтоб оно не выдало тайны.
Мечислав задержался, использовав всевозможные средства, чтобы поговорить с сестрой с глазу на глаз, но это ему не удалось, и он вынужден был попрощаться с Люсей, унося самое грустное чувство.
Вариус проводил его до лестницы.
Мечислава утешало только одно, что это был его пролог, вступление, что борьба еще не начиналась, борьба сердца и чувств… Кто знает? Люся могла еще выйти из нее победительницей. Время могло изменить эти отношения.
Пользуясь свободным временем, он побежал еще на Францисканскую улицу поговорить с Орховской, но так как назначенный час приближался, то он и возвратился поспешно к пани Серафиме, которая уже ждала его с нетерпением.
На вопрос о Люсе Мечислав отвечал только вздохом. Пани Серафима и не спрашивала больше.
Хотя они были вдвоем, но вечерний чай и ужин отличались роскошью. Мечислав знал, что невеста его не была лакомкой и что все это приготовлено для него. Кто знает, может быть, с целью сделать из него сибарита, чтоб труд показался ему тяжелым и неприглядным? Мечислав не понял этого, не заподозрил и был благодарен за это опасное баловство, доказывавшее только привязанность. Богато убранный и прекрасно освещенный стол, заставленный блюдами, мог бы удовлетворить десятка два голодных. Пани Серафима шутя сказала, что хочет его откормить.
– Но я так привык к простому образу жизни, – сказал Мечислав, – что сыт и простым, даже черствым, хлебом.
– Это было, когда была в том нужда, но теперь к чему отказывать себе в удовольствии, а мне в наслаждении предложить тебе все, что только есть лучшего.
– Я избалуюсь, – сказал Мечислав.
– А сколько вечеров ты вместо ужина оканчивал стаканом кофе с булкой? Поэтому теперь имеешь право на лакомства, – заметила пани Серафима.
Она угадала, ибо Мечислав с сестрой не раз ограничивались этим напитком.
Разговор уже не касался ни одного спорного вопроса. Серафима была попеременно искренна, весела и задумчива.
Мечислав поддался ее обянию, размечтался и просидел долго, но о медицине уже не было речи. Пани Серафима отдала ему бумаги, желая поспешить, как только можно, свадьбою.
– Нам не предстоит никаких формальностей, приданого мне делать не надо, бала давать не будем, взявшись за руки, пойдем в костел, вот и все. Зачем откладывать?
– Каждый день дорог.
Мечислав насилу мог уйти, но и то с приказанием приходить пораньше к завтраку. Старуха Орховская, ожидая его, еще не спала. Страшное чувство тоски охватило его, когда он прошел по пустым комнатам. За исключением образа Божьей Матери, Люся ничего не взяла отсюда; все было здесь, как и при ней, – и жалкое фортепиано с разложенными нотами, и недоконченная работа в пяльцах, и увядшие цветы на окне. Пусто и холодно было без нее, словно после мертвеца… веяло трауром.
Мечиславу стало жаль дней, проведенных здесь в заботах, в нужде, но вместе в дружбе с сестрой, с которой делился и горем, и радостью. Судьба сестры и своя собственная представлялась из этого бедного уголка каким-то грустным и страшным сновидением. Оба они в глазах людей должны были быть счастливыми, однако же это счастье даже их старой няне казалось не таким, как бы она желала, и не таким, как Мечислав мечтал о нем.
Вместо того чтоб достигнуть его собственными силами, они добыли его, выиграв в лотерею судьбы баснословную сумму фальшивыми бумажками.
Люся пошла на жертву… он поддался признательности, какому-то искушению, характера которого сам не понимал… Он любил Адольфину пылкой любовью молодости, и что же была за любовь к этой другой женщине, к которой он тоже привязался и близ которой находился, стыдясь может быть, сам непонятной страсти!
Он знал ее несколько лет, а между тем не мог сказать, что ясно читал в ее сердце. И вот он первый раз задумался об этом. Утренний разговор и вечерние нежные слова пришли ему на память, словно загадка для разрешения. Он спрашивал себя, кто она, что у нее за власть? Чем она его влечет к себе? И он находил в себе только неопределенные стремления, которых даже разбирать боялся.
Он почти не знал, кто она? Он знал ее в гостиной за милую, добрую, обязательную, предупредительную женщину, но за этим виднелись только старый муж, ревнивец, тиран, жизнь, полная мучений, и потом годы вдовства. Сколько раз он ни касался этого прошлого, ему отвечали молчанием. Случайно только он узнавал кое-что о путешествиях, о знакомых пани Серафимы, о многих ее прерванных отношениях. Почему? Никогда ему этого не объясняли. Она была как-то странно одинока, свет ли отступился от нее, или она от света; в тех сферах, в которых жила некогда пани Серафима, она знала всех, а теперь никого. Мечислав невольно спрашивал себя, отчего же это? Его охватывала какая-то боязнь, когда он все это обдумывал; в этой женщине, в ее обхождении, в разговоре, в жизни, в самой ее даже доброте, всегда какой-то порывистой, в самой чувствительности было что-то таинственное. Он спрашивал себя – чем, кроме молодости и мягкости характера, он мог заслужить такую сильную любовь, которая сама шла к нему навстречу? По некоторым признакам он чувствовал, что у Серафимы был характер энергический, что она презирала общее мнение и имела еще в себе что-то деспотическое. Одним словом, это был сфинкс с женским лицом, улыбающимся, может быть, для того, чтобы… заманить в пустыню.
Орховская давно уже спала, утих и город, когда после подобных размышлений в пустой гостиной Мечислав перешел в свою студенческую комнатку. Здесь также остались живые следы минувшей жизни: разбросанные книжки, необходимые для диссертации, заметки, препараты, кости, хирургические инструменты.
"Я был тогда счастлив, – подумал он, – а будущее скрыто туманом, и с дороги, хотя бы и ведущей в тупик, не время уже возвращаться".
Он еще спал, когда стук в дверь разбудил его.
Вошел Борух с весьма низким поклоном и веселым лицом… Улыбка его сияла.
– Видите, вельможный пан, какой я пророк, недаром называюсь Борухом: все, что я предсказывал, сбылось слово в слово. Пользуйтесь на здоровье! Чего ж еще желать? Богатство, молодая жена графского рода… Сестрица вышла за миллионера. Вас, очевидно, любит Бог.
Мечислав со странной грустью слушал эти слова.
– А когда ваша свадьба? – спросил Борух настойчиво.
– Сам не знаю… Не будем говорить об этом.
– Отчего же не говорить? – возразил еврей. – Я скажу вам только одно: евреи все знают, это их способность, но я вас прошу, женитесь поскорее.
– Это почему?
– Ничего… но все-таки вы женитесь поскорее… оно как-то вернее. Что должно сбыться, отчего же тому не сбыться немедленно?
Пораженный этим советом, Мечислав напрасно допытывался причины. Еврей не говорил ничего определенного, а только повторял постоянно:
– Я вам советую жениться как можно скорее. С тем он и вышел.
В тот же день были поданы документы. Формальности обещали исполнить в несколько дней, и на будущей неделе обряд должен был совершиться без всякой пышности. Пани Серафима ожидала срока с большим нетерпением, приготовлений не было никаких.
Орховская должна была остаться в прежней квартире, к которой привыкла, с сироткой служанкой, взятой для нее у сестер милосердия.
В продолжение этих нескольких дней, проведенных в нежных беседах и ничегонеделании, Мечислав находился постоянно будто в опьянении, не мог собраться с мыслями, был словно сам не свой. Несколько раз он ходил к сестре и заставал ее грустной по-прежнему. Доктор тоже, как и прежде, был весел и не отходил ни на шаг. Мечислав не мог наедине с Люсей обменяться ни одним словом. Он предложил ей поехать к пани Серафиме, и доктор, у которого не было никаких занятий, отправился вместе с ними. Даже там, сколько Мечислав не подходил к сестре, Вариус как-то являлся к ним, так что наконец Мечислав отказался от бесплодных попыток.
Пани Серафима была с ним добра, нежна, угадывала его мысли и желания.
"Среди этой жизни можно уснуть навеки, – думал он, – но сон такой приятный!"
Мечислав утром в воскресенье явился, по обычаю, на завтрак. Невеста его ходила по гостиной, раскрасневшись, с глазами, в которых блестел огонь как бы потухшего гнева. При его входе она хотела быть веселой, и это не удалось ей; она села возле жениха, взяла его за руку и шепнула:
– Не правда ли, ты всегда будешь добр ко мне? Всегда будешь мне верить и никогда не усомнишься во мне?
Мечислав очень удивился. У нее навернулись слезы на глазах, она встала, пошла к столу.
– Из костела, – сказала она, – мы поедем к Люсе попрощаться, а потом сейчас же в дорогу, не заезжая домой и никуда… Я провела здесь долгие годы невыразимой скуки… хочу забыть их, хочу другого неба. На этом я вижу тучи, которые хотя и прошли, но, кто знает, могут возвратиться.
– О, не возвратятся! – сказал Мечислав, растроганный ее слезами и грустью.
– Это зависит от тебя, – шепнула она, – от тебя. Незачем вспоминать о тучах, – прервала она быстро, – в этот день, в который должно заблистать солнце!
Она протянула руку. Жених поцеловал ее. Первый раз как-то и губы его, и глаза попали на черное колечко.
– Что ж это за грустный знак траура? – спросил он.
– Правда! – воскликнула она быстро и вся покраснев. – Это еще детское воспоминание. Но прочь его, прочь!
И, сняв с пальца кольцо, она бросила его. Черное кольцо покатилось далеко, подпрыгнуло, завертелось и упало где-то потихоньку.
Пани Серафима задумалась. Начали говорить о дорожных сборах.
В тот же день вечер был прекрасный, небо чисто, горожане толпились на улицах. Около пяти часов вечера карета подъехала к костелу. Все было так устроено, чтобы венчание происходило при возможно меньшем количестве свидетелей, при запертых дверях. Люся с мужем, два добрых университетских товарища Мечислава и какой-то услужливый старичок, бывавший у пани Серафимы, – вот и все, кого предназначалось впустить в костел.
Экипажи подъезжали к боковой двери. Все эти меры предосторожности были приняты по распоряжению самой невесты, и все произошло в точности по разработанному Серафимой сценарию. Старик ксендз, тот самый, который венчал Люсю, приступил к алтарю, проговорил коротенькую речь, переменил молодым кольца, связал епитрахилью руки, помолился и благословил.
Во время обряда Люся, закрыв платком лицо, громко плакала, так что ее рыдания по временам заглушали тихую речь ксендза. Невеста дрожала под влиянием какого-то непонятного волнения. Мечислав отвечал твердо, но и в его голосе слышался как будто страх за будущность.
Во время венчания погасла одна свеча в алтаре, но это заметил один только причетник.
Но было другое обстоятельство, которое казалось необъяснимым. Число присутствующих обозначено было с точностью: причетник впускал с известными формальностями, а между тем за колонной, в глубине костела, стоял еще один любопытный свидетель.
Никто его не заметил, и, только когда уже начался обряд, он вышел из-за колонны и стал таким образом, чтоб отходящие от алтаря не могли пройти и не увидеть его. Это был мужчина средних лет, многим старше Мечислава, красивой, мужественной наружности, высокого роста, аристократического облика, с гордым, холодным и насмешливым выражением, брюнет, черноглазый, одетый с большим вкусом, в свежих перчатках, лакированных сапогах и с тростью с золотым набалдашником. Сюртук сидел на нем, словно влитой. В его осанке было нечто военное; он держался прямо, смотрел свысока, а обряд, при котором он присутствовал, казалось, очень волновал его, потому что незнакомец бледнел, краснел и обнаруживал нетерпение. На него мало кто обращал внимания. Один только Вариус, которому он слегка поклонился, отвечал ему тем же.








