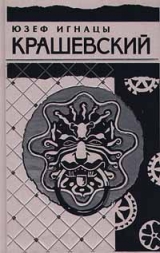
Текст книги "Сиротская доля"
Автор книги: Юзеф Крашевский
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 19 страниц)
Крашевский Иосиф Игнатий
Сиротская доля
Был чудный весенний день накануне Вознесенья; сирень расцветала в саду, пели соловьи, роса сверкала на листьях, небо алело на востоке; в тишине, предшествующей утру, можно было слышать не только громкую песню влюбленного соловья, но и малейший шелест листьев… Дневной свет сквозь густые ветви сада проникал в большую комнату на нижнем этаже, боролся с красноватым блеском нескольких восковых свечей, стоявших вокруг дивана, накрытого ковром, на котором лежало тело умершего мужчины средних лет.
Вероятно, гроб был еще не готов и тело лежало уже одетое, как следовало для далекого путешествия. Оно покоилось со сложенными руками, державшими крест, в сером кафтане. Это был еще не старый мужчина, но уже надломленный жизнью. На желтом лице застыло выражение боли. Должно быть, он много выстрадал, судя по преждевременным морщинам, по облысевшей, наполовину седой голове. Обыкновенно человек сходит в могилу как бы с успокоенным лицом; но здесь виднелась смертная тоска, застывшая в минуту кончины на хмуром челе и на сжатых губах. Руки, в которые вложен был простой медный крест, были желтые, костлявые, как у человека, который долго болел, прежде чем умереть.
Комната, в которой лежал покойник, была бедна, хотя и просторна. На двух противоположных стенах висели почерневшие иконы Спасителя и Скорбящей Божьей Матери. На камине стояли давно остановившиеся часы, с толстыми алебастровыми колонками, из которых одна была разбита. У двери на гвоздике висела оловянная кропильница. У одной стены стоял простой дубовый стол. В головах у покойника на столике, покрытом старой салфеткой, стоял крест между свечами. В ногах на кожаной подушке стояли на коленях дети, прислонясь друг к другу, по временам плакали, но изнеможденные плачем дремали, потом пробуждались и снова плакали… Старший был подростком лет тринадцати-четырнадцати, а девочке, стоящей рядом с ним на коленях, было не более восьми.
Лица обоих, несмотря на горе и слезы, были прекрасны. У мальчика был большой лоб, голубые глаза, орлиный нос, маленький рот, и выражение мужественной силы и отваги виднелось сквозь детские слезы. У девочки большие черные глаза с длинными ресницами; круглое личико ее походило на изображение ангела. Волосы ее рассыпались по плечам, прикрытым простым ситцевым платьицем. Весеннее утро было прохладным, двери и окна растворены, и плачущие дети прижимались друг к другу. По временам мальчик бросал взгляд на осунувшиеся черты покойника, останавливался на них и слезы катились по его лицу. Девочка протягивала руки к ногам и рыдала.
В дверях другой комнаты стояла на коленях пожилая женщина в слезах, опираясь о притолоку и почти теряя сознание от горя. Она хотела молиться по книжке и не могла, ибо каждый раз, как раскрывала ее, слезы заливали страницы и несчастная едва не падала, стараясь сдерживать рыдания, вероятно.
Иногда она с беспокойством смотрела на детей, вид которых вызывал в ней новые слезы. В целом доме долго, очень долго стояла невозмутимая тишина, и только пел соловей, плакали дети, покойник спал вечным сном, пожилая женщина рыдала у порога… Прислуга, измученная предсмертной болезнью хозяина, разошлась для отдыха. Солнце медленно вставало, предвещая погожий и жаркий день. На крышах начали клекотать аисты. До слуха женщины долетел стук экипажа, раздавшийся громче на мостике и утихший недалеко от дома.
Через минуту бедно одетый мальчик, в серой куртке, подошел и шепнул что-то на ухо женщине, которая встала, тихо приблизилась к детям, прижала их к себе и, говоря им что-то поочередно, направилась в другую комнату, опираясь о стену.
– Мечислав, ты старший, – сказала она мальчику, – возьми Люсю за руку и ступайте к тетке: тетка ожидает вас во флигеле.
– Милая Орховская! – воскликнула девочка. – Ведь у нас… у нас нет тети.
– Я тебе говорила, душенька, что у вас их даже две; есть у вас и дядя, и они вам теперь будут вместо отца.
– Ах, моя Орховская, – сказала Люся, бросаясь к ней на шею, – мы их не знаем, не видели… они здесь никогда не были. Отец всегда говорил: "Нет у вас никого из родных на свете".
– Отец так говорил, – шепнула Орховская, – чтоб вы привыкали ни на кого не рассчитывать, а только на собственный труд и покровительство Божье… А если они не приезжали… то потому, что им было некогда… так сложились обстоятельства… Ступайте же к тете Ломицкой, упадите к ее ногам, будьте ей послушны.
Мечислав оглянулся назад, на отца. Люся плакала, но Орховская, подталкивая их, вывела на двор. Здесь между старыми тополями стоял такой же старый, как они, флигель, покосившийся, с крышей, обросшей мхом. Перед крыльцом его стояла бричка, запряженная тройкой, и кучер разбрасывал по земле сено чахлым лошадям, удостоверившись прежде, что их не было где распрячь и поставить. Действительно, сараи были жалкие, а возле них стояло несколько повозок, и запряженные в них лошади ели овес из торб, подвешенных на шеях.
Во флигеле, в небольшой комнате эконома, сидела немолодая женщина, не снявшая еще дорожного костюма, с глазами, покрасневшими от слез и усталости. Изредка посматривая вокруг на окружающую ее бедность, она вздыхала.
И вот вошли дети, подталкиваемые Орховской. Увидев их, приезжая закрыла лицо и заплакала. Дети остановились, боясь подойти к ней. Орховская хотела уже подтолкнуть детей вперед, как на дворе застучала и въехала четвернею карета, в которой сидела дама рядом с горничной в платке, старавшейся занимать как можно меньше места. Едва экипаж мог поворотиться в малом дворике. Приезжая дама, к которой подошел за приказаниями лакей, слезший с козел, не знала, что сказать ему, осматриваясь с испугом и ища глазами местную прислугу. У дверей дома стоял только мальчик в серой куртке. Но на стук экипажа вышла старая Орховская, оставив детей во флигеле, и приблизилась к карете.
– Конечно, здешняя? – спросила у нее дама.
– Да, ясновельможная пани.
– Куда же тут заехать? Где выйти?
– А где ж, – отвечала тихо со вздохом старая домоправительница, – я уж право не знаю, что и сказать, так у нас тесно. В доме в большой комнате лежит тело, комнаты покойного вчера запечатаны судейскими чиновниками; рядом вам было бы неприятно… Во флигеле одна комната, там уже поместилась пани Ломицкая, и я отвела туда детей, и если вам угодно…
Пани в карете вздохнула, приподнялась и осмотрелась. Не отвечая ни слова, она ворчала себе что-то под нос. Лакей стоял у дверец, лошади дергали, потягиваясь к конюшне. Подумав немного, пани велела наконец открыть карету, и лакей высадил ее. Задумчиво пошла она к флигелю, останавливаясь по дороге, словно колебалась и не знала, что делать. Орховская шла за нею.
– Где же наконец? Здесь? – спросила она, указывая на дверь флигеля.
Старуха пошла вперед.
Когда отворили дверь, то находившаяся в комнате пани стояла уже, как бы ожидая вновь прибывшую. Они смерили друг друга взглядами.
Комната была небольшая; часть ее занимали вещи эконома; в центре стоял большой дубовый стол. Пользуясь замешательством, дети отодвинулись к шкафу у дверей и забились в угол. Эконом вышел. Приезжая пани осталась с детьми и Орховской, остановившейся у порога. С смущением и гневно смотрели они друг на друга, словно хотели начать разговор и обе боялись неудобных свидетелей. Наконец находчивость пани, приехавшей в карете, вывела обеих из затруднения. Более светская, она поклонилась приехавшей в бричке, обняла детей, велела Орховской увести их и уселась на пустой стул. Дверь закрылась; обе пани, оставшись наедине, молчали. Пани Ломицкая, приехавшая в бричке, ждала, пока заговорит другая.
– Итак, несчастный Павел умер! – воскликнула со вздохом пани Бабинская, приехавшая в карете.
– А мы через много лет встречаемся, по крайней мере, у его гроба, – ответила Ломицкая.
– Милая Ломицкая, – прервала, нахмурившись и поправляя платье, пани Бабинская, – здесь не время и не место для упреков.
– Я и не упрекаю, – возразила, отвернувшись немного, Ломицкая.
Приглядевшись к двум женщинам, можно было заметить немалое сходство между ними. Пани Ломицкая была, пожалуй, старше несколькими годами, но время сравняло их и разница казалась; небольшой. Жизнь, однако ж, сделала гораздо большую перемену. Пани Ломицкая была одета бедно, Бабинская – роскошно, тщательно и щегольски. У первой лицо было бледное и желтое, у второй – полное и румяное; на обеих одинаково обнаруживалось выражение излишней обидчивости и гордости – у одной от бедности, у другой – от довольства. Оба эти чувства, рождающиеся как от богатства и звания, так и от бедности и приниженности, сходятся вместе в одной и той же холодности, в одном и том же презрении. В глазах у обеих виднелись взаимное отвращение и ненависть, может быть только сдерживаемые торжественностью минуты. Они молчали.
– Вот результат нелепого упрямства покойника! – сказала наконец пани Бабинская. – Дети без средств обременят чужое семейство… Кто этому виной?
– Оставим мертвых в покое, – отозвалась Ломицкая. – Мы тоже бедны, но если понадобится, то возьмем детей моего брата.
– Я тоже не пожалею для них куска хлеба, хотя у меня и есть свое дитя, – отозвалась другая, – но что правда, то правда. Павел добровольно разорвал со всем семейством.
– Оставим мертвых в покое, – повторила, повышая голос, Ломицкая.
Разговор постепенно принимал все более острый характер, но на мосту застучал третий экипаж. Он уже не мог поместиться в тесном дворике, кучер остановился прямо у моста, а из экипажа высунул голову не старый еще мужчина и, оглянувшись вокруг, приказал ливрейному лакею отворить дверцу и вышел.
Он осматривал дом и экипажи, опередившие его, как подошла к нему Орховская с детьми. При виде их пан быстро поцеловал Мечислава в голову, потом Люсю и спросил серьезно:
– Ну, куда же тут деваться? Кажется, уже Ломицкая и Бабинская приехали? Где же?
– Во флигеле, ясновельможный пан, в комнате у эконома, потому что в доме лежит покойник.
Высокого роста, стройный мужчин немного задумался, потом проворчал что-то и пошел во флигель. Он вошел на порог именно в ту минуту, когда пани замолчали, и, отворив дверь, сказал:
– Вот и я! Добрый день!
Бабинская и Ломицкая молча подали ему руки.
– Боже мой, как беден был этот Павел! – сказал мужчина, бросая шапку на стол. – Я никогда здесь не был. Я знал, что деревушка убогая, но не представлял ничего подобного!.. Страшная нищета. Как он мог жить в такой трущобе!.. Несчастный должно быть замучил себя и детей погубил.
Пан пожал плечами.
– Вот и я говорю то же самое, – вставила Бабинская, посматривая на соседку, – но с покойником не было никакой возможности договориться.
– Что правда, то правда, – сказала Ломицкая. – Не мы отреклись от него, а он от нас; однако прибавлю еще раз, не время говорить об этом.
– Ну и не будем, – отвечала Бабинская, отворачиваясь к окну.
– Хорошо, но зачем же мы сюда приехали? – воскликнул пан. – Необходимо организовать похороны и что-нибудь решить с детьми. Что было, то было, а покойник Павел все-таки наш брат. Люди осмеяли бы нас, если б мы теперь отреклись от него так, как он отрекался от нас. Надо что-нибудь придумать.
– Я самая бедная в семье, – начала с живостью пани Ломицкая, – у меня пятеро детей, но, если нужно, возьму и этих сирот.
– Позвольте, я тоже не отказываюсь, – громко сказала пани Бабинская, – никто не налагает на вас этой тягости, но мне кажется, было бы справедливее, если бы мы разделили сирот.
– Я не отказался бы от исполнения родственной обязанности, – отозвался пан, – издержки ничего не значат; но жена моя болезненная, мы дома не сидим, она же не любит детей… Что же я буду делать с ними? Вам известно, что у меня нет своего состояния, и хоть жена мне ни в чем не отказывает, однако я должен считаться с этим… да, должен считаться!
– Помилуйте, – прервала резко Ломицкая, – прежде надо подумать о покойнике. Ведь тело ожидает погребения.
– Я уже позаботился об этом, – ответил мужчина, – я заезжал к ксендзу и пригласил его. Конечно, нечего думать о пышности, но сегодня же произведено будет приличное погребение. Неужели же я буду ему еще делать поминки за то, что он не хотел знаться с нами? Кто будет из соседей, тот будет: ведь всем известно, что он умер. Вот и все. Но, кажется, – прибавил он, – здесь не дождешься и кофе.
Он постучал в окно на Орховскую. Старушка вошла.
– Скажи мне, асани [1]1
Обычное обращение к низшим. – (Примеч. пер.)
[Закрыть], не можешь ли ты дать нам хоть кофе?
Орховская вздохнула, ломая руки.
– А где же у нас могло быть кофе? – прошептала она. – Давно уже мы его не пробовали. Был бы для детей суп, да можно было бы достать яичка или немного молока.
Пан покачал головою, смотря на сестер.
– Ничего не остается, – воскликнул он, – как пойти к покойнику помолиться, а потом ехать в местечко и там ожидать; похорон! Когда все будет готово, ксендз даст нам знать. Асани, кажется, зовут?..
– Орховская, к вашим услугам.
– Итак, пани Орховская, после похорон прошу к нам в местечко: там решим что-нибудь. Понимаешь?
И пан быстрыми шагами, словно хотел скорее отделаться от? неприятной обязанности, направился к дому. За ним последовали обе пани. Все на минуту стали на колени у тела, взглянули на лицо покойника, позакрывали глаза, словно не желая показать слез, которых, кажется, и не было, и поспешили выйти из смрадной комнаты на свежий воздух.
Вскоре все три экипажа выехали в местечко, а дети с Орховской стояли у крыльца, смотря на отъезжавших.
В доме слышались погребальный напев и стук молотка… Именно в это время столяр прибивал крышку.
В тот же день вечером совершилось погребение.
В большой комнате постоялого двора в местечке собралось семейство покойника, которое утром мы видели во флигеле.
Кроме членов этого семейства сидел в кресле старик с седыми, гладко зачесанными волосами, со спокойным, но грустным лицом, в сутане бедной и сильно поношенной. Несмотря на то что с первого) взгляда в нем видно было добровольное убожество, какая-то благородная серьезность внушала к нему уважение. Щегольские костюмы пана и пани не произвели на него ни малейшего впечатления, и присутствующие посматривали на него с некоторой боязнью.
– Напрасно говорить светским языком, золотя пилюлю, – отозвался он через минуту, – будем беседовать так, как повелевают любовь к истине и христианский долг. Покойник не был виновен… Человек достойный, честный, трудолюбивый – пал жертвой долга… Вся его жизнь легко передается в нескольких словах. Полюбил он бедную, но честную девушку, вы не хотели признать ее за сестру, потому что она не была шляхтянкой. Но даже и в силу ваших неправильных понятий о дворянстве, о котором не упоминает Спаситель в своем Евангелии, вы были не правы, ибо и по вашим законам женщина, выходя замуж, входит в сословие мужа и разделяет права его.
– Позвольте, ксендз-каноник! Что же мы могли сделать вопреки целому свету?.. Дело шло не о нас, но о семействе… Мы не могли ни убедить, ни исправить света…
– Об этом и речи нет, считайтесь сами со своей совестью, – возразил каноник. – Что сделано, то сделано, но человек, которого вы напоили горечью, исполняя свой долг и защищая жену, жил, боролся с бедностью один, без помощи. Потеряв жену, он трудился для детей, но злая судьба оказалась сильней него… Остались сироты… Ну, что же вы думаете делать с этими сиротами? Не пора ли раскаяться?
– Я уже сказала, – отозвалась с живостью пани Ломицкая, – что у меня пятеро детей, что я бедна; но если надо, я беру детей к себе.
– А я уже сказал, – произнес мужчина, пан Петр Орденский, – что детей не возьму. Жена моя терпеть не может детей, мы дома не сидим… одним словом, не могу. Но я для них пожертвую, охотно дам… что могу, сделаю.
– Я от обязанностей не уклоняюсь, – сказала серьезно пани Бабинская. – У меня есть сын, но Бог нам дал достаточно средств и для воспитания сирот. Вы можете, братец, ничего и не давать, сестрица должна заботиться о своих пятерых детях, а я похлопочу о сиротах. Стало быть, нечего и говорить об этом. Я уверена, что муж одобрит мое решение. Повторяю, что дело кончено.
Они замолчали. Пробощ широко развернул платок, посмотрел на него, потом на пани Бабинскую и сказал:
– Что ж, это хорошо, очень хорошо. Но вы, делая добро, не отымайте заслуг и у других. Каждый должен по своим силам…
– Но я дам… сколько там нужно? Я дам! – воскликнул мужчина.
– Ничего ты не должен давать, – отозвалась сестра, – достаточно будет и наших средств.
– Позвольте же, дайте и мне слово выговорить, – резко начала пани Ломицкая. – Не оскорбляя сестры, мне кажется, недостаточно еще сказать "я беру детей" и потом бросить их во флигеле без надзора, чтоб ее сын не избаловался при них. Я если возьму детей, то буду воспитывать их вместе со своими. И как следует.
– А вы думаете, что они у меня испортятся? – воскликнула резко пани Бабинская. – Где же доказательства? Разве вы можете проникнуть в мои мысли? Ведь я же еще не объяснила, как буду воспитывать? Я не сделаю из них изнеженных баричей, но и не выброшу во флигель.
Сестры взглянули друг на друга. Ломицкая улыбнулась, пожимая плечами.
– Мои предположения, сударыня, – отвечала она, – основаны на том, что мы знаем одна другую.
– Перестаньте, перестаньте, – прервал каноник, – разве ж это годится… Ведь вы сестры.
– Здесь дело идет о судьбе сирот! – воскликнула Ломицкая.
– Воспитывая их со своими пятерыми детьми, вы не дали бы им лучшей доли, – прервала Бабинская.
– Намек на мою бедность! – воскликнула Ломицкая. – Но она мне милее, нежели миллионы, приобретенные, извините, на скотном дворе.
Пани Бабинская вскочила со стула; пан Орденский смутился, ксендз встал.
– Уймитесь, – сказал последний серьезно, – как вам не стыдно! Приехали на похороны со слезами, а тут ссоритесь и из-за чего? Разве же честный доход от свиней хуже дохода от пшеницы? Бог с вами! Ведь вам нельзя забывать, что вы сестры.
– Действительно, нельзя, – отозвалась, улыбаясь, пани Ломицкая, – потому что я не пренебрегала своими сестринскими обязанностями, но со стороны Бабинских было иначе. Потому только, что мы бедны, что к крыльцу их подъезжали в бричке, нам были не рады, и мы без труда это поняли. Да и братец тоже не лучше.
– Перестань же, Ломицкая! – воскликнул пан Орденский. – Я женился на особе знатной фамилии, и потому не слишком приятно, если бедные родственники придут доказывать, что я живу за чужой счет. Есть известные общественные условия, с которыми следует считаться.
– Тем более, – прибавил ксендз с усмешкою, – что пани Ломицкая поступала с покойной невесткой так, как вы с нею.
– Отец! Ведь она была мужичка.
– И Адам был Божьим земледельцем и дай Бог, чтоб все мы были Божьими крестьянами, моя пани. Да, – продолжал ксендз, – прекратите этот разговор.
Ломицкая села, отвернувшись к окну, пан Петр Орденский начал быстро ходить по комнате; каноник сел.
– Итак я беру детей, – сказала Бабинская.
– И Бог наградит вас за это, – отвечал ксендз. Пан Орденский отозвался:
– Берет для того, чтобы люди сказали: "Посмотрите, какие добрые эти Бабинские, какие это благородные люди! Покойник был с ними в ссоре, а они после его смерти приютили его сирот!" И еще прибавят: "Богатый брат не подумал об этом, а другая сестра умыла руки. Бабинские великодушны, господа Бабинские".
– Петр! – закричала вдруг Бабинская. – Не заставляй меня высказать тебе горькую правду, ибо, клянусь Богом, скажу…
– А ну, скажи, сделай одолжение, – проговорила, улыбаясь, Ломицкая, встав со стула и сделав реверанс.
Но в момент, когда Бабинская собиралась уже произнести нечто неприятное, ксендз положил конец ссоре.
– Довольно! – сказал он. – О безрассудные, сердитые женщины! Что это значит? Саном моим запрещаю вам всякую ссору.
Обе сестры уселись; брат закурил сигару.
– Я настаиваю на том, – отозвался пан Орденский, – чтоб и я в известной степени участвовал в содержании сирот.
– А вы возьмите на себя приведение в порядок дел брата, это будет лучше, – сказал ксендз-каноник. – Впоследствии, когда будет нужно, займетесь судьбою мальчика и поможете девочке. Теперь даже лучше, чтобы дети были вместе – бедные сиротки очень привязаны друг к другу.
Каноник встал с кресла.
– Пани мои, – сказал он с кроткою улыбкою, – в память покойника и во имя божественной любви забудьте ссору и как сестры примиритесь. Ведь вы родные, вас всего трое на свете. Бог велел любить друг друга, исполните же это повеление. Разве можно, чтобы люди потому только, что случайное положение ставит их на различных ступенях, ссорились из-за подобного ребячества? Вы вместе воспитывались, одна и та же кровь течет у вас в жилах. Мир вам, мир, мир!
Бабинская посмотрела на Ломицкую, Ломицкая на Бабинскую, кто сделает первый шаг, – пан Петр стоял равнодушный, но готовый к примирению. Наконец Ломицкая протянула руку – последовало холодное пожатие. Брат подошел, но как-то не мог выговорить ни слова. Очевидно, они подчинились совету священника, но в сердцах осталась прежняя неприязнь, которые только спрятались, как бы умолкли на минуту.
Каноник посмотрел на эту сцену, взял шляпу и, поклонившись, тихо вышел из комнаты.
Едва он сделал несколько шагов, как на дороге из ближайшей деревушки увидел Орховскую, которая вела детей за руки. Ксендз подождал их и молча начал целовать детей и прослезился. Мечислав опустил голову; лицо его было печально. Каноник слегка поднял мальчику голову и посмотрел в глаза.
– Тебе уже пошел четырнадцатый год, не правда ли? – начал он тихо. – В этих летах является уже сознание, ты должен понимать и чувствовать свое положение и положение сестры… Вас двое на свете… Ты ее покровитель – об этом никогда не следует забывать, ты имеешь обязанности. Понимаешь?
– Понимаю, ксендз-каноник, – отвечал мальчик медленно, обдумывая каждое слово, – понимаю. Покойный отец несколько раз повторял это во время болезни… Я Люси не оставлю, а как вырасту, возьму ее к себе домой и будем жить вместе.
– Так, но до тех пор тебе нужно учиться прилежно, чтоб уметь заработать себе кусок хлеба, – говорил священник. – Тетя Бабинская берет вас обоих к себе.
Дети, молча, посмотрели друг на друга.
– Надо быть за это признательным, послушным, кротким, – продолжал каноник, – и отблагодарить за эту милость. В чужом доме, хотя бы и у родственников, где вас приютят из сострадания, надобно смиряться…
Мальчик слушал, не отвечая ни слова… Орховская плакала и не могла удержаться, чтоб не прервать каноника.
– Ах, дорогой отец! – сказала она в слезах. – Пани Бабинская! Бабинская… О Боже мой, как-то будет у нее детям… Сомневаюсь, чтобы она захотела взять меня вместе с ними, а они так ко мне привыкли, да и я к ним привязана. Тяжело расставаться, даже если подумаю об этом, то сердце разрывается. Если б вы, отец мой, походатайствовали за меня… Пусть бы мне отвели там какой-нибудь угол… Я вообще ем мало, одежды у меня хватит еще надолго… и по крайней мере я могла бы присмотреть за детьми. Ведь известно, ксендз-каноник, что чужие люди не слишком будут о них заботиться.
– Уж я не знаю, захотят ли вас взять, – отвечал каноник, – а навязывать им это условие неудобно… Хорошо еще, что хоть детей берут… Возвращаться мне с этим неудобно. Просите сами пани Бабинскую, а я при случае замолвлю слово.
Каноник удалился задумчивый, а дети, прижимаясь к старушке, пошли к постоялому дому. Там еще царствовал мир, заключенный при посредстве каноника, хотя после долгого равнодушия трудно сразу возвратиться к искренности. Пан Петр Орденский ходил по комнате с сигарой, а обе пани, обмениваясь словами, смотрели друг на друга с плохо скрытым недоверием. Отворилась дверь, и вошла Орховская с детьми, которые, с беспокойством посматривая на теток, остановились у порога. Бабинская знаком подозвала их к себе.
– Иди же, Мечислав, поклонись тетеньке в ножки, – шепнула Орховская, – поблагодари…
Подталкиваемые, бедняжки пошли вперед… Бабинская была не злая женщина, слезы выступили у нее на глазах, и, обняв детей, она прижала их к себе.
– Вы едете со мною, – сказала она. – Только будьте послушны, и будет вам хорошо.
Мечислав поцеловал тетке руку.
– Если уж вы так милостивы к нам, бедным сиротам, тетенька, – сказал он, – то окажите нам еще одно благодеяние.
– Что такое? – спросила тетка.
– Орховская сильно плачет, ей хотелось бы уехать вместе с нами. Люся так привыкла к ней, и мы ее так любим
– Но, дитя мое, – холодно возразила Бабинская, – трудно мне забирать для вас всех ваших слуг. Довольно их у меня. В заботливом надзоре вы не будете иметь недостатка… наконец…
Орховская, не смея заговорить, плакала.
– Трудно, невозможно, – продолжала Бабинская. – У нас до– ^ вольно прислуги.
– Ясновельможная пани, – пробормотала старушка.
– Но я не могу, не могу… Не следует приучать детей к таким * нежностям… Напрасно. Собери только вещи, асани, детские вещи, и пришли их ко мне сюда.
– Я сама принесу, – отозвалась старуха и поспешила за дверь, чтоб скрыть безудержные слезы.
Дети хотели последовать за ней, но Бабинская удержала их.
– Прошу оставаться здесь… Садитесь там на кровати. Попрощаетесь с Орховской, когда она придет с вещами.
И пани Бабинская обратилась к сестре, словно желая объясниться перед нею.
– Нельзя же опять загрязнить дом такою нищетою, – сказала она. – Эта старуха неопрятна и выглядит как нищая. Я не могла бы вынести ее присутствия… Впрочем, оно и бесполезно: есть кому присматривать за детьми. Наш Мартиньян почти ровесник Мечиславу – они однолетки, а что касается Люси, я сама буду за нею ухаживать.
– А пока привыкнут… – отозвался брат.
– Не надо баловать, это хуже всего, – прервала Бабинская, – пусть сразу учатся жить. Их в мире ожидает много грустных моментов… Нет, это бесполезно.
Пани Ломицкая вздохнула. Дети уселись на кровати и, взявшись за руки, то боязливо посматривали на незнакомых родственников, то плакали.
Между тем приказано было запрягать лошадей, ибо пани Бабинская очень спешила домой, и, когда Орховская с мальчиком принесли вещи, все было готово к отъезду.
Прошло семь лет со времени описанного происшествия, семь лет, в продолжение которых Мечислав из тринадцатилетнего мальчика сделался двадцатилетним юношей, но который в действительности был старше своего возраста.
Люся тоже была уже пятнадцатилетней барышней, а так как это нежное уменьшительное имя, вынесенное еще из отцовского дома, не пристало бедной племяннице, жившей у Бабинских из милости, то ее и называли панною Людвикою Орденскою.
В доме у Бабинских мало что изменилось в эти семь лет, разве только что Мартиньян, будущий наследник обоих родителей, единственный и любимый сын, вырос и собирался повидать свет и пользоваться свободною жизнью.
Бабинские жили в согласии, как и в первое время после свадьбы, и хотя любовь прошла, но осталась тесная дружба, основанная на взаимном уважении.
Мы должны возвратиться к прошлому, чтоб лучше обрисовать героев нашего романа. Орденские – старинная и весьма богатая шляхта – владели значительными имениями и жили в высших сферах общества, имея все условия для хорошего приема в этих сферах. Но, как у нас чаще всего случается, сношения с богатыми, с магнатами повлекли Орденских к непосильным издержкам; для поддержания их необходимо было приносить жертвы, имение пострадало, разорилось, и пришла пора – и лопнуло.
Когда уже состояние колебалось по смерти старосты Орденского, надо было подумать о будущем двух дочерей и двух сыновей. Панны получили хорошее воспитание, одна из них вышла за богатого доробковича [2]2
Слово, передаваемое буквально, – доработавшийся. Так называется шляхтич, который из самого бедного состояния трудом или спекуляциями достигает богатства. Аристократия смотрит на него презрительно, потому что он доробкович, и сам он уже считает унизительным иметь сношения с бедною шляхтой. Разумеется и здесь, как везде, есть исключения. – (Примеч. пер.)
[Закрыть], пана Бабинского, шляхтича сомнительного происхождения, а другая за бедного Ломицкого, имевшего всего одну деревушку в долгах. Петр женился на богатой пани, которая влюбилась скорее в его наружность, нежели в другие достоинства, ибо природа была скупа к нему относительно последних. Павел, несмотря на то что ему очень мало осталось после родителей и что мог бы найти себе невесту с приданым, влюбился в бедную девушку, крестьянскую дочь, воспитанную в монастыре. Семейство его делало что могло, чтоб воспрепятствовать этому, и он вынужден был рассориться с ними. Переходя с аренды на аренду, он бедствовал, мучился, потерял жену и, наконец, оставил детей сиротами. Родственники практически не общались между собой.
Пан Петр, женатый на знатной и весьма гордой особе, должен был удалиться от своих, ибо даже богатый Бабинский не был по родственному принят в доме, зараженном аристократизмом.
Бедные Ломицкие, у которых было пятеро детей, имели не слишком много времени бывать в свете. Бабинские жили в своем кругу.
Бабинский был человек простой. Отец его, как было известно околотке, свое состояние сколотил на свиньях. Он покупал их откармливал, торговал ими, а так как ему везло и человек он был бережливый, то приобрел столь значительный капитал, что купил обширное имение и вошел в число помещиков. Он не знал, как, да и не сознавал потребности дать сыну блестящее воспитание. Предназначив его на роль земледельца и хозяина, он был того убеждения, что деревенскому жителю немного нужно кроме здоровья и трудолюбия, а потому нанял семинариста, велел учить сына чтению, письму, четырем правилам арифметики и тем удовольствовался. Молодой человек скоро окончил образование. Детина из ней вышел огромный, располневший преждевременно. Лицо у него было приятное, хотя и не очень умное… Но он и сам отлично знал, что пороха не выдумает, да и не имел на это ни малейшей претензии
Еще при жизни отца Бабинский задумал жениться; он влюбился в панну Орденскую, увидев ее однажды в костеле. Пани получил неплохое образование, была умна, раскованна, носила шляхетское имя, но приданого имела очень мало. Старика Бабинского это не радовало, ибо он намеревался женить сына на богатой; однако он не противился, так как был того убеждения, что сыну необходимо жениться поскорее. Со стороны панны и ее семейства, когда Бабинский начал ухаживать, возникали затруднения; но у наивного жениха были три отличные деревни и, конечно, капиталы у отца который все еще спекулировал, хотя и не свиньями, – и к тому же молодой человек казался сговорчивым созданием. Последнее в особенности говорило в его пользу. В сущности, он был человек хоть и неотесанный, но доброго сердца и крепкого характера. Он не слишком-то нравился панне, но она была бедна и чувствовала, что будет управлять им. И вот с первых же пор – еще женихом – она взнуздала его. Бабинский был так проникнут превосходством своей невесты, так любил ее, так был счастлив, что доставалось ему подобное сокровище, что весь отдался в ее распоряжение. Кася приказывала, и ее слушались беспрекословно.
Вскоре после свадьбы, несмотря на замечания старика Бабинского, который был врагом всякого хвастовства, пани приказала построить дом, названный палацем, и все необходимые к нему пристройки Молодому мужу это нравилось, он находил все это необходимым для такой особы, как его жена. Пока жил старик Бабинский, еще заметна была какая-то сдержанность, но после его смерти пани могла беспрепятственно исполнять самые смелые свои замыслы. Одну деревню, из уважения к шляхетским преданиям, назвала Новым Бабином, чтоб несколько поддержать свое шаткое дворянство… Заложили парк, выкрасили палевым цветом палац, и появились гербы всюду, где только приличие позволяло поместить их.








