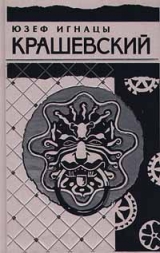
Текст книги "Сиротская доля"
Автор книги: Юзеф Крашевский
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 19 страниц)
– Отчего же до завтра? – спросил он с какой-то болезненной насмешливостью. – Отчего же не через год?
– У меня есть предчувствие, что это переменится, увидишь… Люди временно поддаются страсти, но потом совесть отзывается, они сознают несправедливость…
Несмотря на утешения и просьбы сестры, Мечислав не встал с дивана, замолчал и остался в том же положении… Немного погодя, усталый, он склонился на подушку и уснул до утра.
Сон его был крепкий и тяжелый, от которого он не мог пробудиться, но который мучил его, так что когда наконец молодой человек проснулся утром, то чувствовал себя словно после болезни и вынужден был попросить Орховскую принести ему чего-нибудь для подкрепления сил. На вопрос о сестре старуха отвечала, что паненка долго молилась ночью и плакала, что очень рано вышла с молитвенником и еще не возвращалась.
Мечислав полагал, что она отправилась в костел и потом по обыкновению к пани Серафиме… Но случилось иначе.
Люся действительно поспешила к ранней обедне, помолилась пламенно и с облегченным сердцем направилась быстрыми шагами к университету. Было восемь часов, когда она позвонила в квартиру профессора Вариуса.
Ученый был уже за конторкой, потому что вел чрезвычайно регулярную жизнь, и вчерашняя минутная вспыльчивость не в состоянии была изменить его обычной дневной программы. Слуга, полагая, что незнакомая дама пришла за медицинским советом, объявил, что доктор в эти часы не принимает больных.
– Я не больна, а пришла по важному делу, – отвечала Люся твердо. – Прошу отнести профессору мою карточку и сказать, что мне необходимо с ним видеться.
Слуга подчинился повелительному тону и пошел с докладом, а через минуту возвратился и попросил девушку в гостиную.
Комната была убрана в строгом стиле, но довольно пышно. Несколько дорогих картин, мебель черного дерева, бронза, ковры, мраморные, мозаиковые столы – по большей части подарки пациентов, – все это было искусно подобрано. Бледное лицо Вариуса на этом фоне казалось привидением. С поклоном и потирая руки, подошел он к панне Людвике и указал ей место на диване; на губах его играла насмешливая улыбка.
– Господин профессор, – сказала смелым голосом Люся. – Вы догадываетесь, что привело меня к вам?
– Догадаться нетрудно, но я не мог надеяться на это счастье, тем более, что шаг ваш положительно напрасен.
– Позвольте! Перед вами двое несчастных существ, двое сирот… Неужели сердце ваше не знает сожаления?
– Панна Людвика, – отвечал профессор мягким голосом, – обязанность моя на экзаменах не иметь жалости ни к одному, чтоб не погубить тысячи. Сострадание было бы здесь грехом. Самонадеянный и незрелый брат ваш, будучи выпущен с дипломом, убивал бы людей… Я должен иметь сострадание к ним, а не к нему. Он ничего не знает.
– Человек, которого признавали наиспособнейшим?..
– И способности его погубили, потому что придали ему гордость и самонадеянность, – прибавил Вариус. – Ему необходим был сильный урок.
– Господин профессор, допустим наконец, что было так, я как сестра, отлично знающая его, с этим согласиться не могу, – наказать его частным образом было бы добросовестно, но унизить публично и незаслуженно мог только тот, кто желал мщения.
Девушка проговорила это с жаром. Вариус нахмурился.
– А если б и так? – возразил он. – Я ведь человек… не таюсь. Я приписываю ему, что он у меня, у старика, отнял то, что было последним счастьем или мечтою счастья в жизни… Почему же мне было не уничтожить червяка, который кусал меня?
– Разве же это благородно? – спросила Люся, смотря с беспокойством на своего собеседника.
– Не знаю, но это естественно, – отвечал Вариус.
– Допустим, – прервала девушка, – что это могло быть возможным вчера, но разве сегодня вы не пожалели об этом, одумавшись?
– Я никогда не жалею о том, что сделал, не отрекаюсь от того, что сказал, не сворачиваю с дороги, на которую ступил. Хорошо ли это, или дурно, человек должен быть логичным, а иначе будет слабым.
– Знаете ли вы, господин профессор, что это приговор голодной смерти нам обоим? – спросила Люся.
– Не знаю, у вас есть друзья… это преувеличение; но если б и так было, какое мне дело до этого?
Он встал и прошелся по комнате.
– И ничто не может склонить вас к перемене, к исправлению зла, которое вы нанесли нам сознательно?
Профессор прошелся снова, поворотил к девушке холодное, мраморное лицо, раскрыл рот, словно хотел сказать что-то и вдруг удержался.
– Господин профессор! Неужели моя просьба… И Люся опустилась на колени, сложив руки.
– Умоляю вас, сжальтесь, – продолжала она. – Спросите своей совести – благородно ли это?
– Встаньте! – воскликнул Вариус. – Поймите меня, что сильная страсть извиняет даже преступление.
– Страсть? В ваши лета? При ваших познаниях, уме!
– Страсть не проходит с летами, ее не уничтожает наука, не осиливает рассудок, страсть – болезнь… И я болен.
– Господин профессор…
– Вы знаете, что я вас люблю! Брат ваш вырвал у меня единственное сокровище, которым я хотел обладать и обладал бы…
– Брат мой поступил, как повелевала ему совесть, – возразила Людвика, постепенно воспламеняясь. – Мое сердце не свободно… Я…
– Э, ребячество, знаю! В вас влюблен двоюродный брат… Это детское ухаживание… Что же мешает… Муж уничтожает воспоминание этих поэтических мечтаний… Я не боюсь кузенов… а сердце приобрел бы.
– Или, может быть, вы взяли бы меня без сердца? – прибавила Люся.
– Ибо уверен, что оно оборотилось бы ко мне, – сказал насмешливо профессор.
– Стало быть, моя рука могла бы заплатить за… брата?
– Без сомнения.
– И вы обещаете мне заняться его судьбой, исправить все?
– Ничего нет легче.
Люся протянула дрожащую руку и устремила на него пылающий взгляд.
– Вот вам моя рука, – сказала она, – даю слово, а слово мое неизменно.
Неожиданный этот оборот, казалось, почти испугал Вариуса, который как бы сперва не знал, что делать, но потом схватил протянутую руку и поцеловал ее.
– Позвольте, – сказала девушка, – еще два слова. Брат мой не должен знать ничего до конца экзаменов. Свадьба после того, как он получит степень.
– А если вы не захотите сдержать слова?
Люся вздрогнула от гнева.
– Хотите, чтоб я поклялась? – воскликнула она.
– Нет, – сказал профессор, – дадите мне слово честной женщины, шляхетское слово.
– "Шляхетское" слово! – повторила Люся. – Даю вам "человеческое" слово совести.
Профессор хотел подвести ее к дивану, видя чрезмерное ее волнение, но Люся вырвала руку.
– Помните же и свое слово! Я могу изменить только, когда мне изменят.
И несмотря на нежный шепот профессора, старавшегося подойти к ней и успокоить ее, она вышла поспешно, как бы убегая из этого дома.
Когда она показалась в дверях, она до такой степени изменилась, что брат с испугом вскочил с места
– Люся, ты нездорова, у тебя горячка! – воскликнул он. – Ты должна отдохнуть, лечь в постель.
– О, нет, ничего, я только устала.
И неестественный смех сопровождал эти слова.
– Где же ты была?
– В костеле, потом прогуливалась.
– У пани Серафимы?
– Нет… Теперь пойду отдохну, – прибавила она, принуждая себя быть веселой. – Будь спокоен, у меня есть предчувствие, что все окончится хорошо.
Мечислав пожал плечами.
– Каким же образом? Разве чудо…
– Может быть, не знаю.
И Люся убежала.
Через час потом университетский секретарь принес письмо. На конверте Мечислав узнал почерк ненавистного профессора Вариуса. Он распечатал его с досадой и гневом. Письмо было следующего содержания:
"Прошу вас побеспокоиться прийти в экзаменационную залу. Приятно мне будет отдать вам должную справедливость и позабыть вчерашний спор, в котором оба мы были виноваты. Охотно признаюсь в этом. Дело официально улажено, необходимо только ваше присутствие, чтобы мы могли публично примириться. При этом ручаюсь, что юношеское ваше самолюбие и чувство собственного достоинства я пощажу, уважу. Приходите немедленно.
Доктор Вариус".
Мечислав сперва не хотел верить своим глазам, прочел письмо второй раз и спросил у секретаря:
– Что это значит?
Секретарь был свидетелем вчерашней сцены.
– Все уладилось, – отвечал он, – идите со мной. Жаль было бы лишиться такого доброго и прилежного студента. Профессор достойный и уважаемый человек.
Не будучи в состоянии удержаться от радости и удивления и не подозревая ничего, Мечислав поспешил к сестре с письмом.
– Люся, ты предсказала чудо! Теперь я верю в действительность твоей молитвы. Смотри, читай! Вариус опомнился, все улажено, спешу в университет.
Сестра бросилась к нему на шею и расплакалась.
– Ступай, – сказала она, – не теряй ни минуты. Видишь, что не следует отчаиваться. Бог милостив.
– Так, разве Бог, – отвечал Мечислав, выходя, – потому что Он только мог пробудить это высохшее сердце к жизни и благородному чувству. До свидания.
Мечислав ушел, а Люся упала, заливаясь слезами. Но вскоре она отерла эти слезы; жертва была принесена, следовало ее докончить с покорностью и смирением.
Через некоторое время пришла пани Серафима, однако по глазам Люси заметила, что последняя плакала. Вдова добилась только известия, что с Мечиславом поступили несправедливо на экзаменах, что она с братом пережила страшные минуты, что наконец Вариус опомнился и что все счастливо улажено.
Пани Серафима, обняла ее, заботливо расспрашивая о Мечиславе, судьба которого, по-видимому, сильно интересовала ее… Просидели они часа два, пока он сам не возвратился, сияя от счастья.
– Все кончено, как лучше быть не может, – сказал он. – Мы ошиблись в профессоре, это достойнейший из людей. Заблуждаться может каждый, но так благородно исправить свое заблуждение может только действительно человек высшей натуры.
Экзамен прошел вполне удачно; профессор не только отдал публично справедливость студенту, объясняя вчерашнюю вспыльчивость так, что сумел оправдать ее, но и помог ему еще и у других преподавателей. Он даже сам выиграл этим в глазах других студентов, которые горячо принимали его сторону и восхваляли благородный его характер, приписывая иные поступки страстям и оригинальности. Дня через два потом доктор Вариус зашел к Мечиславу и долго просидел у него. Люся была чрезвычайно смущена и молчалива. Профессор упражнялся в любезностях; он, когда хотел, умел быть приятным и красноречивым и так увлек Мечислава, что последний досадовал на сестру за ее холодность и как бы нерасположение к гостю. Вариус, по-видимому, не обращал на это внимания, веруя в могущество своего слова, в обаяние беседы и своих познаний, которые умел передать всем любопытным в доступной и понятной форме. Уходя, он пожал руки Люсе и Мечиславу и ободрял обоих.
– Еще год, – сказал он, – и вы будете свободны располагать своей будущностью. Нет призвания, которое не требовало бы искуса. Итак, вперед весело и бодро! Отвага придает силы и укрепляет человека.
– Ах, – воскликнул Мечислав по уходе профессора, – как же его очернили! Как зло судят о нем! Но что бы на него ни клеветали, а он действительно человек высший и гениальный. Последним поступком своим он привязал меня к себе навсегда. Только бы, – прибавил он тихо, – не вздумал снова молодиться и ухаживать за тобой, иначе я принужден был бы с ним поссориться.
Люся отвернулась, чтоб скрыть волнение. На другой день, так как они были свободны, пани Серафима пригласила их на обед.
С утра еще пришел Борух получить последнюю часть долга, которую Мечислав был в состоянии выплатить ему; но он был не в духе и почти не радовался деньгам. Он чувствовал, что Мечислав, расплатившись, перестанет давать его сыну уроки, а другого такого учителя было найти нелегко.
– Очень жаль, – сказал он наивно, – что его мосци так везет; если б какое-нибудь горе, я воспользовался бы им для Ицка; но вы будете большими панами, и толковать нечего.
Мечислав улыбнулся и пожал плечами.
– Что уж тут рассказывать, – продолжал еврей, – словно люди и не знают, что его мосць женится на графине, а сестра выйдет за профессора… Скажите мне, по крайней мере, кого мне пригласить для Ицка?
– Но откуда же подобные новости, пан Борух? Это все сплетни! – сказал Мечислав с легкой досадой. – Удивительно, что вы, худо ли хорошо, умеете всегда пронюхать то, что другому и во сне не грезилось…
Борух покачал головой.
– Мой его мосць, – сказал он, поглаживая бороду, – вам кажется, что никто ничего не должен знать, а все и все знают. А для чего же слуги, которые слушают под дверью? Для чего глаза и, – прибавил он, ударив себя по лбу, – для чего же у человека рассудок… Знаете, иногда догадываются о таких вещах, которых даже не знает тот, с кем это должно случиться. Прошу только об одном, когда вы будете богаты, не забывайте своего приятеля Бо-руха. А между тем в случае понадобятся деньги, прошу только дать мне знать, будут.
Из беседы с Борухом Мечислав вынес странное впечатление: у него из головы не выходило предсказание о его женитьбе на пани Серафиме и о замужестве Люси. И то, и другое хотя и могло казаться людям счастьем, для обоих было бы невзгодой и жертвой, ибо Людвика любила Мартиньяна, а он, хотя безнадежно и тайно, страдал по Адольфине. Несмотря на долговременную разлуку, образ этой девушки представлялся ему во всем обаянии красоты, но это был недосягаемый идеал для бедного медика, точно так же как и кузен Мартиньян для Люси.
В тот же самый день еще до обеда Мечислав получил письмо, на конверте которого узнал почерк тетки Бабинской. Еще не распечатав, он уже догадался о содержании. От сильного гнева тетка написала криво, а из почерка обнаруживалась страсть, диктовавшая письмо. Тетка обращалась к нему, считая его покровителем Люси, и требовала, чтоб он раз навсегда выбил из головы Мартиньяна эту любовь, из которой никогда ничего быть не могло, ибо они, Бабинские, при жизни не позволят подобного супружества, а в завещании запретят сыну думать о нем под карой проклятия. Она припоминала свои благодеяния, оказанные неблагодарным интриганам, и, наполнив подобными любезностями три страницы, окончила страшными угрозами против обоих. Мечислав смял письмо и бросил в угол, решив не говорить о нем сестре и не отвечать на него, но тем не менее оно произвело на него тяжелое впечатление.
Люся вошла в своем единственном черном платье, грустная и бледная, и отправилась на обед к пани Серафиме, у которой, конечно, застали и старика графа. Хозяйка у двери встретила Мечислава и горячо поздравила со счастливым концом испытания.
Голос ее дрожал, в глазах навернулись слезы и в руке таилась какая-то магическая сила, так что прикосновение к ней смутило и взволновало Мечислава. Он взглянул на пани Серафиму и отвечал под влиянием ее сочувственных слов:
– О, верьте, вам принадлежит большая доля участия в моем успехе, вы первые выказали нам сочувствие и дружбу, не обращая внимания на нашу бедность; вы придали нам бодрости, усладили дни наших невзгод, и мы этого никогда не забудем.
Пани Серафима покраснела, и на лице ее отразилась живейшая радость; она удержала руку Мечислава и, позабыв о присутствии дяди и Люси, отвечала с живостью:
– Верьте, что тут с моей стороны нет никакой заслуги, потому… потому что я обоих вас полюбила… а любовь сама себе платит.
Мечислав смутился, поцеловал руку вдовы, и ему что-то кольнуло в сердце. Это была не любовь, а какое-то чувство признательности, может быть, лучше и выше любви, в значении которого легко можно было ошибиться. Пани Серафима отошла веселая и счастливая, только печальное личико Люси составляло как бы диссонанс в этом дуэте общего удовольствия, потому что и старик граф был в отличном настроении.
За обедом хозяйка посадила возле себя Мечислава, называя его именинником, говорила только с ним, смотрела на него и занималась им исключительно так, что даже Люся, которой до сих пор не приходило в голову ничего особенного, с беспокойством и удивлением начала присматриваться к обоим.
– Что вы, господа, намерены делать во время каникул? – спросила Серафима. – Вы здесь соскучитесь, потому что все, даже профессора, разъезжаются. Я тоже с удовольствием уехала бы в деревню, но только не одна, а хотелось бы мне взять дядю и вас обоих с собой. В десяти милях отсюда у меня есть старый дом и прекрасный сад над озером. Помещение обширное, деревенская свобода. Это было бы полезно для здоровья Люси, а пан Мечислав занимался бы ботаникой… Целый день каждый занимался бы чем угодно. Сходились бы мы лишь к обеду и ужину. Неправда ли – прелестное предложение.
Брат и сестра молчали.
– Если наши молодые друзья едут, я сопутствую, – отозвался граф. – Нас будет именно столько, сколько нужно, чтобы не скучать.
– Господин доктор, – сказала пани Серафима шутливо, – вы глава дома, решайте.
– С величайшею признательностью мы должны бы принять это любезное приглашение, – отвечал Мечислав, – но у меня есть "но". Я невольник. Возьмите Люсю, а я останусь, ибо обязан воспользоваться каникулами для занятий, так как в моем распоряжении будут и библиотека, и обещанное содействие доктора Вариуса.
– О, нет, нет! – начала протестовать пани Серафима. – Или едем все как есть, или никто! Нас отравляла бы мысль в деревне, что вы изнываете здесь над книгами. Позвольте заметить вам также, что излишний постоянный труд напрягает и ослабляет умственные силы, а отдых придает новую бодрость.
– Мечислав, – проговорила Людвика, – мне кажется, что Для тебя это было бы полезно после экзамена.
– Не будьте упрямы! – сказал граф.
– Не упрямьтесь! – воскликнула пани Серафима. – Впрочем, позволяется взять несколько книжек, только немного.
Мечислав хотел отговариваться, но на него напали, и он, может быть, поддался бы, если б ему не пришел на ум утренний разговор с Борухом.
– Что ж скажут люди? – подумал он. – Ей, может быть, неизвестна ни эта болтовня, ни это недостойное подозрение. Нет, это невозможно.
– Позвольте, – сказал он, подумав немного, – позвольте мне переговорить несколько минут с вами наедине.
Пани Серафима удивилась немного. В это самое время вставали из-за стола.
– Прошу вас и слушаю, – отвечала она, – я очень ценю свой проект и потому охотно соглашаюсь на частную аудиенцию.
С улыбкой она пригласила его в соседнюю комнату. Мечислав, который так смело просил несколько минут, не знал теперь, с чего начать.
– Я вас слушаю, – отозвалась пани Серафима.
– Извините, ибо то, что я скажу, может быть неловко, но вы не сердитесь.
– Вы не можете меня оскорбить, – отвечала успокоительно пани Серафима, – потому что я уверена в вашем добром расположении.
– Откровенно скажу вам, – начал с трудом Мечислав, – я боюсь, чтобы мои столь частые посещения не подали повода заподозрить меня в непростительной дерзости.
– В какой? Не понимаю, – сказала пани Серафима.
– В дерзости, которой даже не извинила бы и моя молодость. Злые люди могли бы вообразить, и уже эта одна мысль убивает меня…
Пани Серафима посмотрела на него, словно желая прочесть в глубине его души значение этих слов.
– Сознаюсь, – ответила она спокойно, – что я не оскорбилась бы подобным подозрением.
– Хотя вы и добры, как ангел, – воскликнул Мечислав, – но мне…
– Что же тут могло бы огорчить вас?
– Помилуйте! Какая же дерзость и безрассудство, если б я только осмелился…
Мечислав остановился. Пани Серафима смотрела на него робко, вопросительно.
– Послушайте, – проговорила тихо вдова, – не будьте таким эгоистом. Какой же вам вред, если люди городят вздор? Мне это нисколько не будет неприятно, ручаюсь, – прибавила она с каким-то странным выражением. – Я стара, и кто знает, может быть, меня обрадовало бы подозрение, что молодой человек мог обо мне размечтаться. Знаю, что это невозможно.
И она быстро вскочила, с грустною улыбкой подала руку Мечиславу и продолжала:
– Что нам за дело, пусть себе болтают люди.
– Вам это, может быть, и все равно; но почтение, которое я питаю к вам, делает меня раздражительным, когда дело идет о вас…
– Почтение!.. Я не заслуживаю его, если б хоть немного дружбы…
– Самая пламенная дружба! – прервал Мечислав, целуя ей руку.
Пани Серафима, покраснев, сильно сжала ему руку и воскликнула:
– Идем, идем!
– Ну, что же вы там устроили на тайном совещании? – спросил граф.
– Говорили серьезно о здоровье милой Люси. Едем и берем для нее эмскую воду, пусть пьет в деревне на здоровье. Так желает господин доктор. Вот и вся тайна.
Пани Серафиме давно было известно, что эту воду советовали пить Люсе. Она взглянула на Мечислава, тот промолчал. Он стоял растерянный, не знал, что сказать. Дело было решенным.
Деревня пани Серафимы, несколько сот лет находившаяся во владении ее семейства, была одной из красивейших на Неманском побережье. В старину тут был небольшой замок на островке, среди обширного озера, окруженного лесами и полями. С одной стороны перед островом расстилалось обширное пространство воды, с другой отделял его от материка узенький пролив, через который перекинут был теперь красивый деревянный мостик. Так как стены давно уже перестали служить для обороны, то дед и отец пани Серафимы, люди с развитым вкусом, постарались воспользоваться ими и устроили действительно прелестную резиденцию.
Возобновили и переделали четыре уцелевшие каменные башни и стены, их соединявшие. Внизу в замке осталась зала со сводами, а в башнях две комнаты в таком виде, как и в старину. Все это производилось в конце XVIII века в тогдашнем вкусе. Старые тополя, клены, липы, ели вырубались лишь местами, чтоб развести, где нужно, зеленые лужайки. Посажены были правильные клумбы, цветы, и дом в Ровине представлялся проезжему словно перенесенным волшебной силой с берегов Рейна. Пани Серафима не хотела здесь жить собственно потому, что одной было бы скучно, и притом Ровин припоминал ей несчастные два года жизни, проведенные здесь с мужем.
На другой же день послано было приказание управляющему приготовить все к прибытию хозяйки и ее гостей. На это требовалось немного труда, ибо замок содержался заботливо, а садом заведовал с любовью немец, выписанный из Вены еще отцом графини. Открыли окна, смели пыль, поснимали чехлы с люстр и канделябр, проветрили комнаты, и через несколько дней Ровин во всей своей летней красоте ожидал прибытия посетителей.
Хотя Мечислав и Люся ехали вместе с графом и пани Серафимой, однако эта поездка немного озаботила их и необходимо было прибегнуть к Боруху, который, улыбаясь, дал взаймы будущему доктору.
Вариус, узнав об этом путешествии, был не слишком доволен. Впрочем, он успокоился, когда Мечислав объявил, что сестра будет пить воды. Профессор добавил только совет, как и насколько употреблять их, и намекнул, что, будучи в окрестностях Ровина, он, может быть, сам заедет туда.
Пани Серафима, не сказав никому, но желая сделать более приятным пребывание в Ровине, написала к Буржимам, приглашая их к себе в деревню. Она не догадывалась, что действовала против собственных интересов, пробуждая снова в Мечиславе уснувшее немного чувство; но она не подозревала в нем ни малейшего стремления к Адольфине, а с некоторых пор, в особенности с последнего разговора, возымела надежду, что Мечислав ее полюбит.
У нее исчезла вся решимость оставаться вдовой; она ухватилась за последнюю надежду счастья со всей силой сердца, жаждущего чувств, о которых только мечтала.
Люся ехала несколько веселее, удаляясь от Варнуса, хотя угроза его посетить Ровин и отравляла ее временное облегчение. Не будучи влюблен в пани Серафиму, Мечислав был счастлив, привязался к ней братским, более чем братским чувством, к которому примешивались уважение и признательность. Не слишком много ясных минут было и у него в жизни.
Старик граф скорее был зрителем той драмы, чем принимал в ней участие. Личико, глазки, голос и прелесть Люси интересовали его, и ее он полюбил, как родную дочь. Над стариком даже подшучивали, что он влюблен, и это утешало его. Это, однако, давало ему право приносить букеты и конфеты и долго разговаривать с девушкой о серьезных предметах, о которых она умела слушать.
Первые дни были чрезвычайно приятны. Ровин показался Орденским волшебным уголком, и тенистый островок со своими древними стенами казался чем-то сказочным. Даже Люся по временам бывала весела, стараясь позабыть о прошедшем и будущем. Мечиславу отвели две комнаты, из которых одна со сводом занимала нижний этаж угловой башни. В этом круглом, с толстыми стенами кабинете удалось поставить стол таким образом, чтобы взгляд прямо с книг мог перенестись на озеро. Стекла в оловянных рамах, раздвижные зеленые занавески и скамьи и стол напоминали о древности. У Люси было более современное помещение внизу, возле пани Серафимы; граф жил на втором этаже, а несколько комнат было оставлено для гостей, о которых не упоминалось специально, хотя пани Буржимова отвечала, что приедет с падчерицей.
Деревенская жизнь, нимало не похожая на городскую, была тихой, свободной и успокоительной. Гуляли в саду, катались по озеру в большой шлюпке, которая всегда стояла в готовности; вечерний чай подавался в длинной деревянной галерее, одетой плющом и диким виноградом. В гостиной стояло великолепное фортепиано, в одной из башен имелась библиотека, не новая, но весьма старательно подобранная. Одним словом, в Ровине была такая жизнь, которая легко могла разбаловать. Поэтому иногда Мечислав отзывался, что не следует показывать рай людям, когда им жить в нем невозможно. Однажды пани Серафима потихоньку прибавила: "Стоит только захотеть!", – но этого никто не расслышал.
Бывают в жизни человека минуты счастья, но их вечно отравляет ему мысль, что на свете нет ничего постоянного, что если б эта переменчивая картина окаменела, то лишилась бы своей прелести, и что закон жизни беспрерывное превращение. Нужно позабыть о завтра, чтобы жить сегодняшним днем.
Пани Серафима, которая, как мы уже сказали, не любила Рови-на, нашла его теперь чрезвычайно приятным и красивым. Так как деревья сильно разрослись и заслоняли вид густыми ветвями, на что Мечислав обратил внимание хозяйки, она уполномочила его обрезать ветви и даже срубать деревья. Мечислав сумел исполнить приказание. Почти каждый день она спрашивала его, как бы ему казалось лучше, и немедленно принимала его советы. Со старым графом, который обладал изысканным вкусом, она часто спорила, но Орденскому ни в чем не было отказа. Это стало до того очевидным для всех, исключая Мечислава, что даже слуги, от внимания которых ничто не ускользало, обращались иногда с несвоевременными вопросами к тому, в котором уже предчувствовали будущего господина. Хотя и Люсе по временам приходило кое-что в голову, однако она не могла допустить, чтобы пани Серафима любила ее брата.
Однажды утро было прелестное, свежее; туман уже поднялся над озером, покрывая берега словно кисейной завесой, которую слегка порою приподымали прихотливые порывы ветерка. Люся вышла одна на прогулку. Ей хотелось заглянуть в окно башни, встал ли уже брат, но так как окно было довольно высоко, то она и бросила в него свежесорванную розу и кликнула брата. Молодой человек показался в окне.
– Как ты можешь сидеть в душных стенах? – спросила Люд-вика. – Ступай на свежий воздух подышать прелестью утра.
Мечислав бросил книги и вышел к сестре.
– Ах, брат, – отозвалась Люся, – какая счастливая эта Серафима! Имеет такой рай и не хочет жить в нем, добровольно заключается в нечистые стены и глотает испорченный городской воздух.
– Что же она делала бы здесь одна?
– Отчего же одна! Могла бы и имела бы право избрать себе товарища, окружить себя друзьями.
– Товарища! – воскликнул Мечислав. – После того испытания, какому она подверглась, у нее недостанет духа искать.
– Но и подумать, что так протянется вся жизнь… – прибавила Люся.
Мечислав ничего не отвечал.
– О, я сейчас выдала бы ее замуж! – сказала Людвика.
– За кого?
– В том только и беда, что не за кого, – ответила засмеявшись Люся. – Хотела бы ей найти, да не знаю. Граф даже несколько раз намекал, что она должна выйти замуж, но только по любви.
– По-видимому, она не думает об этом, потому что определенно не ищет…
– О, я знаю, – сказала с живостью и засмеявшись Люся, – что скажу нечто неловкое, но не могу удержаться. Она должна бы выйти… знаешь за кого?..
– Не догадываюсь.
– За тебя! Она так понимает, ценит тебя, так у вас сходны вкусы.
– Пощади! Что за мысль? Тсс! Как подобные вещи могли прийти тебе в голову!
– Знаю, ты сердишься, потому… потому что еще не угасло воспоминание об Адольфине… Но она не думает о тебе, и где же тебе помышлять о ней?..
– Ошибаешься, – отвечал Мечислав, – я большой поклонник Адольфины, но слишком знаю свое положение, чтобы себя обманывать. Тем более здесь было бы даже грешно мечтать о чем-нибудь подобном… Рассуди сама.
– А я тебе скажу, что, может быть, эта мечта могла бы превратиться в действительность.
– Милая Люся, ты не знаешь света и людей, – сказал Мечислав серьезно. – Мы иногда необходимы как игрушки тем, кто богаче и могущественнее нас, однако далеко до того, чтобы мы могли брататься с ними. Впрочем, наилучшие люди неизлечимы от слабостей своего звания и положения. Ну, скажи, желательно ли было бы для тебя, чтобы я был обязан всем женщине, а не себе, чтоб без труда овладел состоянием, принадлежащим другому семейству, чтоб это семейство смотрело на меня, как на грабителя, который, пользуясь минутой слабости, присвоил себе чужое.
– Ты прав, – сказала сестра, – собственное достоинство бедного человека не позволяет думать об этом, а однако… Знаешь ли, мне иной раз кажется, что вы были бы счастливы. Но перестанем говорить об этом.
Голос пани Серафимы, которая звала Люсю, прервал разговор. Взволнованный и задумчивый Мечислав поспешно возвратился в свою башню.
То, что он высказал сестре, он говорил себе ежедневно, а между тем предстоявшее ему искушение, все стремления молодости и мечты мучили и его в свою очередь; по временам он и сам увлекался каким-то забытьём и желанием овладеть этим спокойным раем и рукой, которая сама тянулась к нему… Этот беззаботный быт увлекал его. К счастью, он пробуждался от этих грез и стыдился, что поддавался им, возвращаясь на прежде начертанную себе дорогу.
Он хотел обеспечить судьбу сестры и показать на деле, что с помощью взаимной любви сироты собственными силами умели спасти себя от нужды и унижения. И в тот момент, когда уже он готов был достигнуть цели, разве не грешно было отречься от нее… для такого унизительного расчета? В тот же день, когда обитатели Ровина сидели на балконе за вечерним чаем, зашелестели женские платья (подъезжавшего экипажа не было слышно, потому что гостьи нарочно оставили его за озером) и появились пани Буржимова с Адольфиною, вызвав у всех невольное восклицание.
Мечислав, который, подобно сестре, ничего не знал о приглашении, стоял остолбенелый, почти испуганный.








