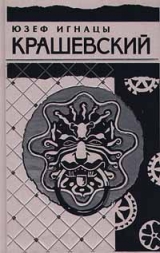
Текст книги "Сиротская доля"
Автор книги: Юзеф Крашевский
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 19 страниц)
В момент, когда новобрачные, помолившись у алтаря, отошли, незнакомец вздрогнул и хотел двинуться, но удержался. Пани Серафима подняла глаза, увидела его, побледнела, наклонилась немного, остановилась, но в ту же минуту, оглянувшись на длинное платье, словно оно мешало ей, покраснела и улыбнулась. Молодые сделали несколько шагов. Незнакомец пошел им навстречу, усмехаясь так зло, так иронически, словно намеревался устроить какую-нибудь сцену. Несмотря на это, он, поклонившись, обратился только к новобрачной:
– Счастливый случай как нарочно привел меня в эту минуту, чтоб первому поздравить вас. Сознайтесь, сударыня, что у меня счастливая рука, ибо я приехал только час назад. Будьте так добры, представьте меня вашему супругу.
И он с изысканной вежливостью обратился к Мечиславу и протянул ему концы пальцев. Пани Серафима сперва слабым, а потом немного изменившимся голосом сказала:
– Граф Бюллер.
И проговорив это, она, величественная, гордая, повела Мечислава и, несмотря на то, что граф стоял на дороге, принудила его уступить, кивнула только головой и, придя совершенно в себя, направилась к двери. Карета была открыта. Бюллер спешил, как бы намереваясь сказать еще что-то, но дверца захлопнулась и новобрачные поехали к Вариусу.
Граф Бюллер, который сперва издали приветствовал профессора, подошел теперь к нему.
– Любезный доктор, – сказал он, – что ж это за неожиданности встречают меня? Вы женаты, и наша красавица Серафима вышла замуж, и я, зайдя случайно в костел, попадаю на ее свадьбу.; Это удивительно. Но ведь это моя старинная добрая знакомая. Как я был бы рад сказать ей хоть несколько слов и познакомиться с этим молодым счастливцем. Я слышал, что они сегодня выезжают за границу и, кажется, будут у вас… Позвольте же мне хоть на минутку и вам засвидетельствовать почтение и поговорить с новобрачными. Чувствую, что это немного нахально, но как же не поцеловать ручки пани Серафиме.
Невозможно было отказать такому любезному графу. Действительно, Вариус пробормотал что-то невнятно, но так как в это время подъехал экипаж, профессор усадил Бюллера рядом с женой, а сам уселся впереди, и они поехали.
Новобрачные ходили по гостиной; пани Серафима была молчалива и взволнована, когда на пороге показался граф Бюллер.
Пани Орденская словно окаменела, но только на мгновение; лицо прояснилось улыбкой, глаза сверкали затаенным гневом. Граф подходил с той вежливостью питомца гостиных, с теми заученными движениями, которые служат характерным признаком людей, хорошо воспитанных, которые учились гимнастике, танцам и поклонам.
– Доктор Вариус осчастливил меня позволением повторить вам еще раз мое поздравление и пожелания, – сказал он, посматривая поочередно на пани Серафиму и на Мечислава. – Я искренно счастлив. Какая удача! Приезжаю сегодня сюда случайно, и иду мимо костела случайно, и случайно же попадаю на вашу свадьбу.
Пани Серафима слушала, гордая и холодная.
– Удивительно, – отвечала она, – что эти случайности сложились так кстати… Я так давно не имела удовольствия видеть вас, граф.
– Целую вечность! – воскликнул Бюллер. – По крайней мере, мне так показалось, мне, который в прежнее счастливое время был у вас таким надоедливым гостем.
Он искоса взглянул на Мечислава, которому и язык, и наружность, и сам человек очень не понравились.
– Вы уезжаете за границу? Свадебное путешествие. Медовый месяц или, лучше скажем, месяцы необходимо провести под небом Италии… Я тоже, может быть, туда поеду.
Пани Серафима ничего не ответила.
– Вы, конечно, первый раз едете в Италию? – спросил граф у Мечислава.
– До сих пор я никуда не выезжал из края, – отвечал Мечислав холодно.
После этого разговора, смерив новобрачных свирепым взглядом, не согласовывавшимся с любезными словами, граф отошел и отправился к хозяйке дома. Воспользовавшись этим, пани Серафима сказала на ухо Мечиславу:
– Несноснейшая личность, какую только я знала в жизни! Он надоедал мне прежде частыми своими посещениями. Однако у Вариуса не хватило такта, чтоб не принять его. Поспешим уехать, потому что я терпеть его не могу.
Тон, каким это было сказано, гораздо более содержания поразил Мечислава; такого гневного, грозного голоса, обнаруживавшего почти бешеную ненависть, он никогда еще от нее не слышал; ему казалось, что этот голос не ей принадлежал: он показывал другой характер, выходил из другого сердца. Бедный муж испугался этого страшного резкого голоса мстительной женщины.
– Уедем, как только позволят приличия, – прибавила она. – Будь около меня, не удаляйся.
– Мне хотелось бы поговорить с сестрой.
Пани Серафима выпустила руку мужа и сделала несколько шагов к окну. Мечислав поспешил к заплаканной Людвике, желая воспользоваться случаем, что при ней не было Вариуса. Едва он подошел к ней, как Бюллер, словно ожидавший этого, скользнул к пани Серафиме. Последняя не отступила ни на шаг, только лицо ее сделалось грозно и гневно.
– Позвольте мне… – начал граф.
– Никто не сделал бы гнуснее поступка… Он достоин вас, граф.
– Вам известно, что кто сильно любит, тот страшно ненавидит. Я снизошел до этого скверного, но естественного чувства, – отвечал Бюллер.
– Я ожидала этого… Смутить минуту счастья – большое наслаждение для сатаны и для…
– Не жалейте эпитетов, пусть я буду чем вам угодно. Я приготовился встретить гнев… он для меня удовольствие. Кроме того, мне будет приятно познакомиться с этим милым юношей, вашим мужем, кажется, первостепенным хирургом, я расскажу ему много интересных анекдотов из прошлого.
Все это граф говорил с такими утонченными движениями, что издали можно было его грубости принять за комплименты. Закусив до крови губы, пани Серафима удерживалась от ответа, стараясь казаться спокойной, но дрожала от гнева. Бюллер продолжал:
– Кто, подобно мне, был близок к счастью, потеряв его, дол^ жен мстить. Вы поменяли прежнее черное кольцо на золотое и старого друга на молоденького мужа. У стариков остается только жажда мести; надо было подумать об этом – как тень я буду следить за вами.
Граф поклонился и отошел.
В то время как Бюллер разговаривал у окна с пани Серафимой, Мечислав приблизился к сестре.
– Люся, Бога ради, – сказал он поспешно. – С самой твоей свадьбы я не мог переговорить с тобой без свидетелей. Говори мне, заклинаю тебя, говори, как брату, довольна ли ты? Этот человек…
– Что мне сказать, Мечислав, – прервала Людвика. – Я шла, зная, что меня ждет, и мне могло быть хуже, чем теперь, хотя еще и не знаю, что будет, когда останусь одна-одинешенька. Вы уезжаете… О, ради Бога, возвращайтесь скорее. Так пусто, так пусто и так порой страшно… Все у меня есть, – прибавила она, – все, но не будет ни твоей дружеской руки, ни Серафимы. Но, Мечислав, как она сегодня изменилась! О милый мой, она теперь другая, я боюсь ее, страшная какая-то.
– Фантазия!
– Что-то злое было у нее в глазах.
– Люся, тебе так показалось.
– Неужели же и ты осужден? – шепнула Людвика. – Но за что?
– Замечаю, как уже Вариус следит за нами взором, – сказал Мечислав, – и готов уйти от разговора, чтоб прервать наш. Два слова, Люся, пока есть время. Не знаю, зачем говорю тебе это. Орховская одна с девочкой остается в нашей прежней квартире, и если б на случай она тебе понадобилась, то знай об этом.
Людвика пожала руку брату.
– Ты добр… Хоть Орховская, хоть кто-нибудь, кто нас любит, ибо нас никто не любит, кроме нее… Я не знаю, Мечислав, может быть, и никто… Нас любили, да, нас любили, как дикари любят тех, кого намерены съесть завтра.
Люся бросилась брату на шею, но в эту минуту подошел к ним Вариус.
– Моя дорогая, Людвика! – воскликнул он. – Пожалуйста, без особой чувствительности. Я ведь говорил, что это вредно тебе, нервы необходимо беречь. Разлука с братом, я знаю, грустна, но ведь он с женой скоро возвратится.
Мечислав заметил, что жена подзывала его взором, и он поспешил к ней. При его приближении Бюллер начал медленно отступать, поправляя рукой волосы.
– Мечислав, едем! – сказала глухим голосом пани Серафима. – Мне что-то нехорошо, едем!
Видя это движение, Вариус подошел с беспокойством и пригласил на чай; но пани Серафима шепнула ему:
– Мне нездоровится, нужен отдых… Извините, я должна ехать.
И она подошла к Люсе попрощаться. Обе обнялись, молча глотая слезы. Мечислав, прощаясь, сказал тихо сестре:
– Благослови меня, как я тебя благословляю.
Бюллер, по-видимому, тоже хотел подойти с каким-то прощальным словом, но пани Серафима прошла мимо него, не удостоив даже взглядом. Все проводили новобрачных до уложенной дорожной кареты, запряженной почтовыми лошадьми. Первой вошла поспешно пани Серафима, Мечислав за нею; захлопнулись дверцы. Люся протянула руки к отъезжающим и, ослабев, едва не упала, но Вариус поддержал ее. Карета тронулась и скрылась в облаке пыли.
Бюллер смотрел в лорнет, улыбаясь.
– Очаровательная женщина, – сказал он со вздохом.
Никто не мог скучать больше о детях, как добрая Орховская. Она осталась в бедных комнатках, которых не было еще времени убрать перед отъездом Мечислава, одна с четырнадцатилетней девочкой, взятой от сестер милосердия, и целые дни проводила в костеле у францисканцев или у себя дома. Не имея занятий, она расставляла мебель и раскладывала вещи, оставшиеся после детей, приводя все в порядок, словно надеялась на возвращение своих дорогих. Иногда, вспоминая Люсю и Мечислава, она сидела у окна и плакала. Несколько раз пыталась она пойти к своей воспитаннице, но ее не допускали к Людвике, и только после продолжительных переговоров лакей привел ее в комнату пани. Но она нашла там неотступную горничную, и вскоре явился и сам Вариус и остался до ухода старушки. Орховская не смогла ни толком поговорить с Люсей, ни расспросить ее, так что с чем пришла, с тем и ушла. Раза два приносили ей от Люси лакомства и кое-какие подарки, но это ее не успокаивало: это доказывало только память, а Орховской хотелось знать, как жила она в новом доме со старым мужем и не была ли несчастлива. О счастье для нее даже не мечтала старушка, молилась только о ее спокойствии и избавлении от страданий.
При всей своей приветливости Вариус поражал ее холодом. Лицо Люси было бледно и грустно. Старушке хотелось знать, сумеет ли свыкнуться ее питомица с новым положением, но, как мы уже сказали, трудно ей было видеться с Люсей.
Мечислав тоже обещал дать ей знать о себе, а между тем письмо от него не приходило.
Зная набожность Людвики, Орховская догадалась, что она должна ходить в ближайший костел, и несколько раз в неодинаковые часы отправлялась к св. Яну, надеясь ее там увидеть, а при выходе и побеседовать. И, действительно, она встретила Люсю с горничной. Дружеского разговора быть не могло, и из слов Люси Орховская могла догадаться, что не следовало и расспрашивать ни о чем. Все средства были исчерпаны, и старушка знала только, что питомица ее жива и не болела. Бедняжка, однако, не жаловалась и даже старалась казаться веселой. Наряд ее и обстановка изобличали достаток.
"По крайней мере, не будет нуждаться в куске хлеба, – думала старуха. – Но как же этот хлеб горек, о, как горек!"
Так прошло два месяца со времени отъезда Мечислава, и Орховская освоилась с одиночеством и грустью, утешаясь тем, что могла, по крайней мере, видеть Люсю в костеле, как однажды после обеда девочка объявила старухе, что какой-то панич желал видеться с нею.
– Какой там может быть панич? – спросила Орховская. – Что ему надо? Пусти, впрочем, если прилично выглядит.
Девочка побежала, и вслед за этим вошел Мартиньян, при виде которого старушка обрадовалась, ибо он напоминал ей детей и хоть не слишком хорошие, но все-таки лучше, чем теперь, дни в Бабине. Мартиньян был бледен, на лбу у него краснел широкий шрам, лицо было грустное. Он носил траур по матери.
– Боже мой! – воскликнула Орховская, складывая руки. – Что же вы тут делаете? Давно ли приехали? Как поживаете?
– Приехал недавно и случайно узнал от купца Боруха, что вы остались на старой квартире. Я пришел вас навестить и узнать о вашем здоровье, – сказал молодой человек, осматриваясь вокруг и вздыхая.
– О том, как поживаю, и спрашивать не стоит, дорогой мой панич, – отвечала старушка, – известно, старое дерево скрипит… Кашляю, плачу, молюсь и только. Нет наших, нет, – прибавила она тоскливо.
– Нет, – повторил, оглядываясь, Мартиньян. – Милая моя пани Орховская, я именно хотел вас расспросить о них, вы должны больше знать, вы, конечно, видите Люсю, а может быть, и Мечислав писал к вам.
Старуха покачала головой и пододвинула стул.
– Ничего я не знаю, – отвечала она. – Люсю я вижу иногда в костеле, потому что иначе трудно, ибо меня к ней не допускают, а если и допрошусь как-нибудь, то старик всегда настороже, чтоб мы и поговорить не могли дружески.
– В каком костеле? Когда она бывает? Орховская потрясла головой.
– Право не скажу. Еще, пожалуй, вы начнете ходить туда, а это не годится, пан Мартиньян, – прибавила старуха, погрозив, – не годится! И ей могло бы быть худо, да и вам себя не следует убивать. Женщина замужняя.
– Но ведь она мне двоюродная сестра! Неужели, моя пани Орховская, грешно и издали посмотреть на нее?
– Грешно, грешно даже посмотреть! – воскликнула старуха. – Что сталось, того не воротишь. Напрасно.
Мартиньян вздохнул.
– Ничего не поможет, – продолжала Орховская, – так судил Бог, и надобно покориться Его святой воле. Хоть Люся, бедняжка, и похудела, но ей там хорошо… Человек богатый и для нее ничего не жалеет.
– А о Мечиславе ничего не знаете?
– Ничего, – отвечала старуха. – Выехали тотчас после свадьбы. Ходила раза два узнавать на Вольную улицу к ним на квартиру, люди говорят, что пани писала и что собирается вернуться на зиму. Но Мечиславу там хорошо, катается как сыр в масле, а она добра как ангел.
Мартиньян слушал, опустив голову.
– Вы здесь пробудете? – спросила вдруг старуха.
– Я здесь остаюсь жить, – отвечал Мартиньян, – отец мне не запрещает. Он там за меня хозяйничает, а я хочу немного посмотреть на свет и на людей. Я взял с собой Пачосского, нанял квартиру. Что же мне больше делать?
– Нашлось бы что делать, – сказала старуха, – но зачем же вам обязательно жить здесь? Зачем? Вам здесь не слишком здорово. К чему лгать и людей напрасно обманывать? Будете себе только убивать сердце, потому что приехали сюда для Люси, а это ни к чему.
Мартиньян опустил голову и молчал. Орховская сжалилась над ним и вздохнула.
– Жаль мне тебя, дорогой мой панич, но любить замужнюю женщину – гневить Бога.
– Милая пани Орховская, – сказал молодой человек, – ведь я влюбился не в замужнюю, а полюбил ее, когда она была свободна… Трудно вырвать из сердца то, что вросло в него.
– А зачем же питать дурное зелье? – возразила старуха, качая головой. – Сорную траву надобно вырвать с корнем. Если ты будешь здесь сидеть, милый мой панич, никогда не оставишь грешной мысли. Зачем тебе жить здесь?
– Я не для этого сюда приехал.
– Что ты мне говоришь? – воскликнула с досадой старуха. – Зачем еще прибавлять ложь к тому, что само по себе не хорошо. Ты не приехал бы, если б не она. Но не надо и ей прибавлять нового горя! Муж-старик будет ревновать, хотя бы и ничего не было… Она, может быть, немного и любила вас и это ей придет на память некстати…
– Говорите, что хотите, моя добрая Орховская! – воскликнул Мартиньян. – А я никогда не перестану любить ее.
– А разве в деревне вы не могли бы любить ее? – спросила старуха.
Мартиньян замолчал и начал ходить по комнаткам, заглядывая в каждый угол.
– Боже мой! – сказал он. – Здесь все после нее осталось, как было.
И схватив с пялец работу, он начал целовать ее, и на глазах у него навернулись слезы. Орховской стало его жаль, и она за молчала.
– Я уже ни о чем больше не прошу, – сказал он, – только позвольте мне иногда приходить сюда вспомнить о них, поговорить с вами.
– Я пред вами дверей не запру, – прошептала Орховская, но лучше вам уехать в деревню.
– Я этого не сделаю, – отозвался решительно Мартиньян, – и вы меня напрасно не уговаривайте.
Пробыв еще некоторое время, молодой человек ушел, а Орховская на прощанье повторила, чтоб он уезжал в Бабин.
Мартиньян решился поселиться в городе во что бы то ни стало, хотел видеть Люсю, по крайней мере, издали.
Он надеялся по возвращении Мечислава встретить у него Люда вику, намеревался бывать в костеле, в который она ходила, и мечтал, может быть, как-нибудь втереться в дом Вариуса. Впрочем, поэтическая эта любовь юноши больше и не требовала: взглянул украдкой, шепнуть словцо, обменяться вздохом – вот в все. Пан Пачосский, которого взял с собой Мартиньян, не мог похвалить этих грешных желаний молодого человека; положение его как бывшего воспитателя не позволяло открыто потворствовать ему; но, несмотря на это, он не был против возвышенного чувства и не мм в душе не удивляться такой постоянной привязанности. Он, вообще, уважал всякую любовь и сам втайне был влюблен в пани Драминскую, о чем, однако ж, не знала ни она и никто на свете.
Мартиньян нашел для себя и для бывшего учителя, а теперь друга хороший домик, окнами на улицу, с садиком, меблировал его отлично и решился остаться в В… как можно долее. Отец этому не противился, ибо уважение, какое питал к уму покойной жены, перенес теперь на сына.
– Молодой человек, – говорил он, – известно, должен потереться в свете, узнать людей. Что ему киснуть в деревне. Для нас, гречкосеев, это хорошо, а для него не годится. Я не пожалею денег.
Старик Буржим заметил ему потихоньку, что молодой человек встретит в городе Людвику.
Пан Бабинский махнул рукой.
– Ну, что мне за дело? Я об этом ничего не знаю и знать не хочу! – сказал он. – Она замужем, пусть муж и присматривает за нею, а мне какая надобность. Наконец, она не одна в городе… может быть, другая понравится и вся эта блажь выйдет из головы. Если б не покойница, моя милая жена, я не запретил бы ему жениться на Люсе; славная, разумная девочка; но покойница, царство ей небесное, не любила ее. Сделанного не воротишь. Не он первый, не он и последний… Мало ли что случается с людьми. Что мне ему запрещать? У него ведь свой ум в голове.
В первые дни Мартиньян только осматривался, навестил Орховскую, ходил по костелам, но ему не удалось ничего узнать и увидеться с Люсей; это, однако, его не беспокоило. Пан Пачосский, со своей стороны, привезя с собою "Владиславиаду", отшлифовывал ее окончательно и искал для нее помещения. В летние месяцы удалось как-то ему напечатать два отрывка в газете, и он восторгался этим постоянно; это были первые плоды его музы, вышедшие из-под типографского станка. Он присматривался к печатным стихам, их форме и по несколько раз в день любовался этой еще свежей одеждой бессмертия. Смущали его только три важные типографские ошибки, конечно исправленные собственноручно автором, но вооружившие его против всех в мире наборщиков… Если б от него зависело, он присудил бы виновных к самому тяжкому наказанию. Он следил только, скоро ли вся печать запоет хором похвалу поэме, появится ли меценат, раздадутся ли со всех сторон воззвания, чтоб, во имя отечественной литературы, он не скрывал долее от света такого исполинского произведения. Увы! никто не отзывался, а что еще хуже – в чем он убедился – никто не читал этих превосходных эпизодов из его поэмы. Такова судьба поэта!
Один только добряк Мартиньян знал некоторые отрывки наизусть, и не удивительно, ибо не имел почти ничего лучшего для занятий. Он слушал Пачосского или бродил по улицам, выжидая счастливой случайности встретиться где-нибудь с Людвикой. Ходил он у нее и под окнами, но эти окна всегда были закрыты, и никто из них не выглядывал, кроме одной чрезвычайно рябой служанки. Бедный Мартиньян, верный своему чувству, заходил также к Орхов-ской, но старушка, хоть и охотно с ним разговаривала, однако не хотела сообщить ему никаких сведений. Тогда ему пришла счастливая мысль следить, куда Люся ходила молиться; раньше она ходила к францисканцам, как вдруг однажды утром она пошла в костел св. Яна. Юноша пошел туда за ней… На ранней обедне Людвика бывала со служанкой. Мартиньян не смел к ней приблизиться, он издали только всматривался в ее бледное лицо, счастливый, что наконец нашел место, где мог с нею встречаться. Выходя из костела, Люся оглянулась и увидела кузена; она сильно побледнела и поспешно, словно боясь, чтобы он не подошел к ней, выбежала на улицу. Давно уж Мартиньян не был так счастлив, и поэтому щедро одарил бедных милостыней, и, дождавшись Орховской, весело поздоровался с ней.
– Видите, пани Орховская, – сказал он, – кто ищет, тот и найдет.
– Да, да, – прервала, старуха, – кто ищет беды, тот и находит ее. Если б вы искали беды только себе, я ничего не сказала бы вам, – прибавила она, пожав плечами, – но вы и этой несчастной готовы причинить горе. Муж ревнивец, вокруг нее множество шпионов… как увидят здесь вас, то и ей нельзя будет выйти в костел.
Выслушав эти убедительные доводы, Мартиньян дал себе слово быть чрезвычайно осторожным и не дать заметить, зачем появлялся у обедни…
В тот день и Пачосского обрадовало хорошее расположение бывшего воспитанника, хоть он и не мог понять причины.
На другой день юноша поспешил в костел и сидел до конца службы, но, увы, не видел уже Людвики. То же самое и в следующие дни. На четвертый или пятый день он снова отправился к Орховской. Старуха, отворяя ему дверь, ворчала:
– Испугали вы мне дитя, как увидела вас, перестала ходить в костел св. Яна.
Мартиньян был мрачен и грустен.
– Заупрямился здесь сидеть, – продолжала ворчать Орховская, – неизвестно для чего мучишь себя и других. Ехал бы в деревню…
Насилу молодому человеку удалось успокоить старуху, а из ее грусти и вздохов догадался, что она должна была знать кое-что о жизни Люси, но только трудно было разговорить ее. Орховская смотрела на Мартиньяна как на человека, питавшего грешные мысли, и не хотела говорить с ним о Людвике. Напрасно бедняга употреблял все усилия и ушел ни с чем.
Бродя по городу и не находя средства войти в заколдованный дом, он однажды встретил на улице экипаж, в котором показались ему знакомые лица… Дама высунулась из дверцы и подозвала его рукой. Это была пани Адольфина Драминская, которая приехала с мужем посоветоваться с докторами. Даже на лице ее заметны были болезнь и изнурение… Только голубые глаза блестели прежним огнем. Мартиньян подбежал к экипажу.
– Ведь вы, кажется, здесь живете? – спросила его Адольфина.
– Да.
– Отлично! Садитесь с нами, поедем в гостиницу, вы будете во многом нам полезны.
– Это Божья милость, что мы встретили Бабинского на улице, – сказал муж, – он избавит нас от многих хлопот.
Послушный Мартиньян, рассчитывая, что ему это может пригодиться, сел и поехал.
Пан Драминский занялся раскладыванием вещей, а главное, распоряжениями насчет обеда, Адольфина отвела Мартиньяна в сторону.
– Вы здесь для Люси? Признавайтесь! – сказала она.
– Но… я не видел ее вблизи ни разу.
– Стало быть, Мечислава нет? Еще не возвратился?
– Кажется, нет.
– Должны возвратиться и очень скоро. Я больна, доверяю ему и надеюсь, что не откажет мне в совете.
– Обратитесь к доктору Вариусу, он ведь знаменитость! – воскликнул Мартиньян.
– Да, – сказала, улыбнувшись, Адольфина, – вы, может быть, хотели бы, чтобы я вас за ним послала, чтоб вам пробраться к нему в дом и вздохнуть у ее порога.
Мартиньян опустил глаза.
– О, – сказал он, – я не этого хочу, мне хотелось бы только узнать, как она, лишь раз я видел ее в костеле бледную, заплаканную, и она ушла от меня. Орховская говорит, что Людвику окружают шпионы, что никто не имеет к ней доступа. Я давно уже здесь живу, а ничего не мог узнать. Вы были бы ангелом-хранителем…
– Буду ангелом-хранителем, – грустно ответила Адольфина, – потому что мне вас жаль, добрый, честный, верный первому чувству, пан Мартиньян; но имейте терпение. Если что узнаю, передам вам, ей буду говорить о вас… буду служить обоим… Мне жаль вас обоих, потому что я знаю, как болит сердце.
Целуя руку пани Драминской, Мартиньян посмотрел на ее осунувшееся лицо. Молодая женщина улыбнулась с состраданием.
– О, вы были бы благодетельницей, спасительницей! – воскликнул он с живостью. – Дело идет не обо мне… Кто же знает, что творится с нею! Эта неволя, шпионы, эта тюрьма… Бедная Людвика такая бледная, худая.
– А я? – спросила Адольфина.
– Не знаю… кажется, что еще хуже. Вам легко будет как даме, как больной проникнуть в тот дом, завязать отношения с ними.
– И приносить вам о ней известия, – закончила пани Драминская, – а ей о вас – понятно. За то вы будете развлекать немного моего Драминского, водить его и указывать, где он может пообедать и выпить. Я должна быть здесь, а мне не хотелось бы, чтоб этот добряк скучал. Увидите, какой славный человек этот Драминский и подружитесь с ним; он не любит одиночества и потому возьмите его под свое покровительство.
Мартиньян был счастливейшим из смертных, что имел кем заняться и еще за такую плату, какую обещала ему Адольфина, которая была немного догадливее Орховской и не считала его любовь таким большим грехом.
Он познакомился короче с паном Драминским, которого мучило только одно, что его Дольця постоянно хворала и от этого была немного капризна.
– Пусть себе посидит здесь, – говорил он, – лечится, пьет воду, купается и делает все, что выдумают доктора, лишь бы только выздоровела и повеселела. Пусть наймет Вариуса, попросит Мечислава, наконец, трех-четырех докторов, но только, чтоб они ее вылечили. А то просто на глазах у меня она тает… Худоба ужасная. Притом, может быть, город развлечет ее.
Мартиньян не только сам услуживал, но еще взял пана Пачосского, который считал себя счастливейшим, что мог своему идеалу или даже мужу идеала быть на что-нибудь полезным. Это вдохновило его, и в первый же вечер он написал в горацианском стиле стихотворение к Лидии, начинавшееся так:
"О звезда моя, на серых дней небе…"
На другой день, отдохнув немного, пани Адольфина Драминская поехала к Вариусам. Муж ее остался дома и пригласил Пачосского на партию в шахматы. Мартиньян тоже сидел у него, ожидая возвращения посланницы.
Поездка Адольфины к Вариусам показалась ему чрезмерно продолжительной; он постоянно бегал к окнам и тревожно высматривал. Но вот, когда уже пан Драминский в третий раз ставил поэту шах и мат, раздался стук экипажа и вскоре вошла Адольфина.
Пан Драминский уже начинал приходить в нетерпение и покрикивал, сидя за шахматами:
– А что же там говорили, душа моя? А?
Адольфина вошла, и в изнеможении опустилась на диван.
– Вариус не хочет меня лечить, – сказала она, – говорит, что, с тех пор как женился, отказался от практики, желая наслаждаться домашним счастьем. Нечего сказать – хорошее счастье! Люся в прострации, от нее нельзя добиться ни слова: сидит, смотрит в стену, ничего не слышит… Просто сердце разрывается. Этот старый мерзавец не отступает от нее ни на шаг. Не могла ни о чем расспросить ее, поговорить, обнять от чистого сердца.
– Но ведь это несноснейший человек! – молвил пан Драминский. – И ее мучит, и себя!
– Нарочно просидела долго, – продолжала Адольфина, – думала, что хоть на минуту вызовут его или он сам наконец догадается, что должен оставить нас вдвоем. Куда там! Вежливый, ласковый, чувствительный – не оставлял нас ни на секунду. Я узнала только, что Мечислав с женой возвращаются сегодня или завтра – писал к Людвике. Я думаю взять Мечислава, а он, если хочет, может пригласить себе товарища.
– Отлично! Отлично! Говорят, он превосходный врач и вместе с тем добрый наш приятель и человек с сердцем, – отозвался Драминский. – По крайней мере, ему можно будет довериться… Лучше всего подождать.
Адольфина покраснела при этих словах мужа и потом сказала:
– Приедут сегодня или завтра. Признаюсь, мне также хотелось бы увидеть молодую парочку.
– По крайней мере, она не болеет, – заметил муж, рассмеявшись, – а если и захворает, то у нее доктор под боком.
Пан Драминский долго смеялся над этой своей остротой, пошел конем не туда, куда следовало, потерял слона и получил мат.
Пачосский был счастлив, что ему удалось одержать победу в присутствии Адольфины.
Разговор этот не удовлетворил, однако, Мартиньяна. Пользуясь шумом, происшедшим по поводу шаха и мата, он начал расспрашивать Адольфину в полголоса.
– Люся, действительно, как бы снятая с креста или, скорее, пригвожденная к кресту, – сказала ему Адольфина. – Мне, невозможно было и двух слов сказать ей. Я, однако, устроила так ловко, что муж не слышал, – увидитесь завтра. Признаюсь вам, что если б муж мой держал меня в такой неволе, то я назло обманывала бы его. Узнайте, пожалуйста, о возвращении Мечислава и пришлите нам сказать, когда они возвратятся.
Мартиньян вскоре ушел и распорядился, чтобы ему дали знать немедленно о приезде кузена. В тот день, однако, хоть в доме и ожидали Орденских, они не приехали. Мартиньян имел только возможность убедиться, на какой панской ноге содержался дом.
На другой день довольно рано появился Мечислав на Францисканской улице, Орденские приехали после полуночи, и поэтому Мартиньян не получил известия, Орховская не помнила себя от радости. Она подвела Мечислава к окну, чтоб лучше рассмотреть. Мечислав переменился; казалось, он пополнел, но был бледен, глаза погасли, юношеская свежесть отцвела, цвет лица какой-то нежный и словно восковой. Вероятно, несколько месяцев, проведенных в климате, к которому не привык, должны были таким образом повлиять на северную натуру. Он обнял старушку и грустно осмотрелся… может быть, ему показалось странным, как они могли здесь жить с сестрой.
Может быть, и по платью Орховская едва узнала бы его. Прежде он одевался очень скромно, а теперь платье на нем было щегольское; на галстуке большая бирюзовая булавка, на пальцах дорогие кольца… Старухе даже сделалось как-то неловко, и она подумала:
"Если бы он все это сам заработал, а то все по ее милости…"
Мечислав начал расспрашивать о Люсе. Старуха не могла ему иного сказать, не хотела его слишком тревожить, но и не молчала.
– Бедняжка мало куда показывается, – сказала она, – разве, в костел… а тут еще на беду и Мартиньян появился… Увидела, она его однажды в костеле и теперь боится идти к обедне.
Мечислав сильно рассердился на кузена.
– О, я выпровожу его отсюда! – сказал он.
– А я сомневаюсь, – отвечала старуха, – натура эта упрямая, как и все балованные дети.
От Орховской Мечислав поспешил к доктору. Профессор был на лекции и, по обыкновению, без него никого не принимали. Люся, однако ж, услыхав голос брата, решилась преступить приказание и выбежала к нему навстречу, забыв чему подвергалась. Слуги не могли открыто противиться госпоже. Мечислав вошел к сестре. У нее в комнате застал он неизменную рябую экономку, но, не обращая на нее внимания, брат и сестра вышли в залу, куда экономка не смела последовать за ними. Все, что она могла, это стоять за дверью. Оба молча посмотрели друг на друга. Мечислав нашел, что сестра чрезвычайно похудела; Люсе он показался болезненно пополневшим; в их глазах не было ни искорки, обнаруживавшей довольство жизнью.








