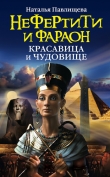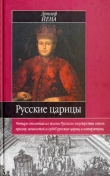Текст книги "Кэйе и Семнех-ке-рэ"
Автор книги: Юрий Перепелкин
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 27 страниц)
Итак, замечательный памятник, который, казалось, снимает наконец покров безвестности, лежавший на изображениях двух безымянных солнцепоклоннических царей и во всеуслышание называет их именами Амен-хотпа IV и Семнех-ке-рэ, оказывается сам загадкой, изображением не двух мужчин, а Амен-хотпа IV и таинственной женщины, переименованной впоследствии довольно небрежно чьей-то рукою в Семнех-ке-рэ. Не значит ли это, что плита из Ах-Йот становится теперь совсем безразличной, сторонней вещью для нас, исследующих изображения двух безымянных царей? Нет, не значит, наоборот, она поможет нам разобраться в этом вопросе. Это должно показаться странным. Разве не было только что показано, что на плите за Амен-хотпом IV представлена женщина, тогда как на трех изображениях второе лицо явно мужчина, поскольку увенчано мужским синим венцом и облачено в мужскую одежду? Какое отношение изображение Амен-хотпа IV с какою-то женщиной может иметь к памятникам, показывающим его с младшим царем-мужчиною? Но в том-то и дело, мужчина ли этот младший царь?
Начнем с памятника, явившегося отправною точкою для истолкования занимающих нас изображений как изображений двух царей-мужчин, старшего царя и царя-соправителя, Амен-хотпа IV и Семнех-ке-рэ. Это – памятник А нашего перечня, плита из Ах-йот, сооруженная воином и изображающая старшего царя, ласкающего младшего. Совершенно точно, на младшем царе – мужской синий венец с выгнутым верхом и оттянутыми боками, и одет младший царь в одежду никак не женскую – не доходящую даже до щиколоток. И все же какая странность: вместо четырех колец, двух колец Амен-хотпа IV и двух колец Семнех-ке-рэ, перед царями начертано только три стоячих кольца, оставшихся, к сожалению, как и кольца солнца вверху, незаполненными. Г. Рёдер отметил эту странность («zusammen dreü»),[ 105 ] 105
G. Roedеr. Thronfolger und König Smench-ka-Rê, с. 48.
[Закрыть] но не сделал отсюда никакого вывода. Вывод же напрашивается сам собой.
Когда бы и где бы мы ни находили на солнцепоклоннических памятниках три кольца, стоящих бок о бок одно с другим и принадлежащих царственным особам того времени, это всегда и повсюду два кольца царя и одно кольцо царицы. И это правило подтверждено великим количеством примеров. Напротив, на другой плите из Ах-йот, которой мы до этого занимались и на которой задним числом было проставлено титло Сем-нех-ке-рэ, мы находим, как и следовало ожидать, четыре кольца: два кольца Амен-хотпа IV и два кольца Семнех-ке-рэ, поставленные все стоймя бок о бок одно с другим. Значит, число колец на памятнике А недвусмысленно свидетельствует, что сотоварищ старшего царя, обладатель всего лишь одного кольца, третьего из трех, не настоящий фараон, у которого было бы два кольца, а царица.[ 106 ] 106
Ю. Я. Перепелкин. Тайна золотого гроба, 1968, с. 98.
[Закрыть] Опять-таки, как и на переделанной плите, сотоварищ Амен-хотпа IV оказывается женщиной!
Теперь объясняются и женская грудь мнимого Семнех-ке-рэ, и ласковое прикосновение старшего царя к подбородку младшего, вызвавшее столько кривотолков в науке. Напомним, что первоначально никто не сомневался, что на памятнике А изображены царь и царица. Но как же на голове у царицы может быть мужской, а не женский, синий венец и почему, если это царица, она в мужской рубашке, не доходящей даже до щиколоток, а не в женском платье, которое покрывало бы самые ступни? Причиною того мы займемся в дальнейшем, сейчас же только заметим, что одежда на старшем все же более мужская, чем на младшем: у старшего она прикрывает лишь верх голеней, у младшего почти достигает щиколоток. Иными словами, одеяние младшего царя намного ближе к женскому, чем у старшего, и это не случайность, а, как увидим дальше, закономерное явление.
Теперь о памятнике Б, незаконченной плите с изображением младшего царя, наполняющего чашу старшему. Таких недвусмысленных указаний на женский пол младшего царя, как на предыдущей плите А, здесь не имеется. Но сильно выдающаяся вперед грудь этого лица проще всего объясняется, если оно – женщина. Главное же, на единственном изображении солнцепоклоннической поры, которое отвечает имеющемуся на плите Б, на изображении наполнения чаши царю ЕА II: XXXII, наливает напиток царю его супруга – царица Нефр-эт, притом точь-в-точь из такого же продолговатого небольшого сосуда, как и то лицо в мужском синем венце. Сходство между обоими изображениями, конечно, давно обращало на себя внимание исследователей. О венце, как уже было сказано, речь будет позже. Пока же отметим, что, помимо него, ничто не препятствует признанию в венценосном виночерпии женщины. Напротив, женская грудь, значительно меньший рост и самый род оказываемых услуг вполне этому благоприятствуют. На первых порах никто ведь и не сомневался в том, что наливает напиток царю на плите Б его супруга.
На памятнике В, камне из Мэнфе с остатками изображения двух шествующих друг за другом царей, младший царь выглядит мужественней. Правда, такое впечатление основано на воспроизведении от руки, сделанном в середине прошлого века, и будь в нашем распоряжении снимок, впечатление могло бы быть иным. Особенно придает мужской вид младшему царю пояс, повязанный не высоко под грудью, как то бывало у женщин, одетых в складчатые платья, а по-мужски над бедрами. Однако помимо маленького роста второго фараона, что само по себе еще мало что доказывало б, в его облике имеется черточка, позволяющая усомниться в его мужском поле. Младший царь, судя по имеющемуся воспроизведению, следует за старшим фараоном слегка, но вполне заметно наклонившись вперед. Припомним, что и особа женского пола на переделанной плите из Ах-йот стоит позади Амен-хотпа IV тоже несколько наклонившись вперед.
Камень Г из Шмуна кажется на первый взгляд неоспоримым доказательством сосуществования двух солнцепоклоннических царей-мужчин. Как отмечает издатель, на обеих больших особах, которые почти одного роста, – мужские царские передники с отделкою по низу в виде ряда аспидов. Да и рубашки у обоих царей не до земли, как то полагалось для складчатых женских платьев. И тем не менее даже сами одежды, несмотря на весь их мужской покрой, при внимательном рассмотрении оказываются на младшем фараоне много более близкими к женским, чем на старшем. Рубашка на старшем царе доходит только до середины голеней, а сзади ниспадает совершенно отвесно, на младшем же царе спускается значительно ниже – ниже середины голеней, а сзади прикрыта складчатым плащом, свисающим ниже рубашки и, чем дальше к низу, тем больше отступающим от икр. Подобные плащи составляли обычное добавление к складчатым платьям у женщин и были переняты Амен-хотпом IV, любившим похожие на женские наряды, но очень редко встречаются у других мужчин того времени (в частности, на фараоне Семнех-ке-рэ такой плащ накинут поверх рубашки на изображении ЕА II: XLI). Таким образом, наряд младшего царя на камне Г далеко не столь выраженно мужской, как наряд старшего царя. Это примечательно, потому что совпадает с тем, что наблюдается на памятнике А, где младший царь, который располагал лишь одним кольцом и потому должен был быть женщиною, тоже облачен в одежду хотя и мужскую, но все же много более близкую к женской, чем одежда старшего царя. Но не менее примечательно и то, что на маленькой женщине, следующей с гремушкою в руке за двумя большими особами на камне Г и являющейся, очевидно, царевною, платье тоже не доходит до земли, как то бывало у царских дочерей, но, как бы в подражание платью второй особы, точно такой длины, как у той.
Присутствие этой маленькой женщины позади двух первых особ большого размера может служить сильным доводом в пользу женского пола младшего царя. Маленький рост в противоположность большому росту предшествующих особ, сильно вытянутый назад череп без признаков волос сзади, прядь волос сбоку и гремушка в руке – все это, вместе взятое, позволяет видеть в крошечной женщине позади двух фараонов царевну. Бесчисленные изображения дочерей Амен-хотпа IV и Нефр-эт в обществе родителей служат тому хорошим подтверждением. Но те маленькие царевны никогда не бывают изображены без матери. Вспомним, что и в клятве царя на вторичных и третичных (см. § 41) пограничных плитах Ах-йот дочери считаются находящимися в непосредственном ведении не царя, а царицы: «(Как) услаждается сердце мое женою царевой да детьми ее, (из) которых (да) дастся состариться жене царевой великой Нефр-нефре-йот Нефр-эт – жива она вечно вековечно! – за (?) эту тысячу тысяч лет, (в течение коей) была (бы) она под рукою фараона – жив, цел, здоров! – (и да) дастся состариться дочери царевой Ми-йот (и) дочери царевой Мек-йот, ее детям, (тем временем как) были (бы) они под рукою жены царевой, их матери, вековечно вечно» (ЕА V: XXVII-XXVIII). Изображений, где кто-либо из этих маленьких царевен следовал бы за царем, а не за царицею, насколько мне известно, не существует. Не приходится сомневаться в том, что и на памятнике Г маленькая царевна следует за своею матерью и что, следовательно, младший фараон – женщина.
Сходное заключение неизбежно и в отношении памятника Д – оттиска печати с изображениями двух сидящих больших царей (из которых задний в мужском синем венце обнимает переднего) и, видимо, стоящей за ними маленькой особы. Насколько можно распознать, у этой последней голова вытянута назад и без признаков волос. Вместе с маленьким ростом эти две особенности свидетельствуют о том, что стоящая позади особа скорее царевна, чем царица. А если маленькая особа царевна, то задняя сидящая особа в мужском синем венце должна быть ее матерью, так как, по сказанному выше, нельзя ожидать, чтоб маленькая царевна была изображена с двумя царями-мужчинами без матери. Положение в общем такое же, как и в случае предыдущего памятника, и заключение, сделанное относительно его, позволяет умозаключить сходным образом и об изображении на не совсем четком оттиске маленькой печати. То, что на этом оттиске именно задняя особа, младший фараон в синем венце, обнимает переднюю, подкрепляет предложенное толкование. Поскольку только одно лицо из двух обнимает другое и сидит вдобавок за ним, трудно, в силу приемов тогдашнего искусства, не счесть обнимающее лицо за женщину.
Остаются памятники Е и Ж – два оттиска одной и той же печати с изображением двух царей под лучезарным солнцем; старшего – больших размеров и младшего – меньших размеров. То, что на голове старшего царя – красный венец, а на голове младшего – мужской синий, роднит это изображение с изображением на плите А, где младший царь, располагавший титлом с одним только кольцом, оказался, царицей.
Подведем теперь итог нашему обследованию изображений двух безымянных царей. Вывод касательно пола младшего из них может быть только один: младший фараон – женщина. Этот младший царь всегда в мужском синем венце – самом близком к синему женскому, в отличие от старшего царя, который на этих изображениях никогда не бывает в синем венце. Младший царь неизменно, когда можно распознать одежду, одет по-мужски, но столь же неизменно его одежда длиннее одежды старшего царя, приближается к женской. Младший царь почти всегда меньше ростом, чем старший, что свойственно женским изображениям. Он часто делает именно то, что пристало бы делать супруге: обнимает старшего царя, принимает от него ласки, наполняет ему чашу. Наконец, и это особенно важно, младший царь располагает титлом, включающим в себя только одно кольцо, иными словами, титлом царицы, а не настоящего царя, тогда как в титло старшего царя входят два кольца.
Но если младший фараон – женщина, то кто же она, эта цареподобная особа? Царица Нефр-нефре-йот Нефр-эт, как полагали первоначально? Но со времени выхода статьи П. Э. Ньюберри все доподлинно знают, что младший царь носил мужской синий венец, тогда как царица Нефр-эт носила синий венец женский. Да и помимо венца у младшего царя черты совершенно несвойственные Нефр-эт. Последняя никогда не держит в руке крючковатого скипетра, как младший царь на оттисках печати Е и Ж, и никогда не носит, как он на памятнике Г, царского передника с подвесками в виде ряда аспидов. Ни на одном из ее бесчисленных изображений, по крайней мере из известных мне, она не одета в платье, которое не ниспадало бы до самых ступней или – чаще всего – до самой земли (сомнительные исключения ЕА II: XXXVII = XXXVIII и ЕА III: XIII вряд ли могут идти в счет, потому что царица скрыта за фараоном). На младшем же царе на памятниках А и Г одежды, не доходящие до щиколоток. На царице Нефр-эт почти никогда не видно и столь низко повязанного пояса, как на младшем царе на памятнике В (исключение – RMVI: LIV 9 = SAK II: III 2[ 107 ] 107
В. Löhr. Ahanjäti in Memphis. – SAK. Bd 2, 1975, c. 156.
[Закрыть]). Наконец, что чрезвычайно важно, ни на одном из бессчетных изображений царицы Нефр-эт она, насколько могу судить, ни разу не держит в руке веера – большого пера на длинной рукоятке, составлявшего принадлежность высоких придворных сановников – «носителей веера одесную царя» – и придворных жен из царского сопровождения. Подобный веер не видим мы и в руках у других цариц солнцепоклоннического времени: ни у Тэйе (JEA IX: XXI 1 = ЕЕ 1922-1923: 43, JEA XII: I = ARK: VII = HTES VIII: XXII = AeKHK: XIII = STEA : 21 = CuAE2: XXII b, EA III: IV, VI, VIII = IX, XVIII = TQT: XXXII, cp. также изображения ее изваяний ЕА III: VIII = X + XI + XXV G), ни у цариц Ми-йот (ЕА II: XLI) и Анхес-эм-п-йот (ТТ I: II = Т I: Titelbild = Tyr: I = SA III: XVII = Tou2: против 64 = Tut: X = KEAZ: LVIII = EPh: 122 = ГТ: LII = AANE: 187 = VMPh: VI = В Неф: VI цветная = СТ: IV). Его часто носит сестра царицы Нефр-эт – Бенре-мут (ЕА II: VII, VIII, ЕА VI: II, XVI, XVII, XXVI, XXVIII, ср. ЕА II: ХХХШ = XXXIV; без веера – ЕА II: V два раза, ЕА VI: IV; неясно из-за повреждений – ЕА V: III). Один раз мы находим его в руках у четырех царевен, однако их мать, царица Нефр-эт, и тут не держит его (ЕА III: XVIII). И вот этот веер держит в руке младший царь, следуя за старшим на изображении В, как если б был только членом царского сопровождения. Допустим на мгновение, что под самый конец своего царствования Амен-хотп IV по неизвестной причине уступил царице Нефр-эт свой синий венец, вручил и ей также крючковатый скипетр и облек ее в мужской фараоновский наряд. Каким образом после такого повышения в сане могла бы Нефр-эт низойти до ношения за супругом веера, того веера, который она не носила, будучи просто царицей, который носили подданные-придворные, а в царской семье самое большее – царевны? Нет, несомненно, младший царь не Нефр-нефре-йот Нефр-эт.
В своем месте было сказано, что отправною точкою для решения загадки двух царей нам послужит переиначенная плита из Ах-йот, на которой Амен-хотп IV изображен в сопровождении неизвестной женщины, чье изглаженное титло было заменено титлом Семнех-ке-рэ. Вернемся к этой плите. Может ли быть неизвестная женщина царицей Нефр-эт? Нет, не может, потому что Нефр-эт ни разу не изображена где бы то ни было смиренно наклонившеюся позади стоящего прямо супруга. А так именно изображена неизвестная на плите. Но если эта женщина не царица Нефр-эт, то не есть ли эта незнакомка та самая женщина, которая кроется за обликом младшего царя? Своим смиренным наклоном вперед женское изображение на плите не может не напомнить младшего фараона, как он представлен на камне из Мэнфе (памятник В), следующим слегка наклонившись вперед за старшим царем, со своим отнюдь не царским веером в руке. Трудно не предположить, что особа, переименованная на плите из Ах-йот в Семнех-ке-рэ, и особа, переименованная на изображениях из южной усадьбы и Шмуна в Ми-йот и Анхес-эм-п-йот, одно и то же лицо; множить без надобности таинственных спутниц фараона у нас нет оснований. Мы уже обратили внимание на сходную осанку у женщины, переименованной на плите из Ах-йот в Семнех-ке-рэ, и у младшего царя на камне из Мэнфе (памятник В): заметный наклон туловища вперед, не свойственный изображениям царицы. На камне из Шмуна ZAeSA LXXIV: 105 = ARH: XIX 234—VI мать царевны являет ту же особенность, только еще более резко: эта особа стояла глубоко наклонившись, надо полагать, позади фараона. Излишне повторять, что изображений царицы Нефр-эт в подобном положении неизвестно. Но у склоненной особы на камне из Шмуна и у младшего царя на камне из Мэнфе оказывается еще одна общая черта. Тот младший царь держит в руке веер большое перо на длинной рукоятке, склоненная особа несла палку или трость, подобно тому вееру тоже никогда не встречающуюся на солнцепоклоннических изображениях в руках у цариц. Но несоизмеримо более существенно, что за младшим царем на одном камне из Шмуна (памятник Г) следует царевна, притом одна, совсем как за особою, выдаваемою за Ми-йот и Анхес-эм-п-йот на камнях из того же Шмуна и из усадьбы. Как уже было сказано, присутствие царевны позади младшего царя выдает с несомненностью, что этот младший царь на самом деле женщина, мать царевны. Круг смыкается: спутница Амен-хотпа IV на плите из Ах-йот, переименованная в Семнех-ке-рэ, спутница Амен-хотпа IV на камнях из Шмуна и усадьбы, выдававшаяся за Ми-йот и Анхес-эм-п-йот, и сотоварищ Амен-хотпа IV – младший царь, по всей видимости, одно и то же лицо. Но кто же тогда эта загадочная особа, как не Кэйе?
Изложенные изыскания сделали это весьма вероятным. Но есть еще один памятник, позволяющий считать вторым фараоном Кэйе с вероятностью, граничащей с достоверностью. Это – камень из Шмуна ARH: X 826– VIII А.
У левого края камня – остаток ободка отвесного царского кольца и, возможно, кончик буквы т от звания, стоявшего над кольцом. Правее – второе отвесное кольцо, сохранившееся на две трети с неповрежденным званием над ним. Далее следуют верхние половинки двух отвесных строк с титлом царевны, отграниченных отвесною чертою от колец, одна от другой и от правого края камня. Что правее ничего больше не было, доказывает условное изображение неба над надписью, «опирающееся» концом на ближайшую к правому краю камня ограничительную черту. Ниже колец был некогда изображен царь; в узком пространстве под двумя отвесными строками, содержащими титло царевны, могло уместиться лишь изображение маленькой девочки. Восстановив под кольцами продольную строку с многолетием и предположив, что отвесные строки с титлом царевны кончались обе на одном уровне с царским надписанием, мы должны будем восстановить в конце второй отвесной строки наименование «Малая» (т'шрт).
| [Царь (и) государ]ь (?) | Сын Рэ | Дочь царева | эм- |
| [Анх-шепр.-рэ] | Нефр-нефре-йот | от утробы его | п-йот |
| [Ми-нефр-шепр-рэ] | Ми-[ва-н-рэ] | [возлюбленная его] | [Ма-] |
| [(кому) дано жить вечно вековечно] | [Анхес-] | [лая] |
Титло Анхес-эм-п-йот, несомненно, не исконное, а вставлено при переделке надписи, как и на прочих подобных камнях из Шмуна (см. гл. III и VII). И написано оно много крупнее, чем предшествующее ему кольцо и его заголовок («сын Рэ»). Но если титло царевны – позднейшая вставка, то и имена Семнех-ке-рэ в обоих кольцах не могут не быть таковою. Ведь маленькая царевна до ее переименования должна была стоять за своею матерью Кэйе. Однако почему место Кэйе не заняла, как обычно, мать младшей Анхес-эм-п-йот Анхес-эм-п-йот старшая, а занял вопреки всякому смыслу и обыкновению фараон Семнех-ке-рэ, женатый на Ми-йот и никакого прямого отношения ни к старшей, ни к младшей Анхес-эм-п-йот не имевший? Не произошло ли такое потому, что Кэйе была изображена не в виде женщины, а в виде фараона? Переименовать женское изображение было проще простого, а переделать фараоновское в женское – сложно. Но маленькая девочка должна была стать не Ми-йот Малой, а Анхес-эм-п-йот Малой, если данная божница Кэйе была передана не Ми-йот старшей, а старшей Анхес-эм-п-йот. Выходит, таким образом, что камень из Шмуна ARH: X 826—VIII А сохранил нам частично то надписание, которое некогда могло значиться над изображением, сохраненным в его нижней части другим камнем из того же Шмуна (MDAIAK XIV: XI 1 = ТЗГ: 97 = ARH: XVI 406—VII А), изображением двух фараонов, от которых уцелели лишь ноги, и маленькой царевны (см. выше). Иными словами, на обоих изображениях должны были быть первоначально представлены служащими солнцу Амен-хотп IV, Кэйе в виде фараона и ее маленькая дочь.
Глава шестая. Соперница царицы
С раскрытием тайны золотого гроба и найденных с ним погребальных сосудов, с опознанием хозяйки южной усадьбы и северного дворца, с установлением личности царственной особы из Шмуна, с прочтением по-новому ряда скорописных известий, с разгадкою загадки второго фараона мы оказываемся в обладании обильными источниками о любимице Амен-хотпа IV Кэйе. Теперь ее место в тогдашних событиях не может не представиться нам в совсем новом свете и много более значительным, чем казалось сперва. Мы очутились вдруг перед лицом множества свидетельств, по-разному представлявших возлюбленную фараона: то царственной женщиной, то мужеподобным царем, то одну с Амен-хотпом IV, то в сопровождении дочери – свидетельств из собственно Ах-йот и из его окраин, южной и северной, из Нэ, Мэнфе, Шмуна, западного Низовья, свидетельств, представленных дворцами, садами, божницами, изваяниями, круглыми и плоскими, золотым гробом, сосудами, печатями, скорописными записями. Разобраться в пестром нагромождении разнородных показаний – задача нелегкая. Источники чрезвычайно отрывочны и бессвязны, однако все-таки, если главные загадка разгаданы правильно, она в какой-то мере осуществима.
На положении побочной жены венценосного возлюбленного мы застаем Кэйе сравнительно рано – через несколько лет после появления рядом с ним его царицы, «жены царевой великой» Нефр-эт.
Древнейшее вещественное и письменное свидетельство о Кэйе, место которого в цепи памятников царствования может быть определено точно, представляют два невзрачных сосуда, несомненно принадлежавших когда-то царской любимице (JEA XLVII: 29, 30). Оба они были надписаны одинаково, но на одном из них (втором) кольца солнца теперь отбиты. Солнечным кольцам «предстояли» кольца царя, а за ними тоже отвесно было написано в трех строках титло хозяйки сосудов: «Жена-любимец большая царя (и) государя, живущего правдою, владыки обеих земель (последнее обозначение пропущено на первом сосуде) Нефр-шепр-рэ Ва-н-рэ, отрока доброго Йота живого (на втором сосуде „живого" повторено ошибочно в начале новой строки), который будет жив вековечно вечно, Кэйе».
Солнечные кольца – ранние, но уже с многолетием «(кому) дано жить вечно вековечно» (см. § 30), так что сосуды не древнее III (см. § 36) и не позднее VI (см. § 39) солнечного титла. Иными словами, они были надписаны между 8-м (см. § 36) и 12-м (см. § 25) годами царствования. При этом вероятно то, что они были изготовлены ближе к 8-му году, чем к 12-му, потому что в обоих случаях над кольцами царя значится дважды владыческий заголовок: «владыка обеих земель» – «владыка венцов», при ранних солнечных кольцах более употребительный в первые годы по их введении, нежели в последующее время (см. § 62). Любопытно, что уже на этих древнейших памятниках титло Кэйе как бы занимает место колец царицы позади фараоновых в молитвенном предстоянии кольцам солнца. Хотя имя Кэйе, как и годы спустя, остается не вписанным в царственное кольцо, но на одном из сосудов (первом) определитель к ее обозначениям «жена» и «Кэйе» изображает не просто сидящую женщину, а женщину с венчиком цариц на голове. Такие венчики бывали составлены из вздыбленных изображений царских аспидов. Венчики бывают на определителях к имени царицы Нефр-эт (см. § 77, 80), но на определителях к именам ее дочерей они до конца царствования не встречаются. Определитель к имени Кэйе держит что-то в руке, но что – по изданию не определить. Однако ка «бич» (т. е. махалку), который часто держит в руке определитель к имени царицы (см. § 77, 80), этот предмет как будто бы не похож, да и уместиться хвостам «бича» здесь было б негде. Судя по изданию, определитель очень близко придвинут к спинке предшествующего знака коршуна, последней буквы в имени Кэйе.
Следующее по времени, если только не одновременное, известие о Кэйе доставляет нам ее гроб, заготовленный, очевидно, впрок задолго до ее кончины. Такого рода предусмотрительность не представляла ничего необыкновенного при солнцепоклонническом дворе. Алавастровый ящик с сосудами для внутренностей самого Амен-хотпа IV был изготовлен и надписан за много лет до его смерти, еще при ранних солнечных кольцах (ASAE XL: LII, EA VII: 30, 31, 32, XXII 10). При ранних солнечных кольцах или самое позднее вскоре после замены их поздними был надписан и гроб Кэйе: в непеределанных частях шести надписей царь уже «живущий правдою» (см. § 64), а в трех из них слово «правда» передано человекообразным знаком-изображением Мэ (TQT: 18 = BIFAO XII: 149-150 = ASAE XXXI: 100 [= отчасти I] = отчасти ТТА: 169 CXCVI А-В; см. § 108). Обшитый золотом снаружи и внутри, испещренный богатыми многоцветными вставками, этот гроб до открытия гробов Тут-анх-амуна был самым роскошным из всех дошедших до нас от фараоновского Египта. Изготовленный не позже как около времени переделки ранних солнечных колец в поздние, он свидетельствует недвусмысленно о том, что Кэйе занимала совершенно исключительное положение подле фараона еще при ранних солнечных кольцах. На гробе многократно повторено было ее титло, то же самое, что и на сосудах: «[Жена-]любимица большая царя (и) государя, живущего правдою, владыки обеих земель [Нефр-шепр-рэ Ва-н-рэ], отрока доброго Йота живого, который будет жив вековечно вечно, Кэйе» (см. гл. IV). Перед нами, следовательно, твердо установленное титло, так что отношения Амен-хотпа IV и Кэйе определились и получили свое торжественное и строгое выражение в ее титле до переделки ранних солнечных колец в поздние.
Вместе с тем нельзя не заметить, что приведенное титло в корне отлично от титла царицы (см. § 74-90). Ни одно звание Кэйе не намекало на причастность к государственной власти: «владычицей обеих земель», «госпожою Верхнего (и) Нижнего Египта» побочная жена фараона не была. Она оставалась частным лицом, и в ней не видели ничего такого, что позволяло бы желать ей, как Нефр-эт, «жить вечно вековечно». Имя Кэйе не заключено в кольцо. Она – не «жена царева великая», а просто «жена» такого-то царя. При этом определение к имени фараона («отрок добрый Йота живого, который будет жив вековечно вечно») составлено, как то было отмечено X. Шэфером,[ 108 ] 108
Н. Sсhäfеr. Altes und Neues zur Kunst und Religion von Tell el-Amarna. – ZAeSA. Bd 55, 1918, c. 4.
[Закрыть] по-новоегипетски, а не на среднеегипетском языке, на котором сложено титло царицы. Разговорная, обиходная новоегипетская речь – «просторечье» – была приемлема по отношению к побочной жене; полноправную ж царицу величали по завещанному прадедами способу – на старинном языке.
Ко времени изготовления гроба Кэйе не имела и права на царскую налобную змею – другое отличие от настоящей царицы. Изображение аспида, прикрепленное ко лбу человекоподобного гроба Кэйе, должно быть позднейшим добавлением. Трехкратное написание слова «правда» на гробе знаком Мэ (BIFAO XII: 149-150), вышедшим из употребления вскоре после переделки солнечных колец в поздние (см. § 108), предрасполагает считать гроб изготовленным и надписанным, скорее всего, еще при ранних солнечных кольцах,[ 109 ] 109
C. Aldred. The tomb of Akhenaten at Thebes. – JEA. Vol. 47, 1961, c. 45.
[Закрыть] тогда как на аспиде значатся поздние (TQT: 19 = II). Определенно позднейшее происхождение этого аспида доказывает сравнение гроба с изображениями Кэйе на плитах из усадьбы на юге Ах-йот. Эти плиты надписаны поздними солнечными кольцами, и тем не менее Кэйе, хотя и представлена здесь с теми же «ступенчатыми» короткими накладными волосами на голове, что и на гробе, не имеет ни в одном случае царского аспида на лбу (СА I: XXXII 2 = LVI 271 J + M, XXXIV 1 = LVI 273 = ТЗГ: 70 = ZZR: между 128 и 129, ср. СА I: XXXV 11). Таким образом, и на золотом гробе она хотя и торжественно признанная, но все же только возлюбленная фараона без права на кольцо вокруг имени и на налобного аспида. Ее близость к царю нашла отчетливое выражение в полной любви заупокойной молитве к нему, начертанной на подошвах человекообразного гроба. Однако ровней царице Кэйе в ту пору еще не была.
От поры ранних колец не дошло даже намека на какие-либо сооружения в честь Кэйе. Сама усадьба на юге солнцепоклоннической столицы в первые годы по ее основании устраивалась совсем не для Кэйе. В величественном преддверии, ведшем в южный сад (северного сада тогда еще, возможно, не было), были в те годы изображены и поименованы (вместе с царем царица Нефр-эт и ее дочь Ми-йот, а не Кэйе с дочерью – СА I: XXXIV 4, XXXV 8, LX 131. На первом обломке многолетие царицы [«жива она веч]но вековечно!» указывает на время не раньше III (см. § 36) солнечного титла (см. § 82); знак протока для мр на всех трех обломках позволяет полагать, что они не позднее того же III солнечного титла (см. § 104). Впрочем, и в ближайшие затем годы царица с дочерью (дочерьми?) продолжала именоваться в надписях преддверия, поскольку имеются куски титл царевны со знаком пруда для мр (СА I: LX 129, 132, 133), что может указывать на время после III солнечного титла (см. § 104). Во всяком случае, среди прочих обломков титл Нефр-эт ни один не содержит указаний на время после переделки солнечных колец в поздние. Напротив, определитель к имени царицы с перьями (СА I: ХХХII 1, XXXIV 5, см. § 80) и сами ранние солнечные кольца, встречающиеся то тут, то там с ее именем (СА I: XXXII 1), говорят о времени более раннем. От поры ранних солнечных колец не дошло и изображений Кэйе вместе с царственным возлюбленным.
Подобное положение сохранялось, видимо, в течение долгих лет, так что и на протяжении какой-то части поры поздних солнечных колец незаметно существенных перемен. Как мы только что отметили, ни на одном изображении на плитах из южной усадьбы Кэйе не носит на лбу царской змеи; эти же плиты определенно времени поздних солнечных колец. Мало того, ни один луч-рука лучезарного диска на этих изображениях не простирается до Кэйе, не протягивает к ее носу знак жизни, хотя тут же солнечные лучи-руки подносят знак жизни к носу царя. Следовательно, побочная жена царя по-прежнему не чета царице; не располагает, как та, правом на налобного аспида, на получение знака жизни из солнечных рук, на их прикосновение, не говоря уж о праве на кольцо вокруг имени.
Обиходная разговорная новоегипетская речь звучит по-прежнему в титле побочной жены, тогда как в титле царицы, как и в титлах других особ царского дома, по-прежнему старинные среднеегипетские обороты. Усадебные плиты знакомят нас с дочерью Кэйе и отчасти с титлом этой девочки. Нет причин полагать, что дочь Кэйе родилась после переделки солнечных колец из ранних в поздние; вполне возможно, что девочка родилась раньше и носила свое титло, подобно матери, еще при ранних солнечных кольцах. Однако твердых оснований утверждать это не имеется.