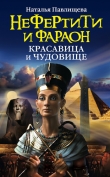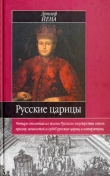Текст книги "Кэйе и Семнех-ке-рэ"
Автор книги: Юрий Перепелкин
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 27 страниц)
В том, что у земных фараонов «празднество тридцатилетия» представляло так или иначе обновление царствования, согласны сейчас едва ли не все исследователи. Но не менее ясно, что греческая передача названия этого фараоновского празднества как «тридцатилетие» в значительной мере условна. И условна она не только потому, что некоторые цари справляли свое первое «празднество тридцатилетия» за много лет до тридцатилетней годовщины царствования. Греческая передача условна прежде всего потому, что даже те цари, которые праздновали первое «празднество тридцатилетия», процарствовав действительно тридцать лет, последующие свои «празднества тридцатилетия» – второе, третье, четвертое и т. д. – справляли одно за другим через короткие промежутки времени, в несколько лет каждый.
Царственное солнце Амен-хотпа IV обновлялось, возрождало само себя каждое утро и тем самым справляло при каждом своем «возликовании» на небосклоне «празднество тридцатилетия». Недаром его постоянным титловым обозначением было «Йот живой, великий, что в празднествах тридцатилетия», или, позднее, «владыка (т. е. обладатель) празднеств тридцатилетия». Но если слова «ликующий в небосклоне» в составе солнечного имени относились к праздничному обновлению, т. е. утреннему самовозрождению царственного солнца, то не естественно ли ожидать, что непосредственное продолжение этих слов, заключительная часть солнечного имени, должно было иметь отношение к тому же? «Возликовывающий на небосклоне под именем своим как...» – не будет ли то, что следует затем, т. е. это самое «имя», обозначать как раз самовозрождающееся солнце?
И действительно, последующие наименования имеют отношение к рождению. Согласно раннему солнечному имени, «ликующий на небосклоне» восходит как сыновнее солнце Шов (см. выше), согласно позднему имени – как отец Рэ. И оба, Шов и «отец Рэ», оказываются затем Йотом, видимым солнцем, явлением, которое солнце, как таковое, порождает или в котором самопорождается по утрам (см. выше) и которое в то же время есть отеческое солнце, чье наименование созвучно со словом «Йот» – «отец» (см. выше). В самом деле, какое-то скопление отеческого и сыновнего, порождающего и порождаемого, но притом скопление на первый взгляд очень странное, противоречивое. Если то, что сыновнее солнце Шов отождествляется с видимым солнцем Йотом, порождаемым по утрам, никакого противоречия в себе не содержит, напротив, выглядит вполне последовательным, то признание этого Йота, порождаемого солнца, одновременно «отцом», отеческим солнцем, заключает в себе как будто б невыносимое внутреннее противоречие. Не менее внутренне противоречиво и провозглашение отца Рэ порождаемым видимым солнцем Йотом, хотя бы последний был тоже «отцом», отеческим солнцем. Противоречивость подобных отождествлений не подлежит, по-видимому, сомнению, но что, если именно она и составляет самое существо заключительной части солнечного имени?
В самом деле, кого, по тогдашним представлениям, порождало солнце каждое утро? Не кого иного, как самого себя. Утреннее солнце, восходящее на небосклоне, есть солнце сыновнее, порожденное, но в этом возрожденном солнце, ставшем вновь зримым явлением, возродилось, пришло, вернулось прежнее солнце, его породившее, солнце отеческое. Но разве не то же самое утверждает солнечное имя в его более раннем виде? Утренний, потому что небосклонный, Ра-Хар-Ахт празднично-обновленно возликовывает на небосклоне как сыновнее солнце Шов, которое есть видимое солнце Йот, иначе, все тот же «Йот» – «отец», отеческое солнце.
Раннее солнечное имя было основано на привычной и значительной для древних египтян игре наименованиями. «Солнце» Шов потому «сын Рэ», что таковым был старый бог воздушного пространства Шов. Йот («видимое солнце») потому «отец», что по-египетски «отец» тоже «Йот». С окончательным отвержением старых божеств игра именем одного из них в составе обозначения самого предмета нетерпимого солнцепочитания становилась неуместной. Неуместною она была сочтена даже раньше устранения из солнечного имени слова «хор». В переходном виде солнечного имени (см. § 23) слова «шов» уже нет, но слово «хор» еще остается, хотя пишется буквами, а не знаком сокола, священной птицы и образа старого бога Хора. Если солнечное наименование «Ра-Хар-Ахт» на первых порах еще сохранялось, то его отрывали от старого Хора, бытовавшего в прежнем многобожии и вне этого сочетания. Нарочно отграниченное самим своим правописанием от старого бога и включенное в царское кольцо чисто буквенное «хор» могло легко восприниматься как равнозначащее слову «царь»,[ 209 ] 209
А. Erman, H. Grapow. Wörterbuch der aegyptischen Sprache. Bd 3, c. 124.
[Закрыть] но затем и буквенное «хор» заменили уже вполне недвусмысленным обозначением «властитель». Но никакое буквенное написание не могло бы спасти даже временно слово «Шов» в солнечном имени, как только старые боги были окончательно отвергнуты новым солнцепоклонничеством. Ведь слово «Шов» затем и находилось в солнечном имени, что там играли как раз теми представлениями, которые связывало с этим словом отвергнутое многобожие. Фараона еще некоторое по крайней мере время продолжали величать «Шов» (см. выше). К царю ведь прилагалось еще другое обозначение для солнца – «Рэ»; «Шов» тоже значило «солнце», и, величая Амен-хотпа IV «солнцем» – «Шов», совсем не обязательно было вспоминать многобожескую подоплеку последнего обозначения. Но в солнечном имени дело было именно в этой подоплеке. С окончательным отвержением прежнего многобожия слову «Шов» не было больше места в солнечном имени.
Но чем и как было заменить неуместное обозначение? Пересказать его, передать описательно как «сын Рэ»? Но ведь то было привычное обозначение фараона, а никак не солнца. Значит, нельзя уже было высказывать в солнечном имени, что сыновнее солнце, будучи видимым солнцем и, как оно, именуемое созвучно с «отцом», есть возродившееся отеческое солнце. Но если стало невозможным высказываться в солнечном имени о сыновнем солнце, то можно было высказать там ту же мысль применительно к отеческому солнцу, вместо сыновнего солнца, сына Рэ, сделать предметом высказывания самого «Рэ-отца». В таком случае оставалось только сказать, что отеческое солнце вернулось в порожденном им видимом солнце, именующемся потому созвучно с «Йотом» – «отцом» – Йотом. Это и было сделано при переделке солнечных колец из ранних в поздние. Теперь утренний, потому что небосклонный, Рэ – властитель возликовывает празднично-обновленно на небосклоне как отеческое солнце, как «Рэ-отец», вновь пришедший в порожденном им видимом солнце Йоте, потому так и именуемом – созвучно с «Йотом» – «отцом».
Глагол йй «приходить», употребляемый также с оттенком «возвращаться», встречается несколько раз в приложении к солнцу Амен-хотпа IV и вне позднего солнечного имени, притом на протяжении всего царствования, от времени первоначальных солнечных обозначений до поры поздних солнечных колец включительно. Правда, за одним исключением, словоупотребление очень однообразно, ограничено приветственными обращениями к солнцу ий.тй «Прииди» (досл. «Пришедши ты!») и йй.вй «Прииди же!» (досл. «Сколь (приятен) пришедший!») в смысле «Добро пожаловать!».
Пнчв и Пи-нхас при ранних солнечных кольцах и Хойе при поздних приветствуют солнце в своих гробницах в Ах-Йот такими словами: «Привет тебе, восходящий в выси, сияющий утром на склоне неба! (Разночтение Пи-нхаса: „(когда) восходишь ты в выси, (когда) сияешь т(ы) [у]тром на склоне неба".) Прииди в мире, владыке» мира (т. е. спокойствия)! Земля до края ее собрана, когда воссияваешь ты. (Пи-нхас добавляет: Лица (т е. люди) все живут при виде тебя".) Обе руки их (воздеты) в похвалу восходу твоему. (У Пи-нхаса восхваление солнца на этом обрывается и начинается прославление фараона.) Обоняют они земли? (т.е. поклоняются), (когда) сияешь т[ы] им. Восклицают они до высоты неба. Восприемлют они радость (и) веселье. Ликуют они, (когда) видят величество твое (т. е. солнце). Даешь ту лучи твои лицам всем (т. е. всем людям) подающимся наружу (т.е. выходят из жилищ?), (когда) приобщаешься ты выси (т. е. поднимаешься на небо), (когда) предпринял ты дорогу добрую» (следует заупокойная молитва; Пнчв – ЕА IV: III, Пи-нхас – ЕА II: VII, Хойе – ЕА III: II). Снаружи своей гробницы в Ах-Йот, по бокам ее двери, Эйе встречает солнце такими словами: «Прииди [же], Йот живой – [наполнил ты о]бе зем[ли] красотою твоею] – – – [не]т другого, знающего тебя, кроме сына твоего, царя (и) государя Нефр-шепр-рэ Ва-н-рэ»; «[При]иди же! Восходишь [т]ы – – – направить – – – Йот это во (всю) долготу (т. е. всё) сын его, – – – [сы]н Рэ [Э]х-не-[Йот], большой [п]о [в]еку своему»; «Прииди же, Йот живой, рождающий себя сам повседневно. Земля всякая в [праз]дне[стве] (?) – – – умиротворяешься т[ы] – – – ты(?) жене царевой великой Нефр-нефре-[Йот] Нефр-эт – жива она вечно [веко]вечно!» (ЕА VI: XXIV, при ранних солнечных кольцах). Во всех этих надписях глагол йй «приходить/возвращаться» относится к восходу солнца, к его приходу вновь утром – употреблен в конечном итоге в том же смысле как и в позднем солнечном имени. Там за глаголом следуют слова м йтн – йй м йтн «приходить солнцем, возвращаться Йотом». Точь-в-точь такое же и еще одно сходное словосочетание являет наиболее ранний свидетель употребления глагола йй применительно к солнцу Амен-хотпа IV – славословие ночному солнцу, начертанное на гробнице Саха в Нэ. Хотя надпись очень ранняя и вполне многобожеская, она тем не менее посвящена солнцу Амен-хотпа IV (см. § 2), правда еще с трудом отличимому от старых солнечных божеств, как то часто бывало в ту пору первоначальных солнечных обозначений. Вот перевод этой надписи: «Прославление Рэ, (когда) умиротворяется он в жизни (т е заходит живым) на склоне западном неба – повелителем-князем, другом (царевым) единственным, приближающимся к владыке своему (т. е. фараону), тем, кто в сердце Хора, владыки Дворца (т. е. в сердце фараона) – распорядителем дома Хър[в.ф (другое имя Сах.а), правым] голосом [290] (т. е. оправданным на том свете, покойным). Сказывает он:
"„Привет тебе – – – Атом [владыка (?) веч]ности (?)! [Прио]бщился ты склону неба. Ты воссиял на западе Атомом, что ввечеру, пришедши (йй.ти) в мощи твоей. [Поверг ты про]тивника твоего (– змия). Властвуешь ты (над) высью как Рэ. Касаешься ты неба (и) земли – – —. Удалил ты облака (и) тучи (или: град). Спускаешься ты из утробы матери твоей Нав[не]. Отец твой Нун [в радости (?)]. Боги [(такие-то)] в воскликновении, те, что в преисподней, в ликовании, (потому что) [видят они (?)] владыку своего, растягивающего шаг [свой (?)]. Т[ы (?) —] владыка всех. Прииди (йй.ти) в мире, касающийся обеих земель (т. е. Египта – в смысле заходящий?)! Приобщил ты руки закатным горам (т. е. обнял место заката). Восприял (о?) – – – величество твое честь, приставши ко храму твоему ради отрешения рук матери твоей от – – —. Влекут тебя (т. е. солнце в его ладье) души западные на дорогу, что (?) в земле святой (т. е. в мире мертвых). Освещаешь ты лицо приставников преисподней. Слышишь ты зов (того), который во гробе. Поднимаешь ты (тех), которые положенные на бок (т. е. мертвых). Вкушаешь ты правду у того, кто с ней. Молодишь ты носы тем, что в ней (т. е. жизнью-дыханием, которые она сообщает?). Отделяешься ты оттуда на место честное. Восполняешь (?) ты явления в (виде ?) богов – выходящих отсюда, (тем временем как) тепло их явилось,– обновившись в мощном (обличье) твоем первоначальном, пришедши Йотом (т. е. видимым солнцем, йй.ти м йтн), мощью неба, соединившись с власт(ью?) (над) [(такою-то нагорной страною)]. Учитываешь ты красоту твою посреди преисподней. Сияешь ты, именно ты, тем, кто во тьме. Те, кто в пещерах, в ликовании. Славят они [те]бя, (когда) достигаешь ты до них, перед (?) лицом твоим этим пробудившегося целым – – – ... ежедневно. Светает земля – – – ... в облике его, выходящий из утробы матери его непрестанно, умиротворяющийся внутри во вре[мя (?)] – – – Рэ при восходе своем, Атом после [умиротворения (т. е. захода) своего (?)]. (Да) дашь ты быть мне среди жалуемы(х) тобою, видя красоту твою повседневно, (когда ?) принимаю я концы (?) ночной солнечной ладьи – – —» (ASAE XLII: 462-463 + JEA IX: XXVII п).
Несмотря на досадные повреждения и отдельные неясные места, из надписи со всею определенностью следует, что приход солнца в виде Йота, т. е. видимого солнечного круга, связывался непосредственно с обновлением солнца в прежнем образе: «обновившись в мощном (обличье) твоем первоначальном, пришедши Йотом, мощью неба» (ASAE XLII: 462 ошибочное чтение «в животворении твоем» должно быть исправлено по JEA IX: XXVII n как в «мощном (обличье) твоем»). Лучшего подтверждения предложенного понимания позднего солнечного имени, подтверждения вдобавок устами самих солнцепоклонников, трудно было б даже ожидать.
Два других примера глагола йй «приходить» в приложении к солнцу, содержащиеся в надписи, заслуживают внимания в том смысле, что относятся не к утреннему, а к вечернему приходу или возвращению солнца. Они тем самым показывают, что «приходить» применительно к солнцу не тождественно с «восходить», но что йй в этом употреблении сохраняло свое основное значение, значило именно «приходить», возможно, с оттенком «возвращаться». То же следует из вечернего славословия солнцу, сохранившегося в двух гробницах в Ах-Йот – у Пнчв (ЕА IV: IV) и в списке оттуда у Хойе (MSECAE I: 24 = 59-60 + ЕА IV: 29-30):
«Воздавание хвалы Ра-Хар-[Ахту], ликующему в [небоскло]не в имени своем как Шов, который (есть) Йот, (кому) дано жить вечно вековечно. (У Хойе: «Умиротворяешься (т. е. заходишь) ты добре, [Рэ, властитель небосклонный, ликующий в небосклоне в имени своем как Рэ-отец, пришедший Йотом], (кому) дано жить вечно».) Прииди же ты(?), владыка вечности! Хвала тебе, Рэ, владыка небосклона! Пересекаешь (ли) ты небо – лицо всякое (обращено) на тебя непрестанно ночью(!), как (и) днем. Восходишь (ли) ты на небосклоне восточном, умиротворяешься (ли) ты в жизни (т. е. живым) с удлинением (от радости) сердца – око всякое (т. е. все люди, видящие тебя) в шумном восторге. Ночь (у н)их, после того как умиротворился т[ы]. (Когда) приобщился ты небу(!), не видит (одно) око второго своего (т. е. другое). Червь всякий на спине (т. е. поверхности) земли. Спят они (т. е. люди), сотворяют(ся) они слепыми, доколе (не) объявится просияние твое. Просыпаются они, чтобы видеть красоту твою. Воссиява[ешь ты (?)], (и(?)) зрят они, узнают себя(?). Даешь ты лучи твои им (следует заупокойная молитва)». Что глагол йй «приходить» ни в коем случае не служит сказуемым к солнечным кольцам в начале надписи, доказывает сравнение с другими заголовками солнечных славословий в гробницах Ах-Йот. Глагол может быть только приветственным обращением. Однако имеющиеся воспроизведения славословия расходятся в том, что следовало за корнем йй. Старинное воспроизведение этого места у Пнчв дает птенца в и кружок над его спиною (ср. ЕА IV: IV с ЕА IV: 29(11)). У Хойе, по ЕА IV: 29 13, за птенцом в следовали кружок со стоячей черточкой под ним, но они снабжены вопросительным знаком. В MSECAE I на с. 60 над спинкою птенца значится кружок, а на с. 59 перед птенцом помещен хлеб т, за спиною же ничего не показано. Что кружок вместе с последующей корзиной нб можно читать как «повседневно», в высокой степени неправдоподобно ввиду отъединения кружка далеко от корзины – над спинкой стоявшего над корзиной птенца. Читать «Прииди же (йй.в(й)), Рэ, владыка вечности!» тоже затруднительно как ввиду положения кружка над спиною птенца, так и ввиду полного (трехзначного) написания имени «Рэ» в последующем сочетании «Рэ, владыка небосклона». Однако соответствие между подобным «Рэ, владыка вечности» и последующим «Рэ, владыка небосклона» могло бы говорить в пользу такого чтения, как бы неправдоподобно оно ни выглядело, тем более что иной выход из положения придумать трудно, если только не предпочесть разночтение MSECAE I: 59. В последнем случае верхушку кружка надо было бы считать хлебом т, а низ кружка и черточку под ним отнести к знаку-завитку в. Тогда можно было бы читать йй.в(й) те «прииди ж, ты», что во всех отношениях было б, конечно, самым лучшим.[ 210 ] 210
Слова йй м йтн в позднем солнечном имени относят к ежедневному возвращению возрожденного солнца А. Пианков и С. Олдред (Al. Piankoff. Les grandes compositions religieuses du Nouvel empire et la réforme d'Amarna. – BIFAO. T. 62, 1964, c. 209; C. Aldred. Akhenaten, pharaoh of Egypt – a new study. L., 1972, c. 131).
[Закрыть]
При изложенном понимании солнечного имени получает объяснение замена необычным м рн.ф м «в имени своем как» привычного м рн.ф н «в имени своем of/de». «Имя» здесь не просто «Шов» или «Рэ-отец», а умозрительное «Шов, который (есть) Йот», или «Рэ-отец, пришедший Йотом».
Примечание
В 1959 г. Мохаммад Хасан Абд-Ур-Рахман писал о некоторых изваяниях Амен-хотпа IV из его солнечного храма в Эп-эсове: «Из этих сорока фрагментарных песчаниковых колоссов четыре по крайней мере должны были носить чепец, увенчанный четырьмя страусовыми перьями. Только нижняя часть перьев видна на том, что выставлен в Каире, тогда как перья (высотой в 0,8 м) полностью сохранились на другой голове из той же серии, хранящейся в музейном запаснике (таблица 1)... Оперенная корона, таким образом, введенная Ахенатеном, приводит на ум Хорово имя царя: Хър к' нхт къ' швтй... которое включает характерный эпитет Онуриса: къ' швтй... Если мое предположение правильно, корона о четырех перьях доставила бы археологическое доказательство связи между Онурисом – Шу ( = Рэс = Атен) и Ахенатеном...».[ 211 ] 211
Mohammad Hasan Abd-Ur-Ratiman. The four-feathereel crown of Akhenaten. – ASAE. T. 56, 1959, c. 247-248.
[Закрыть]
Эти изваяния объясняет да и само объясняется ими примечательное изображение на стене входа в гробницу Апэйе в Ах-йот (MSECAE I: XXXIX = XL = EA IV: XXXI = XLV). Изображено царское семейство, правящее службу многорукому лучистому солнцу. Три царевны бряцают ему гремушками. Нефр-эт подносит ему своеобразный художественный дар: плоскую подставку с водруженными на нее стоймя кольцами солнца, перед которыми сидит наподобие младенца с подтянутыми вверх коленями царица, молитвенно приподняв руки. На ней тот же синий, венец с плоским верхом, который мы видим на самой дарительнице. Ее супруг подносит солнцу знаменательный дар: подставку с отвесно стоящими солнечными кольцами, по бокам которых стоит по изображению царевича. У обоих у них отличительные черты Амен-хотпа IV: отвислый подбородок (виден на снимке ЕА IV: XLV), толстые бедра, тонкие конечности, и на обоих одно и то же широкое складчатое опоясание, что и на самом царственном дарителе. Головы царевичей ничем не накрыты, отчего видно, что череп у них выдается назад – о том, что таким был череп у Амен-хотпа IV можно было б догадаться иначе только по подражательным изображениям верноподданных, так как у него самого эта особенность обыкновенно скрыта венцами или накладными волосами. Сбоку у царевичей свисает с темени по пряди волос, как то подобало царственным отрокам. На лбу у обоих по царскому аспиду, а над теменем (придерживаемые, очевидно, повязкою, концы которой свешиваются сзади) у каждого высится по три высоких пера – точь-в-точь таких же, как у изваяний из Эп-эсове. Если египетского бога воздушного пространства Шов изображали с таким пером на голове, то почему было не изобразить с подобным головным убором и одноименного с тем Шов земного солнечного Шов – Амен-хотпа IV? А поскольку и солнце Шов и Амен-хотп IV были сынами Рэ, сыновними солнцами, фараона надлежало изобразить отроком, царевичем, хотя и с царским налобным аспидом, царевичам вообще не присвоенным. Изображение в гробнице Апэйе времени V солнечного титла (см. § 38), и солнечные кольца – ранние, еще упоминающие сыновнее солнце Шов. Изваяния из Эп-эсове тоже современны ранним солнечным кольцам, I (см. § 34) или II (см. § 35) их титлу. Пряди волос, свешивающиеся из-под чепца изваяния, передавали, возможно, прическу все того же воздушного Шов.
С изображением в гробнице Апэйе перекликается другое любопытное изображение на обломке плиты из большого дворца в Ах-Йот (ТЕА: XII 2). Неизвестно, что держал в руках царь (его руки отбиты). Но царица подносит лучистому солнцу на полукруглой подставке (в виде корзины нбт) весьма затейливый дар: представлен сидящий царственный младенец, с подтянутыми вверх коленями и молитвенно приподнятой рукою, держащий в другой руке на полукруглой же подставке два стоячих солнечных кольца, окруженных знаками жизни, долгоденствия (дждт) и процветания (в'с). Что младенец не царица, а фараон, доказывает как один аспид над его лбом (у подносящей дар царицы их два, притом с рожками и солнечными кружками на головах), так и фараоновский чепец (нмс), царицам не положенный. И вот на голове царственного дитяти опять-таки высятся четыре пера с загнутыми вверху концами (т е. страусовые). Солнечные кольца – ранние.
Родственное изображение имеется на оттиске печатки СА III: С 30, к сожалению не полностью сохранившемся. На нем мы видим человека, возможно отрока, если выступ на затылке соответствует концу пряди волос. На темени у человека три высоких пера, но не загнутых на концах, как у изваяний, в гробнице и на куске плиты, а прямых, как у Ан-хуре, отождествлявшегося с воздушным Шов. Зато в приподнятой руке человек держит три пера с концами загнутыми, как у самого Шов.