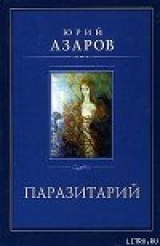
Текст книги "Паразитарий"
Автор книги: Юрий Азаров
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 30 (всего у книги 49 страниц)
7
Все периодические издания пестрели разъяснениями по Референдуму. В конце концов получилось так, что стало два референдума: хоботовский и праховский, или федеративный и имперский. В праховском формулировался основной вопрос в следующей редакции:
– Считаете ли вы необходимым сохранение обновленной империи, гарантирующей эксдермацию Степану Сечкину и человеку любой национальности?
В хоботовском референдуме вопрос ставился так:
– Считаете ли вы необходимым избрать на должность президента Хобота Феликса Трофимовича, гарантирующего поставить в федерации все эксдермационные процессы на индустриальную основу?
Борьба сразу же разгорелась по формулировкам. Хоботовцы утверждали, что надо решать проблему в принципе, поэтому неверно вводить персоналии, а именно Сечкина, во всенародный опрос. Сечкин – частное явление, а сегодня важно думать о народе. Доказывали: нет в стране такого человека, который не согласился бы любезно подставить свою шкуру для соответствующей мученической обработки. Культурно-историческая практика показала, что с простого люда хоть семь шкур сдери, а все равно будет некоторая неутоленность – не случайно в прошлые времена поэты писали: "Люди холопского звания сущие псы – иногда, чем тяжелей наказание, тем им милей господа". По этому поводу выступали от народа: "Не ваше дело, какая у нас шкура и сколько у нас ее сдирали, мы принципиальные сторонники хорошего порядка, который в наших условиях невозможен без систематического равноправного и открытого ошкуривания. В народе не случайно говорят: бьет, значит любит. Мы изнутри приняли необходимость побоев, прозябания в нищете, холода и голода. Когда кто-нибудь дохнет на глазах, особенно когда этот кто-то живет по соседству, наши простые души ликуют и радуются, потому что всякий раз думаешь: "Хорошо, что сам дуба не врезал…" Праховская команда на все лады возмущалась, что демократ Хобот сам прет в президенты, минуя демократические формы избрания, и что, не имея армии, флота, полиции и прокуратуры, он не в состоянии будет поставить эксдермацию человека любой национальности на промышленную основу, так как вся промышленная основа развалена и приведена в полную негодность.
Хоботовская и праховская команды, казалось бы, забыли про меня. Они готовили Референдум. Снова город обклеили новыми дацзыбао. Появилось сорок тысяч новых газет. В стране не было ни клочка бумаги, однако на листовки и на газетенки вновь рожденных изданий бумаги хватало. Газеты перестали читать, и тогда стали появляться всевозможные развернутые плакаты с рисунками и без рисунков. Я молил Бога, чтобы продлился этот предреферендумовский бум: авось и забудут про меня.
8
А потом наступила пора, когда обо мне вспомнили. В печати все чаще и чаще стало появляться мое имя. Меня требовали к ответу, к диалогу, к раскаянию, к консультации, к беседам на разные темы. Я прятался и уходил от встреч с журналистами и телекомментаторами. Я прятался в оврагах, старых домах, заброшенных сараях, залезал сквозь выбитые стекла в котельные и на чердаки, но меня отовсюду вытаскивали и задавали глупые вопросы:
– Два слова о вашем самочувствии перед Большой Программой.
Я иногда грубо отвечал:
– Хотел бы эксдермироваться только с вами.
Но такие ответы их тоже устраивали.
Были вопросы и явно провокационные:
– Как вам удалось разоблачить действия Паразитарного Центра?
– Я никого никогда не разоблачал, – отвечал я, а они врали потом на все лады: "Сечкин скромен, как Ильич Второй, как покойный Сталин, как истинно народный человек, патриот Великого Отечества. Выбор для эксдермации показательного типа сделан совершенно правильно!" Были вопросы и оскорбительного плана:
– Вы продали свою шкуру праховской компании, чтобы нажиться на этом? Сколько вам заплатили за участие в Большой Программе?
Я нагло отвечал:
– Моя шкура объемом в триста квадратных дециметров стоит три миллиона.
– За такую сумму и каждый бы согласился эксдермироваться. Кругом обман! А говорили, бескорыстный патриот!
Меня встретил Горбунов. Сказал мне шепотом:
– Твои ответы блистательны. Хоботу очень понравилось то, как ты ведешь пропаганду. Помни, за всякий успешный выход в эфир тебе будет начисляться дополнительная мзда в валюте.
– Нельзя ли у вас одолжить пару стольников? – неожиданно сказал я, вспомнив, как это делал Шубкин.
Горбунов дал мне деньги, и я, накупив игрушек и какой-то снеди, побежал к Топазику.
9
Топазик был болен. Простыл, и сильный кашель захлестывал его. Доктора вызвать не удавалось: врачи бастовали. Я ринулся в платную клинику и приехал с врачом и нужными лекарствами. К вечеру Топазику стало лучше. И он раз улыбнулся. Я бы за его чудную улыбку отдал бы все свои шкуры и даже не только свои, но и хоботовскую, праховскую, горбуновскую – даже их шкуры в первую очередь. А потом Топазик уснул и дышал ровно. Не кашлял, и это было моей несказанной радостью.
Анна показала мне пачку листовок и заплакала. Я взял одну из них и стал читать вслух:
"Граждане! Скоро Референдум!!!
Партия госаппаратчиков жаждет получить от нас положительный ответ, что позволит ей сохранить свою кормушку – Паразитарный Центр. Нас опять пытаются оболванить.
Что такое выбор в понимании праховской команды и ее идеологов с Дряхлой площади? – "Земля – крестьянам"? – так и не отдали! Предлагают по два метра на каждого плюс целлофановый пакет для останков!.. "Фабрики и заводы…" – в руках госаппаратчиков (концернов, по-нонешнему) – "Вся власть Советам"? – …вся! вся! вся?… грабителю Прахову!
Сто миллионов партноменклатуры хотят обманом получить мандат и далее рулить и строить ими же придуманный паразитарий под своим же мудрым руководством.
Что стоят их разговоры о социальной защите населения: им – повышение окладов в 20 раз, а нам – очереди, дефицит всего и вся. И это при небывалом урожае и забитых складах! Так уже было. В свое время так поступили с крестьянством: голодом его загнали в колхозы. Сейчас то же пытаются учинить со всем народом. Цель: сломить и снова загнать в свое стойло. И мы уже почти готовы и чуть ли не радуемся будущему повышению цен! А кто довел до этого? – Да та же мудрая партия красных, которая за 93 года властвования продала по дешевке, пустила по ветру, превратила в пыль и ржу природные и духовные богатства страны, истребила почти 70 миллионов ее граждан, довела до нищеты, унизила до подаяний.
Сейчас новая партноменклатура отчаянно пытается сохранить власть своего Центра. Они боятся, что народ, протрезвев от идеологической бормотухи, может призвать их к ответу за все содеянное с собой и страной.
ГРАЖДАНЕ, ПОМНИТЕ: если номенклатура сохранит Центр, то следующим ее шагом будет приватизация по-праховски. Народ обдерут как липку, заставив выкупать свою же (общенародную) собственность. Руководить концернами и фирмами останутся все те же. Даже коварный всемогущий Сталин не смог (или не посмел) так презирать народ – выдавал облигации. Уже и монголы, не говоря о чехах, венграх и поляках, разделили общенародную собственность на всех, включая коммунистов. Нас же считают дурнее скотины.
ВСЕ НА РЕФЕРЕНДУМ!!!
НЕТ – ПАРТНОМЕНКЛАТУРНОЙ ИМПЕРИИ, УЖЕ ОБНОВЛЕННОЙ ПРАХОВЫМ, ХОБОТОМ И ДРУГИМИ!!!
НЕТ!!! – ПОСЫЛКЕ НАШИХ ДЕТЕЙ ДЛЯ «УСМИРЕНИЯ» РЕСПУБЛИК!!!
ДА!!! – ЭКСДЕРМАЦИИ СЕЧКИНА И ЕГО ПОСЛЕДОВАТЕЛЕЙ!!!
ДА!!! – ГЛОБАЛЬНЫМ ЭКСДЕРМАЦИОННЫМ ПРОЦЕССАМ!!!
ДА!!! – СВОБОДЕ ФЕДЕРАЦИИ РЕСПУБЛИК!!!"
– Я тоже написала вот это и отослала в Паразитарный Центр, – сказала Анна, протягивая мне копию своего послания. Анна писала: "Я хоть и слабая женщина, но хочу спасти от гибели хорошего человека, каким является Степан Николаевич Сечкин. Возьмите мою кожу вместо его кожного покрова. Я после работы всегда дома. Об одном только прошу, если будете снимать мою кожу, то сделайте это не при ребенке, которого я сильно люблю.
С уважением к комиссии по Референдуму – Сутулина Анна Дмитриевна".
– Неужели ты думаешь, что я смог бы жить, если бы тебя послали на казнь вместо себя? – сказал я. – Но все равно спасибо тебе, Аннушка. И моему Топазику спасибо.
Я взял ребенка на руки, и он стал водить ручонкой по моему лицу, а то, что произошло минутой спустя, перевернуло мое нутро. Топазик сказал: "Па-па".
Я посмотрел на Анну, точно спрашивая у нее, не она ли научила ребенка этому волшебному слову, но она покачала головой:
– Я знаю, вы подумали, что это я научила. Нет. – Анна, как уже было однажды, опустилась на колени и обхватила мои ноги руками.
Я поднял ее с пола, потом снял со своей груди крохотный медальон с изображением Апостола Павла и надел его на шейку Топазика:
– Вот теперь ты, миленький, защищен навсегда.
Анна плакала и не выпускала мою ладонь из своих рук.
10
А потом наступил момент, когда будто бы все забыли про эксдермацию. В новых листовках почти не говорилось обо мне. В них появился критический накал прозревшей толпы. Если так дальше пойдет, думал я, народ, может быть, и выступит против эксдермации.
Я пытался еще и еще раз вникнуть в содержание той борьбы, какая велась на страницах печати. Я отобрал те листовки, в которых фиксировались антиимперские настроения. Вот одна из типичных листовок этого отбора.
ГРАЖДАНСКИЙ РЕФЕРЕНДУМ
ЧТО СКАЗАТЬ НА РЕФЕРЕНДУМЕ?
Уже год, как Прахов, непрерывно расширяя власть, «обновляет» империю, все, даже «слепые», видят результаты обновления:
– разваленную экономику;
– пустые прилавки и бесконечные очереди;
– непрерывную межнациональную рознь;
– ограбление страны и других республик в пользу ненасытного Центра;
– монополию Центра на распространение информации, а точнее на бессовестное вранье народу в газетах, по радио и телевидению.
И после всего этого Прахов нас спрашивает, считаем ли мы необходимым сохранение «обновленной» до такой беды империи? А люди еще говорят: "Мы не верим Прахову, но мы не хотим распада империи! Поэтому ответим «ДА» – сами себе могилу выроем! Люди, поймите! Не о союзе идет речь, а только о том, чтобы ВЫ ОПРАВДАЛИ ВСЕ ТО, ЧТО НАТВОРИЛИ И ЕЩЕ НАТВОРЯТ ПРАХОВ И НОМЕНКЛАТУРА!
Республики попытались строить страну по-деловому, стали заключать друг с другом договоры, развивать хозяйственные связи…
Центр почувствовал: власть уплывает. Засуетились. Послали войска патрулировать города. Развернули вовсю травлю Хобота. Главный удар – по федерации.
Надо выстоять. У нас свой референдум: станет ли Пегия государством, а не поместьем ЦК? Защитим ли своих лидеров, введя пост президента России – всенародного избранника?
У нас нет другого выбора: только «нет» на Референдуме Прахова, только «да» на Референдуме Хобота. Отстоим федерацию, тогда и союз построим. Союз народов, а не империю партократов!
Все на Референдум федерации!
Праховской империи – НЕТ!
11
Уходя от Анны, я встретил на лестнице Кончикова.
– А я вас обыскался. Все вокзалы и котельные облазил – нигде!
– А что так?
– А то, что бежать вам надо.
– Это еще что? Сейчас все ждут Референдума, а вдруг…
– Никаких "а вдруг". Какой бы ответ ни дал народ, вас все равно ошкурят. Референдум им для видимости нужен.
– А империя?
– Империя – это то, за счет чего они живут. А бежать надо немедленно. Они, я слыхал, могут Большую Программу начать завтра.
– Кто сказал?
– А все об этом говорят. Так и болтают: "Чего тянуть? Все равно ошкуривания не избежать! Так хоть повеселились бы…"
– Так и болтают?
– Век мне свободы не видать – так, точь-в-точь!
– Куда же бежать? Не могу я Топазика бросить. Прилип к нему душой. Убегу от него – умру.
– Так на время же. Поутихнет здесь маненько, можно будет вернуться. А то я слышал, как кое-кто самоволкой уже собирается вас ошкурить. А что, снимут кожу – скажут так и было. Пегия же, ее аршином фиг измеришь, как говорил один наш зек, сегодня одно, а завтра – другое…
– А как бежать? Поймают. Да и куда бежать?
– Не поймают. У меня есть одежда железнодорожного рабочего. А на щеку повязку – вроде бы как флюс, а паричок я стебнул в театральном магазине, самый раз – Ильич в Октябре.
– А куда бежать?
– В леса, к моим родственникам. Глухомань. Тыщу верст до районного центра, там и газет нет, и хлеба нет – одна лебеда да мед. Пасека у каждого ульев на сто.
Мне так вдруг захотелось покоя, и я сказал:
– Вези меня, Саша. Век тебе не забуду этой твоей доброты.
12
Две недели я жил безбедно на хуторе Лебяжьем: лес, озерко, речушка, а пчел-то, и как сладко кружат, а какие запахи! А в конце второй недели на меня накинулись четверо, когда я за пчелками наблюдал. Накинулись, повалили, в рот кляп сунули, руки связали и стали орать:
– Его вся страна ищет, а он, сукин сын, прохлаждается здесь!
– А я сразу узнал в нем Сечкина! Гляжу, падла, сидит газетку читает. Откуда у нас газетки? Сроду их в наших краях не было. Значит, залетный, думаю. А присмотрелся – Сечкин. Я его два раза по телевизору видел и признал.
– А сколько нам за него дадут? По сотенной кинут? За волка две сотни дают – а за этого сукиного сына могут и три сотни дать.
– В газетах напечатают…
– Вот радости-то будет…
Меня, как падаль, кинули в телегу и повезли в район. Так и везли, сволочи, с кляпом во рту: бдительность у народа повысилась по сравнению с тринадцатым годом.
В районе дали охрану и повезли в столицу. А через двое суток уже встречала меня делегация, в числе которой я узнал старых знакомых: двух Шубкиных, старшего и младшего, Мигунова, Свиньина, Коврова, Барбаева. Поодаль стояли и Агенобарбов с Шурочкой и Любашей, Приблудкин и человек средних лет, тот самый – иностранного происхождения. Были тут и представители прессы.
Меня обнимали, целовали, фотографировали, шептали на ухо: "Теперь всё в порядке!", обещали немедленно встретиться, одним словом, я был самым желанным, самым близким, самым родственным…
13
Меня отвезли на закрытую дачу, и ко мне пришел отец Иероним. Что-то небожье мелькнуло в его глазах, когда он по-доброму улыбнулся. Я с детства знаю эти улыбочки, когда в уголочках губ застревает что-то едкое и горьковатое с запахом прокисших щей, смешанных с вонью рыбы коми засола, когда невмоготу непривыкшему человеку чувствовать и даже выносить подолгу эти запахи, ибо они в одно мгновение пронизывают вас насквозь, – я особенно чуток к такого рода запахам и, каюсь, склонен их сильно преувеличивать – пахнуло чуть-чуть душком, а мне уже кажется, что против меня применено химическое удушливое оружие – и я тут же лапками вверх. Конечно же, от отца Иеронима шел совсем неприметный запах, запах, если можно так сказать, скорее нравственно-разлагающего плана, собственно даже не запах, а скорее какой-то неприятный дух, который не ноздрями осязается, а душой, когда душа вдруг начинает задыхаться от общения с человеком, так, должно быть, пахнут дьяволы или души больших грешников – эти запахи творят удушливую атмосферу, которая прямой дорогой ведет к смерти. Я еще раз каюсь и еще раз готов оговориться, что ничего дьявольского, разумеется, в отце Иерониме не было, но, как я уже сказал, мелькнуло в нем что-то НЕБОЖЬЕ. Почему я так говорю, потому что, когда я вижу человека в сутане, я настраиваюсь на предельное бытие: да, вот он пришел и очертил последнюю границу – вот здесь человеческое, а дальше уже все от Бога. ОН посредник и проводник в другую высшую атмосферу бытия, там уже чистый озон, там Божья Благодать, и нет там места недобрым помыслам, а тем более каким-то небожьим запахам.
Он придвинулся ко мне, и я действительно едва не потерял равновесие – такой смрад пахнул на меня из-под его черных усов.
– Зубки надо лечить, – сказал я. – Тут, отец Иероним, я видел, один крохотный пузыречек, я знаю эти пузыречки, великолепное средство от зубной боли, «Дентой» называется. И хранились капли в защищенном от света месте, в прохладе содержались, в холодильничке, запасливые хозяева на этой дачке. Вы с ними дружите? Это чья дачка? Охрана кругом, как в былые времена, налево не ступи, направо не ступи, пулеметики кругом и розочки. Возьмите, отец Иероним, капельки, на ватку и на зубок. Дыра, небось, полметра?
– Сказано, провидец, действительно зуб так разболелся, а в больничку боюсь идти, дайте, милок, капли, вдруг снимут нестерпимое нытье. Боли нет, а нытье ужасное, иной раз теряешься даже, какой зуб болит, вся десна стонет.
– Я вам вопросик один хотел задать, отец Иероним, – начал я издалека, потому что созрел у меня один план и решил я попытать счастья. – Вы Шидчаншина хорошо знали? Он будто ваш крестник был. Причащали вы его? Не так ли?
– Было дело, царствие ему небесное, славный был человек…
– Я его сильно любил, только у меня, как и у всякого русского человека, недоверие ко всему родилось, оно заразило мою душу давно, а к тому времени, когда я с Провссом ближе познакомился, оно, это недоверие, разрослось так сильно, что вытеснило все из моей души. И вот однажды он приехал ко мне, а я тогда упорно работал над Основами паразитарного бытия и все силы вкладывал в этот труд. Кстати, знаете, какой эпиграф был у меня взят к этим Основам?
– Какой?
– "Ты настолько прав, насколько твое деяние угодно Богу".
– Это чьи слова?
– Это мои слова. Подпись я поставил такую: "Из бесед с самим собой".
– Ну и при чем здесь Шидчаншин?
– А вот при чем. Я чувствовал, что мое деяние угодно Богу, и это чувствовал Шидчаншин. Он мне сказал: "Ты делаешь великое дело, даже если ты умрешь или лишат тебя жизни, то ты все равно уже многое сделал", – и пошел говорить в таком духе, все о смерти, о бессмертии, о том, что нужная смерть всегда угодна Богу, что Бог знает, у кого забирать жизнь, а кому даровать ее, – и по мере того, как он говорил, от него шел все сильнее и сильнее какой-то удивительно сизоватый струящийся свет, смешанный с тлетворным запахом, какой бывает от давно слежавшихся вещей или, точнее, шерсти, скажем собачьей или козлиной. Никогда не нюхали слежавшейся козлиной шерсти? Это что-то такое крайне непристойное, гадливое, липучее, вязкое, и от этого запаха у меня стала кружиться голова, и я почувствовал, что вот-вот упаду. А вы знаете, что у Шидчаншина удивительно голубые глаза, они производили всегда впечатление абсолютно стерильной чистоты, чистоты даже с перебором, какой-то неживой чистоты, от которой хочется бежать, такая чистота и такая одухотворенность бывает у умирающих, когда их дух отлетает, покидая бренное тело. Так вот, я сразу приметил, что из глаз его, прямо из глубины, искринки пошли слепящие, режущие, точно не его были эти искринки, а от другого мира, и от этих искринок у меня еще сильнее разболелась голова, а он продолжал говорить, что я не должен бояться смерти, что смерть не так уж страшна, что надо завершать великое деяние. Я не выдержал и сказал: "Провсс, от тебя дух нехороший идет. Бесовский дух, и от него я могу сейчас же умереть…" Вы думаете, он возмутился или перебил меня, или вознегодовал? Нет, он радостно улыбнулся, точно я сказал: "Ты настоящий Божий человек!" И тогда в его глазах мелькнуло зарево, оно было багровым лишь на какие-то доли секунды, а потом ушло в бирюзовые берега, и он сказал: "Прости меня, я побегу. Мне ни минуты нельзя больше оставаться". Он побежал, а я тут же пришел домой и слег. Поверьте, у меня всегда было отличное здоровье, а тут после беседы с ним я слег, нижняя губа у меня вздулась, глазное яблоко свела судорога, а откуда-то со стороны затылка, я это чувствовал, подбиралась ко мне смертельная агония, знаете, у меня не то чтобы был легкий позыв на рвоту, нет, просто я ощущал, как, падая в преисподнюю, я начал молиться, и мне вдруг стало необыкновенно легко, я стал потеть, и пришла несказанная прохлада, и я почувствовал, что спасен. Что это было, отец Иероним? – спросил я, привставая и всматриваясь в его лицо.
Отец Иероним не сразу ответил. Он понял, что я слежу за его лицом. Он попытался даже перевести разговор на другую тему: "А боль действительно снялась", и хоть он это сказал, я все равно чувствовал, что он думает о моем вопросе.
– А на твой вопрос я отвечу, – сказал он, глядя на меня сурово. И мне от этого взгляда стало стыдно. – Все зависит от того, кого ты носишь в сердце своем, – вот тебе мой ответ, – сказал отец Иероним.
– Как это?
– Ну что ж, я готов тебе пояснить. Ты и сейчас, и всегда был весь во власти ожиданий, во власти встреч с добрыми и недобрыми людьми. Ожидание встреч – это твоя сущность. Я поведаю известную тебе историю. Я ее сегодня рассказывал в своей проповеди.
"Святой, богобоязненный человек Симеон жил на земле одной мечтой и надеждой – встретиться с Мессией Христом! И будучи водим Святым Духом, готовился к этой встрече. Когда Симеон встретился с Иисусом, земная жизнь потеряла смысл для него. “Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, с миром!”
Все другие встречи стали для него теперь бесполезны. Он встретил Мессию! Он дождался Избавителя Израиля! Он получил в лице Младенца самое большое богатство и был самым счастливым человеком на Земле! Сердце Симеона ликовало!
“Ибо видели очи мои спасение Твое!”, в Иисусе он увидел славу народа своего Израиля, а также свет к просвещению язычников.
Человек, друг дорогой, день встречи Симеона с Богом стал самым счастливым днем в его жизни!
А твои многочисленные встречи и поиски не сделали тебя счастливым?
Послушай и поверь, Милосердный Спаситель Иисус Христос желает встретиться с тобой сегодня, сейчас, там, где ты находишься, и сделать тебя самым счастливым!
Желаешь ли ты этой встречи с Богом? Если да, пригласи Его в твое сердце и ты никогда не захочешь с Ним расстаться!"
– Вы это мне говорите? Или это ваша проповедь в Храме? – спросил я пристыженный и раздавленный.
– Я это тебе говорю…
– Именно сегодня у меня может произойти встреча с…
Отец Иероним ничего не ответил. Он собрал свои вещи. Подобрал волосы, надвинул на самые глаза головной убор и, попрощавшись со мной легким кивком головы, вышел из моей обители. Потом он вернулся и дал мне в руки книгу. Это была своеобразная богословская антология, и я, как только снова ушел мой гость, углубился в события первого века нашей эры…








