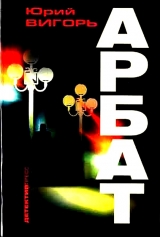
Текст книги "Арбат"
Автор книги: Юрий Вигорь
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 21 страниц)
– Мы будем читать свои стихи в подземных переходах и на вокзалах, в скверах и на площадях… Я сочиню поэму «Лужок», – сказала Новостройкина.
– И вас заберут за нарушение общественного порядка, – сказал, доев свои пирожные, сластолюбец Александр Минкин. – Поэтические вечера с точки зрения коммерциализации города вредны, под них надо закладывать денежки в городской бюджет, а отдачи, видимой отдачи – никакой. Юрий Михайлович рассуждает, как завхоз. Он хороший завхоз, но плохой мэр. А еще худший политик. И еще худший изобретатель «вечных двигателей»…
Подобные разговоры за столиками в шумном, прокуренном буфете ЦДЖ, где не было ни вентиляции, ни кондишина, велись не так уж часто, писатели украшали своим присутствием этот маленький мирок лжи, мирок фальшивых улыбок, мирок многозначительных подмигиваний, перешептываний склонившихся друг к другу голов. Писатели всегда разговаривали, в отличие от журналистов, громко и открыто, их можно было сразу отличить по повадкам, по манере держаться свободно, по широким жестам, привычке громко смеяться, не тая своих чувств. Лица писателей, особенно в минуты спора, в минуты редких возлияний по причине нищеты, всегда были оживлены страстью, а речь перемежалась шутками. Иван Бульба в душе презирал оккупировавших верхний и нижний буфеты ЦДЖ журналистов радиостанции «Эхо Москвы». Главного редактора Венедиктова он называл Баал Зебубом, а проще говоря, Вельзевулом, истинным воплощением зла. И даже в обличье Венедиктова, как утверждал Иван Бульба, было нечто от Баал Зебуба. Но мудрый, ироничный, всепрощающий Венедиктов только улыбался. Он не лез в споры, он разговаривал всегда тихо, очень быстро выплескивая с едва уловимым пришепетыванием слова на голову, на плечи собеседника, опутывая его словесной паутиной, ласковой липучестью слов и как бы создавая из вас кокон, в который ссыпал каскадами личинки слов из своего мясисто красного рта в обрамлении пейсов. Мне нравилось за ним наблюдать, для меня не столь любопытен был информационный потенциал этих личинок-слов, сколь забавна была его манера улыбчивого охмурежа оппонента, он напоминал мне чем-то бисексуала, охмуряющего трансвестита. И как непохож был на мудрого «пейсатого» Венедиктова первое перо радиостанции «Эхо Москвы», задира и грубиян, заядлый спорщик, непрерывно мечущий себе в рот какие-то таблетки – то ли валидола, то ли нитроглицерина, то ли стугерона, – Андрей Черкизов, которого Иван Бульба мог запросто «притушить» навсегда одним колебанием своего кулака, походившего на маятник Кремлевских курантов. Черкизов мог спорить часами, доказывая, что на всей Среднерусской возвышенности нет лучшей журналистки, чем Женя Альбац. Бульба не возражал, ему плевать было на всю эту журналистскую прожженную шушеру, которую вынесло бы на поверхность мутной волной при любом режиме: при фашизме, при коммунизме, при капитализме, при вандализме.
– Они всегда будут нужны политикам, – говаривал Иван Бульба. – Они – профессионалы охмурежа. А мы, писатели, политикам не нужны. Мы можем лишь увести в стан «погибающих за великое дело любви»…
Чем позднее, тем в баре больше народу, сигаретный дым стоит под потолком коромыслом, хмель незаметно развязывал языки, и люди делались понемногу самими собой маски на лицах начинали подтаивать и сползать на чуть засаленные, траурные от арбатской пыли воротнички джентльменов пера, джентльменов удачи. И Анатолий Макаров, знаменитый фехтовальщик фразами, король панегириков, резонер, говорил: «Власть – она и есть власть, она всегда от Бога, какой бы она ни была. И я всегда лягу под любую власть, я заставлю себя полюбить Пиночета, Саддама Хусейна, Ясира Арафата, или Путина, или Распутина, потому что бороться с ветром – это все равно что ссать против него, а мне дороже мои штаны, чем эта власть. Я актер, и мне вей равно, в каком театре играть, какие там ставятся пьесы, мне нужно играть, и все. Мне нужен объект для диалога, потому что от монологов в своей однокомнатной квартире на Ленинском проспекте я устал… И мне нужен гонорар, приличный гонорар, чтобы я мог, не задумываясь, посидеть в баре, пообедать в ресторане, не пересчитывая в уме копейки, перед тем как купить пирожок с повидлом. Меня устраивает любая милиция. Самая продажная милиция – тоже по-своему хороша, потому что у нее есть изъяны, много изъянов, а значит, ее есть за что ухватить, ухватить за яйца, есть повод отбиться и отстоять свои права. А с честной милицией пойди поборись…»
И все это бурлящее, пьющее, закусывающее, говорящее, чавкающее, лгущее месиво, переливающаяся многоцветьем хамелеона фаланга, лучшие перья России, самые острые языки тем не менее претендовали на какую-то свою особенность, на оригинальность, на высший пилотаж пера, на высокий божественный полет мысли в некоем надвременье, они сами были себе судьями, они презирали читателя. Общественное мнение? Да это самая развратная из всех проституток. Все истинно – и вместе с тем все ложно. Абсолютной истины нет. Все в этом мире относительно, все имеет свою цену. А то, что имеет цену, всегда можно купить и продать. И то, что не продается, – просто дерьмо. В этом мире ценится только профессионализм. Чрезмерная свобода ведет нации к разврату, к фальши, к разложению, ибо нация – это кучка пассионариев, это поводыри стада, имя которому – народ. И они, пассионарии, никогда в России не смогут между собой договориться. Поэтому рано или поздно придет диктатор. А диктатор – это всегда ложь. Круг замкнулся. И снова подкатывают времена возводить бастионы и бороться за свободу слова, а следовательно, важен сам процесс, сама борьба, само кало-семя-слово-извержение… И важно лишь одно – ни один член не должен дрябнуть! Когда вы наворовали полмиллиона долларов, вы тотчас забываете о народе… Вот истинный постановщик всенародных спектаклей, вот классический вешатель лапши – это Владимир Познер. Главный девиз – говори обо всем, но не смей говорить о главном… И побольше пафоса, побольше блеска в глазах перед камерами. Неплохо перед съемками немного анальгину принять на грудь с рюмашкой коньячка…
Когда Рок уходил из бара и шел к себе в подвал, эти обрывки чужих фраз еще мельтешили и кувыркались у него в голове. Он подзаряжался здесь какой-то дьявольской энергией и, несмотря на поздний час, садился писать главы своего нового романа «Подземная Москва». За два года обитания в подвале дома номер шесть по Никитскому бульвару он достаточно проникся жизнью и многоцветьем лжи Центрального дома журналистов, начинавшегося сразу за стеной Союза журналистов Москвы. Он знал по имени всех буфетчиц, всех официантов и официанток, всех посудомоек, мясника Борю, жарившего себе по утрам три кровавых бифштекса, шеф-повара Валерия Ивановича, сердечника и вегетарианца, директора ресторана Вячеслава Петровича, тончайшего и изворотливейшего финансиста и фантазера сложных меню. Знал столяра дядю Митю, дежурного электрика Порфирия, непросыхающего после презентаций и сливавшего из рюмок остатки, знал всех трех заместителей директора Золотова, считавшего себя мажордомом этого дворца лжи, и, конечно же, сантехника Витька, самого главного человека в этом доме, ибо трубы здесь текли дружно и постоянно, а в верхней разводной магистрали, изъеденной сквозными раковинами, были забиты щепочки.
Кухня и ресторан интересны сами по себе, и этот мир любопытно изобразить во всех милейших тонкостях, но стоило вспомнить о втором этаже и его обитателях, о вечно что-то жующих организаторах презентаций, как у Игоря Рока начинались мигрень и рези в животе. Едва приступали к «откушиваниям» и апробированию колбас, водочек, наливочек, ватрушек, балычков, привезенных презентующейся фирмой, которая рассчитывала, что сытые журналисты из благодарности напишут о них хорошо, как глаза устроителей и администрации ЦДЖ наливались хищным блеском. Они перли со столов все подряд. Халявщик жил, неистребимо жил в душах администрации ЦДЖ. Вот где можно было увидеть подлинные лица журналюг! Это был поистине спектакль, на котором желудки срывали маски с лиц. Воистину нет страшнее зверя, чем нео-капиталист с советским лицом.
23
И вот от минорной ноты мы переходим к скерцо, умолкают фуги серьезных рассуждений, и в игру вступают два наших замечательных журналюги Бобчинский и Добчинский, два щипача струн жизни, две сурдины. Бобчинский и Добчинский за это время успели изрядно замусорить телефонными звонками городскую телефонную сеть и потормошить ментов. Они сделали немало, поклевав печень и мозги доблестного полковника Певза и капитана Ножкина из ГУВД, из Управления потребительского рынка. Читатель должен знать, что Певз поклялся своими погонами убрать Сенины лотки от Союза журналистов и Центрального дома журналистов. И конечно же, он не сдержал своих слов, как и Ельцин, грозившийся лечь на рельсы. Да и было бы странно, если б он их сдержал. Сеня платил хорошие деньги. Деньги правят миром. Деньги способны творить с человеческой волей и совестью чудеса. На совесть они начхали. Начхали и на ментов. Они знали, эти проклятые деньжата, что менты очень любят их. И Сеня по-прежнему гордо маячил вдоль забора Центрального дома журналистов. Он был как бы лакмусовой бумажкой проверки ментов на вшивость. Если Сеня стоит на Арбатской площади и бульваре – значит, менты продажны. Если Сени нет – значит, либо в стране, либо в городе что-то произошло. Случилось нечто чрезвычайное. Может быть, вдруг изменилась власть. Может, казак Заболотов-Затуманов ввел в город свой славный лихой эскадрон кубанцев и осадил «Дом Ростовых»… Может, президент Путин сменил министра внутренних дел Сергея Грызлова… Может, произошел всемирный потоп…
Вечером в баре ЦДЖ Добчинский сказал в упадке чувств Осе и Фемистоклову за рюмкой коньяка:
– Я не могу ничего сделать. Это же ментовская коррупция. И о ней нельзя писать ни в «Вечерней Москве», ни в «Московской правде»… «Известия» за такую мелочевку не возьмутся. «Комсомольская правда» в руках банкиров «Онэксим-банка», их тоже не волнует такая чепуха. Я вам честно скажу, братцы, сейчас в Москве нет боевых городских газет. Все газетенки ангажированы, то бишь запродались городским властям на корню. Певз меня не боится. Он сказал: «А вы дайте нам от редакции письмо, что мы должны принять меры и убрать Сенины лотки от Центрального дома журналистов. Мне нужно письменное основание для принятия мер… Для протокола…»
– Но это же его работа! – воскликнул удивленно Ося. – Какие, к черту, обоснования? Он обязан следить за порядком, гад!
– Ты не кипятись, не шебурши, – перебил его Фемистоклов, насосавшийся ментовских тайн и изучивший рифы ментовского флибустьерского моря. – Ты всюду лезешь со своим дурацким здравым смыслом, а он нынче ничего не решает. Логика рассудка сейчас смешна. Король всему – желудок! А королева – прямая кишка… Рынком правят простые человеческие желания: жрать, пить, курить, трахать красивых баб, ездить на классном авто… Полковник Певз небось получает тысчонки четыре, а аппетиты у него ого-го! Мужик молодой! Его можно по-человечески понять. Каждый кормится у той кормушки, куда повернут рылом, а он повернут рылом к потребительскому рынку. Так что же, ты прикажешь ему от этого рынка рыло воротить? Что он, лох или псих? Но есть на всякого едока паюсной икры и рвача бабок механика воли, механика страха, механика субверсивных сил. Есть служебная субординация. Я тут накропал кое-что на генерала Эдуарда Карноухова из ГУВД. Надо бы тебе, брат Добчинский, поприжать этого ментюру фактами, могущими просочиться в газеты, а заодно постараться упрекнуть, что у него, дескать, такие подчиненные, как Певз, не выполняют своих прямых обязанностей…
Тут в буфет вошел журналист Бобчинский и направился к столу заговорщиков.
– Сенсация! – вскричал он. – Утром начальник ГУВД Москвы Пронин подписал приказ: создать на Новом Арбате и Арбате женский батальон исключительно из москвичек. Брать будут только девиц ростом не ниже; метр семьдесят, бюст сто двадцать, со средним юридическим и высшим юридическим образованием. Всех этих ныне фланирующих ефрейторов и сержантов-взяточников уберут из центра. Должностные оклады будут в дамском батальоне повышенные. Спецпаек, форма, белье от Версаче. Да, и главное – всеми начальниками ОВД в центре Москвы будут гражданские лица с высшим юридическим образованием. Так что теперь вашему Сене Королю светит конец, дни его сочтены, придется переквалифицироваться в управдомы…
– Ты шутишь, едва не подавился бутербродом с бужениной Добчинский.
– Ну, конечно же, шучу, – плюхнулся с разгону в кресло Бобчинский и налил себе полную рюмку коньяку. – Выпьем, господа, за мелкого предпринимателя, за освоителя подземных переходов на пути в иные, в том числе и потусторонние, арбатские миры. Мне заказали нынче статейку об Арбате в газете «Слово», метнулся я в Управление архивов и памятников старины и вызнал, что этот дом, где мы с вами сидим, принадлежал конной гвардии ротмистру князю Якову Петровичу Шаховскому и выстроил он его в 1736 году, а рядом, где здание Союза журналистов Москвы, был сад и огород графа Петра Ивановича Мусина-Пушкина, имевшего усадьбу на Воздвиженке на месте кинотеатра «Художественный», рядом с церковью Бориса и Глеба. Вот жили людишки, не продавая свою бессмертную душу черт-те кому…
– Ты, сударь, пей, да дело разумей, – перебил его Добчинский. – Я тут зашился в войне с ментами. Полковник Певз хочет направить в редакцию запрос: почему я так пристально интересуюсь уличной торговлей? А ты… Мусиным-Пушкиным мне забиваешь баки. У начальника УВД Центрального округа Зуйкова был?
– Ну был, – живо ответил, проглотив вторую рюмку коньяку, Бобчинский. – Взял у него интервью о тенденции обновления кадрового состава в округе. Об осредненном моральном облике… Вскользь упомянул о нелегальных лотках вдоль президентской трассы… Он даже ухом не повел. У них вчера по округу было шесть убийств. Лотки для него – мелочевка. Он рекомендовал обратиться к начальнику ОВД «Пресненское» Кульше Анатолию Николаевичу. Вот его телефон. Говорит, очень принципиальный мужик, этот полковник Кульша. И может живо накрутить хвост начальнику восемьдесят третьего отделения милиции подполковнику Кибальниченко Ивану Дмитриевичу… А уж тот примет меры. Ну а ежели не примет, то тогда уж Зуйков просил ему лично позвонить. Сам давать указания убирать нелегальные лотки он вот так, с ходу, не имеет права, не солидно. Не имеет он морального и юридического обоснования без предварительной проверки… Есть, мол, определенная субординация «подчинения снизу»… На трезвую голову не разберешь – что это за чушь – «подчинение снизу»!..
Заговорщики долго ломали голову над тем, как расшевелить ментов, как задействовать тайные пружины и педальнуть на акселератор, чтобы стартануть в развязывании маленькой войнушки между правдоборцами и ментами-крохоборами. Правдолюбцы еще не перевелись среди ментов. Они были белыми воронами. Они стали мудрецами за годы лавирования среди ханжества и лжи. Их спутником всегда был страх услышать упрек, что слишком много берешь на себя, не получив прямых указаний свыше. И со временем правдоборцы стали такими же инертными особями, как и крохоборы-менты. Это очень просто сказать: «расшевелить правдоборцев». А этот чертов шевелизм мог стоить погон активисту. Жизнь научила – не дергайся, не спеши принимать самостоятельных решений. Самостоятельные решения вредны. Они убыточны. Они нелогичны. Они лишены здравого смысла с точки зрения субординации. И менты жили по инерции, они жили, как живет броуновское движение, как пузырящийся торфяник, где тайны исчезают навсегда. Они жили так, как было заведено еще с хрущевских, брежневских, горбачевских времен. Технология внутриментовской жизни не менялась со времени от Щелокова до Рушайло, не менялась психология мента, не менялся тип мента, смотревшего на правопорядок как на некую кормушку, где нарушитель просто необходим как прикрытие, как отруби, как комбикорм, как непременный плановый показатель и движущая сила показательности правопорядка, как материальное обоснование для бюджетных вливаний. И переведись завтра вовсе нарушитель – привычной вольготной ментовской жизни крах. Поэтому плановые показатели никогда не отражали настоящей жизни. И то, что не доплачивало ментам государство, государству же шло во вред, менты добирали недостающее вживую. Государство делало ставку не на качество, а на количество ментов. Это проистекало не столько из-за близорукости, не столько из-за недопонимания сложившейся ситуации, сколько из подспудного страха властей: а вдруг нечто эдакое произойдет? Народные волнения, несанкционированные митинги, непредвиденные катаклизмы. Порядок в городе никогда не делался руками и дубинками сотен тысяч ефрейторов и сержантиков. Порядок достигался правильными законами, а если их не было, то переговорами с криминалом, с лидерами партий, группировок, движений, бригад… И даже в девяносто третьем, при штурме Белого дома, при перевороте менты не играли серьезной роли, они не способны были противостоять разбушевавшейся толпе «переворотчиков», среди которых были люди обученные. Девяносто девять и девять десятых процента москвичей не принимали ни малейшего участия в беспорядках, они сидели дома, пили чаек и наблюдали «беспорядок» в телевизоре. Мало кто понимал, кого и зачем надо свергать, кого и куда отстранять и кого ставить на место свергнутых.
Менты не понадобились и при отстаивании телецентра в Останкино. Для подавления «переворотчиков» имелись обученные войска, Кантемировская дивизия. Менты должны были в первую очередь бороться с хулиганьем и мелкими воришками. Да, криминальная милиция тоже была нужна. У нее были серьезные задачи. Но туда не брали лопухов, бродивших стадами в мешковатой ефрейторской форме по улицам Москвы, не понимая толком, что можно, а что нельзя. И если по наивности молодой провинциал ефрейтор начинал усердствовать в наведении порядка и разгонять торговок лимонами, цветами, рыбой, семечками у метро, начальство тотчас ему делало втык: зачем вмешался без прямых указаний свыше? Порядок порядку рознь. Порядок не должен приносить убыток. Рыночный порядок – это особый порядок, его надо научиться понимать третьим умом, улавливать шестым чувством, уметь различать нюхом и знать – кто кому платит, у кого какая крыша, кто кого прикрывает… И не совать куда не следует нос малограмотного борца за правопорядок. Набившие шишки ефрейторы и сержантики понемногу умнели и осознавали всю двуликость, все многообразие ханжеского понятия «правопорядок» и уже не лезли на рожон, учились понимать искусство лавирования в подводных рифах, где кормились хищники в погонах и без погон, оставляя от щедрот объедки и мелкой рыбешке.
– Меня всегда шокировало, – говорил, налегая на закуски, Бобчинский, – что в предбаннике любого крупного и не очень крупного московского ментовского начальства, рядом со столом секретарши стоит непременно буфет, или буфетик, или горка, а на ней обязательно фужерчики, бокальчики для шампани, стопочки для коньячка, вазы для фруктов, блюда для… неважно чего. Это некий символический вещественный ряд, это как бы напоминание и предупреждение посетителю о том, что здесь важнее всего желудок, подтверждение философии, что миром и законами правят простые человеческие желания, воля низменного, характера, чувства отнюдь не возвышенного, а «буфетного» свойства. И этим служителям Фемиды неведома высокая способность создавать вселенную в своей душе и попирать зло, даже если это зло золотоносного свойства.
И представьте, в предбаннике начальника ГУВД Центрального округа Сергея Семеновича Зуйкова стоит тоже такой затрапезный, наполненный неброской посудой буфетик, и в лампочном свете неприхотливо высвечивают гранями стопари и бокалы простого стекла, в соответствии с рангом хозяина кабинета. И как только я увидел этот посудно-рюмочный ряд, я тотчас понял, что Фемида здесь находится, как и я, на роли посудомойки. А Фемида тоже хочет жрать, она баба молодая, зазнобистая, даром что иностранка… И проживает у нас в стране, скорей всего, без визы. А свою, русскую, богиню правопорядка мы так и не породили… Молимся еврейскому богу Иисусу, а законы вершит иностранная особа непонятного происхождения… Так стоит ли удивляться, что всю Москву, всю Россию заполонила торговые лотки, палатки, тонары, что у нас торгуют в каждой подворотне, на Красной площади, в подземных переходах… в приемных роддома, в библиотеках, в коридорах морга, в предбанниках, на лестницах, на чердаках, в подвалах, в троллейбусах, в метро, в самолетах, в подводных лодках… Говорят, и в «Курске» был лоток. Мы все пропитались философией, тленным духом торгашества, а я, идиот, пришел укорять Зуйкова в каких-то незаконных лотках… Да он плоть от плоти этого мира всеобщей, всепроникающей, всеразлагающей торговли. И эта бацилла страшней, чем СПИД. Может быть, он сам Гермес в погонах, Гермес, взявший себе фамилию Зуйков… И Карноухов, может быть, у него чистильщик перьев на крылышках удачи… и никакой не славянин, а хитроумный грек, кентавр Карнопулюс…
Бобчинский хряпнул еще рюмку коньяку, зажевал лимончиком, вкусно облизнулся и, со свистом собрав воздух в груди, продолжил монолог:
– Братцы, да, может, все это начальство вообще не русские, и все они греческого, или арийского, или халдейского происхождения, может, все они прислужники торговым халдейским, арийским, аравийским, азербайджанским богам? А мы, дураки, ломимся в открытые двери и воображаем, что перед нами простая советская милиция, которую можно взять на понт. Нет, хитроумных греков не возьмешь на испуг. У них сговор. Греческий сговор! Я вот только не пойму: зачем он дал мне телефон этого полковника Кульши? Неужто и он грек и прислужник Гермеса?
– А ты возьми да позвони, – сказал нетвердым голосом закосевший с горя Добчинский. – Побывай у него в предбаннике и кабинете. Опиши в статейке посудно-рюмочный ряд, ежели таковой имеется…
– Нет, мужики, а зачем нам, а вернее, вам все это надо? – неожиданно спросил, весело блестя глазами, Бобчинский. – Все мы прекрасно понимаем, что справедливости сейчас нет. Правды – нет. Законов, а вернее, их исполнения – нет. Вот ты, господин колдун, неужто ты уважаешь наши законы?
– Беспременно! – ответил бодро Фемистоклов и цыкнул зубом. – Законы у нас неплохие. Сойдут. Терпеть можно. Лучших все одно нет. Хотелось бы кое-каких других закончиков… Но что зря болтать! Будем довольствоваться и этими. Авось наступят лучшие времена. Как говорится, лови рыбешку мелкую да не жалуйся, а бог увидит твою многотерпимость – и крупную пошлет.
– Да, пошлет он тебя… Хотя, впрочем, ты же колдун. Уважаю колдунов. Эй, господа, я хочу выпить за простого русского колдуна, уважающего русскую прессу. Хочешь, я напишу о тебе статью? Статью о честном простом колдуне. Но о ментах… Мы зря теряем время. Лично я после вашей просьбы прощупать ментов заелся, да. И фраернулся. Я переоценил свои возможности. Я – пас! Поверь, старина, копать сегодня под ментов небезопасно, а ежели еще это связано с деньгами… Если ты говоришь правду и на кон с нелегальных лотков падает в месяц треть миллиона только здесь, на Арбате, то я тем более пас…
– Значит, ты выпадаешь в осадок? – сказал, раздувая ноздри и глядя в упор на Бобчинского, постепенно трезвевший Добчинский. – Слабак ты, Боб, слабак! Узнаю школу, гнилую школу «Московской правды». Все вы там слизняки заангажированные. Узнаю школу хамелеона, бывшего комсомольца-вожака, Шота Муладжанова! Узнаю гнилую школу псевдогеополитика Юрия Додолева… Недаром тебя погнали с полосы «Новый взгляд»… Тоже мне, проповедник революции в сексе. Да ты духовный импотент!
– Что? Это меня-то погнали? – взъярился Бобчинский. – Кто меня погнал?
– Да этот говнюк Сашок Алейников. Даже говнюк и апологет сексменьшинств Алейников избавился от тебя из-за твоей беспринципности. Ты антуражник, типичный совковый антуражник! Ты духовный трансвестит. А я думал, ты мужик. О, как чудовищно я в тебе ошибался, Боб! – хватанул в избытке чувств по столу кулаком Добчинский. – Ну чего ты испугался, чего? Что убьют тебя? Да не станут тебя мочить менты! Ты в их глазах журналистская мокрица. Слизняк! Улитка на склоне. На склоне дня. Они играют с тобой… Они отмахиваются от тебя, как от обнаженной улитки… Класть они хотели на таких, как ты, Шерлок Холмсов. Они умней и хитрей тебя в сто миллионов раз. И будь я писателем, я бы написал роман об этом, как его… Кульше или Ульше и о Зуйкове. Написал бы рассказ коньячного стаканчика: кто, и когда, и сколько раз пил из него, и какие при этом произносились тосты, и что говорилось вообще, и какие тут в кабинете творились заговоры, и кто с кем спал, и кто кому давал, и сколько раз, и сколько… Да мало ли еще о чем можно написать, если хорошо изучить ментов! Они в русской капиталистической литературе еще не описаны толком как подвид, как хомо сапиенс берущий, хватающий, пьющий, калечащий… убивающий… охраняющий… Да вот хоть описать трагедию уволенного со службы мента. Это почетная, емкая творческая работенка глав на шесть. А потом глав на пять – поиски ментом новой работы… Его душевные терзания. Все тотчас узнают в нем мента и отворачиваются от него с брезгливостью. И они, эти работодатели, глубоко неправы, потому что и среди ментов есть порядочные люди. Именно порядочных и увольняют в первую очередь. А потом я бы сделал его лидером крупной группировки. Он знает все приемчики ментов, все их психологические ходы, все их трюки, все их шарады…
– И все равно я не буду о них писать, – твердо сказал Бобчинский. – Даже роман, даже рассказ, даже эссе… Они меня не заряжают!
– Куда уж тебе роман!.. Куда уж тебе рассказ!.. – патетически воскликнул Добчинский. – Тебе бы заметульку. Хвалебную заметульку. Или репортажик: «Сегодня на улице Гарибальди лейтенант Отвертосов-Закидосов в перестрелке с бандитами выбил у них почву из-под ног…»
– Ну знаешь ли! – полыхнул глазами Бобчинский и трясущейся рукой зажег сигарету. – Тоже мне Хемингуэй! Знаем мы эту вашу репортерскую закваску «Московского комсомольца»… Пашка Гусев наплодил Хинштейнов, разгребателей дерьма. Вы даже не ассенизаторы. Это Маяковский был «великим» ассенизатором. Вы жалкие ковырятели миазмов! Ведь ни одной конструктивной мысли, ни одного дельного предложения, только полива: этот дурак, тот подлец, здесь сгорело, там взорвалось, а тут затопило… Вы поносники, желтушные поносники, а не репортеры!
– Мы поносники? – вскочил Добчинский и от душившей его ярости стал дергать себя за галстук. – Да я… да я…
– Господа, – встал между брызгающими слюной, и осыпающими друг друга оскорблениями журналистами Ося Финкельштейн. – Мне кажется, мы вошли в нашем чудесном полете в зону сильной встряски и громовых разрядов. – Не будем наэлектризовывать атмосферу. Прервите ваш эстетический спор. Закроем эту главу соуп-оперы. Жертв и без того достаточно. Я предлагаю спуститься к нам в подвал и ознакомиться с винными погребами конного ротмистра и конногвардейца князя Якова Петровичу Шаховского.
Журналисты разом умолкли. Сперва на их лицах отразилось недоумение, лицевые мускулы стали расслабляться, слегка притух яростный блеск глаз, и вот уже на губах мелькнула тень улыбки, в глазах загорелся вопрос: неужто и впрямь есть такие погреба? Ведь это сенсация! И чертовски любопытно: что же сохранилось в этих погребах? Что соблаговолил пить князь и конный гвардеец ротмистр Яков Петрович Шаховской?
Но прежде чем спуститься в подземелье, давайте заглянем и выясним: что же творилось в эти минуты перебранки, в душе Оси Финкельштейна и Фемистоклова, о чем они думали? Маленькая препарация их душ нисколько не повредит здоровью персонажей, списанных с натуры и занимающихся своими делами, пока мы водим их тени по страницам романа.
Слушая болтовню журналистов, Ося начинал понимать, что особого прока от репортеров в уличных борениях и отстаивании его законных прав на лоток не будет. Не так-то просто было осуществить задуманный Фемистокловым план и развязать войнушку среди ментов. Борцов за правопорядок, увы, не отыскать в коридорах милицейского начальства. Тщетными оказались и попытки сподвигнуть на чистку ментовских мозгов и душ начальника Управления собственной безопасности Василия Николаевича Ремезюка, возглавлявшего, попросту говоря, епархию по надзору за чистотой милицейских рядов. Хотя в мозгу не укладывается, как это мою «собственную» безопасность от ментов может оградить мент же. А если и он продажен? Почему надзор не осуществляет иное, скажем, гражданское ведомство? Впрочем, что толку искать логику в стране абсурда. В голове Оси все прочнее утверждалась мысль позвонить Михаилу Задорнову, приехать и все рассказать. Тревожить Жванецкого не имело смысла. Миша стал ленив, тяжел на подъем, он уж не просекал болевые точки времени и жил эксплуатацией старых образов – «начальника транспортного цеха ликеро-водочного завода»… Он спокойно жил на даче в Серебряном Бору, на своей громадной даче оплывшего розовым жирком уставшего борца. Борца с привилегиями. Денег у Миши было предостаточно. Одни выступления на Брайтон-Бич перед «русскими» евреями и одесситами принесли ему в июле хорошие бабки. Его вояжи по русским и еврейским колониям Америки даже со старой программой имели бешеный успех. И на текст уже мало обращали внимания. Жванецкий был в глазах ностальгических эмигрантов носителем бацилл смеха. Стоило ему сделать гримасу, кинуть пару одесских словечек – и бациллы смеха начинали стремительно поражать зал, эти бациллы второй свежести были смертельны и смехоносны. А Жванецкий мог бы сделать репризу из лоточной войны. Мог бы сочинить скетч! Скетч только про ментов. Азербайджанскую группировку он ни за что не стал бы вплетать в ткань юмориады. Постарев, он стал мудро-труслив, мудро-осторожен. Он мог мирно порассуждать перед телекамерой о женской привязанности, о мужской неверности. Задорнов не таков. Он тоже осторожен и предпочитает описывать русских за границей, обогатившихся придурков, но может непредсказуемо перейти из галопа в аллюр. Он бы, возможно, отбил лоток. Но захочет ли светиться? Менты могут обнародовать, что он один из учредителей «Экспериментальной студии» и борется за свой личный интерес. А в бичующем юморе личного интереса быть не должно. В этом вся загвоздка. Была еще одна тайна, тайна, о которой Ося ни за что не стал бы рассказывать даже Фемистоклову, даже Папюсову. И состояла она в том, что Ося отправил цидулю на имя президента и описал историю с лотками, историю с гексогеном, описал; свои опасения по поводу беззащитности президента на трассе и то, что вскоре на ней будет громадная стоянка машин под патронажем чеченцев. И из любой машины его могут запросто отстрелять… На нечетной стороне Нового Арбата уже начали строить эту стоянку. И убрали все лотки. Мафия хозяйничала вовсю на президентской трассе. А президент Путин и не ведал, что творится у него за спиной. Он то увлечен был войной в Чечне, то мотался по заграницам, играл в какие-то «шанхайские форумы», создавая «атмосферу борьбы со злом, наркотиками, терроризмом, нищетой…», он создавал «надстройку власти», он отшлифовывал ее до блеска, но Ося хорошо помнил из институтского курса политэкономии, что надстройка зиждется на базисе, а базис – это производство. И, может, Путин об этом забыл? И чем больше в стране не занятых делом, болтающихся людей, чем больше уличных торговцев чепухой, тем крепче криминал… Осю все на Арбате считали хитрым евреем. Он был хитер в мелочах, он подсекал мелочевку, но по крупному счету он был наивняк. В душе он остался ущербным «советским человеком». И даже был патриотом. Хотя патриотизм свой тщательно скрывал, чтобы не выглядеть дураком. Капиталист в нем барахтался, но был каким-то малокровным, аморфным. И это письмецо, написанное по совету одного очень мудрого человека, такого же наивняка, как и он сам, Ося отнес и сдал собственноручно в приемную корреспонденции в адрес президента и Федеральной службы охраны президента, что находится в Кутафьей башне. Вывески там нет никакой, но всегда днем открыта настежь дверь чуть правее от камеры хранения, где сдают вещички экскурсанты в Кремль.








