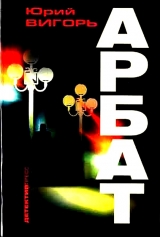
Текст книги "Арбат"
Автор книги: Юрий Вигорь
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 21 страниц)
…Это было начало тех войн за новый передел Москвы, которые в полную силу разгорелись позже, в конце 2005 года, когда в Москве был уже новый мэр и вводились новые порядки, рушились криминальные рынки, и в том числе рынок сына Юрия Лужкова; приходили в упадок построенные по затее мэра «Русские бистро», где царила дороговизна, рушился «Земельный банк» Елены Батуриной. Самый дорогой город мира уже не мог вынести на своих плечах поборы ста шести олигархов и еще платить добавки к пенсиям шести миллионам пенсионеров. Это было начало великого кризиса, обвал техногенных катастроф. Но не будем спешить окунаться в пучину тех неуютных дней. Вернемся к нашим читателям. Вот показался на углу Арбатской площади и Нового Арбата Сюсявый с сумками в руках, а рядом с ним двое грузчиков и сам хозяин лотков Афонькин. Сюсявый снова влился в книжные ряды. История о мешках с гексогеном давно утратила злободневность, а подвалы Миши и Паши стали недоступны для лоточников. Приходилось обживать новые норы.
Сюсявый нацелился было взять в аренду угол в подвале наших героев, но Костя не хотел его соседства, не хотел, чтобы каждое слово стало достоянием ушей всего Арбата и Нового Арбата, не хотел, чтобы с них снимали каждый день рентгеноскопию души для чиновников из управы «Арбат». С ним надо было держать нейтралитет, держать безопасную дистанцию, вести беседы о поставках книг, о скупке ворованных в экспедициях книг, рассуждать о сбыте товара и ценах, но не более. Любая откровенность могла стоить дорого. А он умел вызвать человека на разговор, порой начиная сам откровенничать и вроде бы искать сочувствия собеседника, доброго совета, неожиданно раскрывая свою беззащитность, свою неуверенность, свое одиночество, свой неизлечимый страх того, что удача вот-вот покинет его. И Костя никогда не знал толком, правдив он в эти минуты самообнажения или только играет с ним. У Сюсявого не было настоящих друзей, но было множество приятелей, уличной шушеры, торгашей, бандитов, постоянных клиентов. С этой публикой просто нелепо было откровенничать о чем-то, любое душеизлияние было простительно только по пьяни и его не принимали в расчет, как пустой бред. Душевная открытость считалась опасным пороком для человека дела. Ты всегда должен был выглядеть бодрячком, уверенно рассекающим волны жизни, равнины морей и пучины океанов. Отягощенный грузом душевных самокопаний, слизняк мог в любую минуту прогнуться в бизнесе, мог подвести, мог сломаться, закиснуть, запить, уколоться наркотой и подвести компаньонов, подвести коллег. Душевная открытость и чрезмерная разговорчивость считались серьезным изъяном в среде фирмачей и в обществе чиновников. Как говаривал инспектор Моисейкин, «свой душевный гной ты должен держать в себе». Душеизлияния были так же неприличны, как испортить в обществе воздух. Ты можешь быть разговорчив, тебе простят треп о других, оценят твой талант хохмача и шутника, оценят откровения о сексуальных похождениях, простят похабство, но любую достоевщину не простят. На Новом Арбате среди лоточников есть человек по кличке «Марсель Пруст». Откровенный – до чрезвычайности. Этот человек не умеет врать. Выручки у него всегда посредственные. Он милый парень, но его считают чуть-чуть двиганутым. Он человек из минувшей эпохи, эпохи гнилой интеллигенции. Он непонятен своей полигамностью души, тем, что его временами охватывает грусть. Он чувствует себя белой вороной и в эти приступы грусти попросту пьет. Пьет в то время, когда самый сезон продаж, когда торговля ладится, как никогда, и бабки текут рекой. А в лютые холода, когда покупателе надо заманивать на огонек и прямо-таки отогревать, он бодр и весел, хотя денег – шаром покати. Он непонятен, он загадочен как Путин, этот чертов Марсель Пруст. И все считают его стукачком. Но даже ФСБ таких, как он, предпочитает обходить стороной. Языкастые, рыхлые люди опасны даже как провокаторы. Зато уважают такие характеры, как Барбос, или Акула Додсон, или братья Брыкины и Подмалинкин. В этих людях нет зашоренности, в них нет тайны, они все как на ладони. Их девиз: «Не тронь, а то проглочу и выплюну вместе с пуговицами». Но Сюсявый был намного сложнее, чем все эти персонажи, все эти Барбосы, Бульдоги, Акулы Додсоны. Он был артист малой сцены, мастер мизансцен, тонко организованных эпатажей. Он владел высшим пилотажем трепа. Он был неутомимо улыбчив. Он был неиссякаемо жизнерадостен. Таким он был прежде. Но теперь в его лице улавливалась некая тень задумчивости. Странная для него погруженность в себя. В нем жили теперь как бы два Сюсявых: тот, прежний, такой простой и понятный всем лоточникам, и новый, надтреснутый Сюсявый, с тревожным блеском глаз. Легкие тени страха лежали на его лице, синели под провалом глазниц. Прежде сухие, горячие ладони стали слегка влажными. От его рукопожатий нельзя было увернуться. Приближаясь к вам, он уже нацеливал на вас свою выпростанную вперед, как короткий римский меч, кисть. А прощаясь, говорил: «Ну покедова. Держи клешню». Его рука и впрямь напоминала влажную клешню.
– Почему ты не хочешь пустить нас с Афонькиным в подвал Дома журналистов? – допытывался он с заискивающими нотками в голосе. – Плачу за комнату в десять метров двести баксов в месяц. Ну давай поторгуемся. Коллег надо выручать… Мы все братья…
Это была старая песня: «Мы все братья, мы все одна большая советская семья, мы все должны о всех все знать. А о нас вы узнаете позже…» Может быть, он говорил эти слова по инерции, они застряли у него в мозгу как некий стереотип. «Братья, братаны, брат…» Как опостылели, как опротивели эти слова. Сюсявый никогда не косил под блатняка, скорее он возжелал бы выдавать себя за мятущегося интеллигента, любителя книг и рок-музыки, коллекционера психологических американских фильмов и клевых западных компакт-дисков. Он строил свой имидж, лавируя между типом нового человека нового века, деловичка, бороздителя Интернета, накопителя информации, транснационального бизнесмена с несмываемой улыбкой и слегка архаичного простого русского парня, бывшего советского патриота и офицера, понюхавшего порох афганской войны, строевика, военной косточки. Эта составляющая его имиджа прекрасно работала при контакте с ментами и фээсбэшниками. Особенно с ментами из провинции, ненавидевшими бизнесменов в глубине души. И тогда Сюсявый поворачивался к нашим героям повествования этой патриотической стороной, «военной» гранью своего многоликого «я». И его раздражало, что он никак не мог подобрать ключ к Игорю Року, одетому в броню «писательской прозорливости» и презиравшему стукачество.
Игорь Рок и Сюсявый настороженно наблюдали друг за другом. Игорь с недоверием и любопытством, а Сюсявый с позиции коммерсанта-разведчика. Он недолюбливал писателей, а вернее сказать, побаивался их. Рядом с писателями он чувствовал себя словно под рентгеном. Иди знай, что они «просветят» в тебе. От пишущего человека можно ожидать и такой пакости, как статейка в газете или журнале. Писарчук мог запросто подвести под монастырь и выдать коммерческую тайну. Все эти строчкогоны успеха ради продадут родного брата, не остановятся ни перед чем. Они же фанаты. И мыслят иначе. То, что Игорь Рок и Збигнев торговали книгами, могло быть просто прикрытием. Или приработком… Так рассуждал Сюсявый. Он был чертовски наблюдателен и успел подметить, что продажа книг не была для друзей целью заработать побольше денег. Им нравилось ездить по книжным базам, складам, рыться в книжных остатках старья, общаться с издателями, беседовать с покупателями…
Костя и Игорь констатировали с грустью: читательские ряды мельчают. Люди все меньше покупают книг. Вялым стал даже обыватель, который раньше по пятницам жадно устремлялся к лотку, чтобы запастись чтивом для убиения времени, подспорьем скоротать время в электричке или метро. Время убийц времени тоже сжималось, они вымирали, как подвид, за неимением денег. Рынок продаж держался на «середнячке», на мещанине, на его прагматических интересах: как обустроить квартиру, как построить камин, как вылечить собаку, как стать миллионером, как стать счастливым… А нуворишу книга была нужна в редчайших случаях. Нувориши покупали справочники, путеводители по странам, атласы дорог, «Камасутру», «Большую книгу голубой любви» или просто «Другую любовь»… И еще они покупали «Пятое правило», хотя не знали четырех предыдущих.
Сюсявый тоже рыскал по городу. Он делал ставку на «деловые книги». Без них люди не могли обойтись. Все эти бухучеты и налоговые руководства гарантировали спрос. Костя и Игорь интересовали его как следопыты книжных складов, разгребатели завалов. Порой они делились информацией. Давали ему наколки. Он сам ни за что не поделился бы с ними коммерческой тайной. И его мучила загадка – зачем они дают ему шанс?
И вот однажды Сюсявый намекнул по секрету, что дни азербайджанцев на Новом Арбате сочтены.
– Неужели мэр решил навести в городе порядок? Неужели вместо московской к нам пришлют ирландскую милицию? Или в столице опять скоро ждут Ким Чен Ира? – удивился Костя Збигнев.
– Какой там Ким Чен Ир, – махнул Сюсявый рукой… И добавил загадочно: – Торговлю начинает курировать сам Аллах…
– Аллах – это серьезно! – согласился Костя, ожидая, что же он еще поведает из области фантастики.
Но Сюсявый коротко обронил:
– Есть распоряжение префекта Дегтева: цветами на улицах Центрального округа можно торговать только до первого ноября. Перерыв до весны! Садир, Нурпек и Карен могут сосредоточить все свои коммерческие потуги только на туалетах…
– Свежо предание, да верится с трудом, – покачал головой Костя.
– У меня тоже грядет большая чистка, – продолжал Сюсявый. – Срочно ищут честных и порядочных полковников и генералов… В России это дефицит.
Ни за какие блага в мире он не открыл бы тайны, что чеченцы планируют устроить на всем Новом Арбате автомобильную стоянку и дни лоточников сочтены. Он был ходячей арбатской энциклопедией, справочником «Кто есть кто?». И теперь он стал еще и проводником идей Руслана Бегтамирова и Мустангера, их ушами и глазами. Он больше не сотрудничал с ФСБ, но при встрече с майором Подосиновиковым и полковником Плюшкиным вежливо раскланивался. С Дмитрием Подхлябаевым они частенько пили пиво в баре у Ларионова и трепались о всякой ерунде. Даже Подхлябаев не знал, что Сюсявый теперь работает на Бегтамирова. Но о грядущем переустройстве Нового Арбата он знал.
22
Находясь каждодневно в кругу книжных забот, в нудной, изматывающей борьбе с чиновниками, с ментами, с азербайджанской мафией, порой не отдаешь себе отчета: в чем же состоит смысл твоей жизни, нужна ли она кому-то на этой бренной земле? Тебе ежедневно дают понять и справа, и слева, и сзади, и спереди, что ты лишний, ты мешаешь. Ты ежедневно испытываешь удары судьбы, ты получаешь десятки мелких шпыньков, болезненных уколов, ты ежишься под недовольными ухмылками чиновников, когда приходишь продлевать разрешение на торговлю, ты ощущаешь на себе хмурые взгляды фэсэошников и фээсбэшников, сотрудников ГРЭПА, ведающих подвалами. Для них ты здесь, на Арбате, обуза, ты кому-то стоишь поперек дороги и создаешь давку, а туннель на пути к счастью узок, туннель уже забит желающими достичь заветного выхода к свету, заветного местечка под солнцем. И чтобы тебя не раздавили в этом туннеле, не затоптали в давке на пути к счастью, к маленькому финансовому блаженству на час, на день, ты должен уметь делиться уже сейчас, в дороге, до выхода из туннеля. Если ты хочешь, чтобы тебя любили и встречали улыбками в полумраке этого туннеля, ты должен платить деньгами, нервами, биотоками, ты должен излучать непритворную радость при виде чиновников, ментов и сотрудников ФСБ, ибо улыбки – это тоже своего рода плата. Но можно осуществлять ее и в виде мелких подарков. Никто не откажется от бутылочки коньяка, коробки дорогих конфет, и в этом состоит маленькая, «дорожная» философия жизни всех особей, двигающихся по туннелю. А те, кому не повезло, еще толпятся у входа в этот туннель и ждут своего часа. И ты постоянно спрашиваешь себя: «А нужна ли тебе эта чиновничья любовь фээсбэшников? И как без нее обойтись?» А никак! И что уж говорить о любви, о сочувствии коллег по бизнесу! Мы все волею судьбы конкуренты и заложники Гермеса. Но тогда, может быть, стоит хоть рассчитывать на любовь или сочувствие читателей и писателей? Писателю сейчас живется очень тяжело. У пенсионеров есть хоть маленькое подспорье, а каково молодым? Каково тем, кто не умеет писать стрелялки? Житейские романы даже такого писателя, как Владимир Маканин, сейчас мало кого интересуют. Ему тоже живется нелегко. Многие писатели охраняют чужие дачи и живут на них просто за еду и сигареты. Работа идет, рукописи пишутся. Но платят нынче в редакциях копейки. За исторический роман «Охота Петра Второго» объемом 27 печатных листов, то бишь почти под семьсот машинописных страниц, Рок не получил в журнале «Московский вестник» абсолютно ничего, а в издательстве ему предложили триста экземпляров книги. Продать-то он продаст, раскупят охотники. Рок тридцать лет председатель охотколлектива в Московской писательской организации и сейчас готовит книгу «Знаменитые русские на охоте». Но надо же на что-то жить. И не от хорошей жизни он занялся уличной книжной торговлей, стоя на Арбате в летний зной и зимнюю стужу. Пишешь для души, для читателя. Это забава. Писательство сегодня не ремесло, а утеха, и плевать ему на главных редакторов. Рок не пишет на заказ. Помнится, в советские времена они заставляли его «разжижать» краски, сглаживать резкие углы, непременно вводить в произведение «дежурные образы».
Сегодня Рок помогает многим писателям, чем может. Кому-то одолжит деньжат, кому подсобит распродать с лотков домашнюю библиотеку. Нищих и полунищих писателей в Москве сотни. Но они разобщены. Они никуда не пойдут жаловаться на нелегкую судьбу, им мешает гордыня. Можно бы неплохо заработать в газете. Еженедельник «Деловой вторник» платит по семьсот рублей за машинописную страницу. Но писатели не любят газет. Они не знают сегодняшней жизни. Они мыслят образами. «Искусство – это беспорядок», – говорил Гриболюбов. Писатели ничего не смыслят в тонкостях повседневной жизни, они, как правило, непрактичны, их легко обмануть (в этом убедились книжники, скупая за бесценок писательские библиотеки). Но как психологи, как хомо сапиенсы, проникающие в подкожный слой, в ткань бытия, они способны на потрясающие откровения о человеке, копируя, репродуцируя знания с самих себя. Они не разбираются в живых людях, в мошенниках, в авантюристах и постоянно оказываются жертвами их коварства и обмана, потому что живут в мире вымышленном. Они приписывают другим то, чего в тех абсолютно нет, они видят в жулике гордого флибустьера, а в проститутке – Нана, поэтизированную Золя Нана, которая не может обмануть. Вот писательская логика. Их может взволновать яркий тип воришки или угонщика автомашин, если у этого субъекта характерное лицо, вдохновенный взгляд. Все остальное они ему дорисуют. И не заметят, как тот же воришка вытащит у них из кармана кошелек. Знание о человеке писатели черпают не из наблюдения за повадками, жестами, гримасами человека толпы, а из трансформации в воображении самой идеи человека на манер того, как эта идея отражена в их собственной душе. Знание черпают в себе. Как говорил Гриболюбов: «Каждое впечатление от мира, извне, обретает в писателе ту ценность, которую он воспроизводит через свое сознание и выдает на-гора». Писатель не копирует мир. Только мелкий ум отражает действительность. Ум творческий перекраивает ее на свой лад, сшивает, снова режет и снова перекраивает, добавляет куски мяса, отрезая их от самого себя. Из ничтожной вещи он может сделать нечто великое. Но жизнь должна зарядить писателя, она должна породить биологический толчок. Сам писатель в тиши кабинета такого толчка может и не получить. Поэтому одиночество – смерть для писателя. Но у писателей мало друзей. Они скупы на общение. Писательская дружба – чрезвычайная редкость. Писательская искренность в разговоре – это миф. Писатель словно боится себя расплескать, опрокинуть священный сосуд, выговорить вхолостую идею будущего романа. Но каждому нужно стряхнуть с себя напряжение после рабочего дня и перестроить работу мозга. Вечером писателя одолевает искушение выпить, посидеть в кафе, поболтать о пустяках с приятелями. Но в нынешних городских кафе царит дороговизна, они не для писателей. После того как Центральный дом литераторов приватизировал Владимир Носков, а братья Каро с Алешечкиным захватили писательский ресторан, писатели все чаще стали ходить в буфет Центрального дома журналистов. Цены здесь тоже диковатые, рюмка водки, пятьдесят граммов, стоит сорок пять рублей, чашка кофе – тридцать шесть рублей. В зале пустовато. Журналистам эти цены тоже не по карману, и они давно ропщут, что ЦДЖ – не их дом, а «Дом лжи», «Дом презентаций», где Золотов выкачивает деньги, и неизвестно, куда они идут, а журналистам нужен клуб. Сегодня ЦДЖ – проходной двор, туда может зайти кто угодно: ресторану нужны посетители. Если будешь ждать журналистов – прогоришь, обед стоит пятьдесят рублей на персону, а в подвальчике кормят такой бурдой за полсотни тарелка, что устанешь плеваться. Но в буфете на первом этаже закрывают глаза, когда ты приносишь с собой бутылку водки и бутерброды с колбасой. Нужно лишь для приличия купить бутылочку «Пепси» за двадцатку и пару чашек кофе.
Именитые писатели заходят сюда редко, ну забредет иной раз Владимир Орлов, выпьет кофейку, заглянет Куковеров с бутылкой водки в обществе двух поэтесс, вечером забежит журналист Юрий Щекочихин, который называет себя писателем. Горячих литературных диспутов здесь не бывает, никто не спорит о новых течениях в литературе, потому что их попросту нет. Нет школ, есть станы, есть левые, есть правые, есть пассивные славянофилы, есть пассивные западники, вся литературная жизнь размежевывается лишь по политическим окраскам, о мастерстве речь почти не идет. Мы не породили сегодня ни одного нового течения – ни символизма, ни футуризма, ни имажинизма, ни акмеизма, ни школы обэриутов; нет борьбы вкусов, борьбы модернистов, авангардистов с деревенщиками, литературная жизнь моногамна, она, как ничто другое, отражает эпоху одним словом – застой. Застой в науке, застой в умах, застой в душах, застой в потных, алчных душонках. И кругом треп, треп, полупьяный, лживый, выспренний треп пассивных трусливых славянофилов, разоблачителей врагов России, неудачливых, необустроенных, злых, потому что им не удалось урвать в начале девяностых от жирного, разодранного на части коммуняками пирога, а нынче поезд ушел, все, что можно было, приватизировали, процесс откачки в свой карман идет, посткоммуняки, захватившие Московскую писательскую организацию, процветают, а борцам за великую идею только и осталось, что пить из-под полы в буфете ЦДЖ.
Игорь Рок и Костя Збигнев захаживали в этот буфет по вечерам как на спектакль.
– Грядет бездуховность! – говорил уже слегка подвыпивший деревенщик-широкоформатник Куковеров. – Книжная торговля глохнет, отказываются, черти, брать Василия Белова, Абрамова и даже Варлама Шаламова… О чем писать, други? Я прочно сел на мель и активно обрастаю ракушками. Обошел нынче три журнала с моей новой повестью «Записки московской проститутки». Не берут. Говорят – на проституток перебор. Да и старо, неинтересно уже. Напишите нам, говорят, о трансвеститах. Или о террористах. Можно о трансвеститах-террористах. Или дайте что-нибудь эдакое… чтобы вздрогнула вся Москва. Но не вздумайте, говорят, приносить детективы об убийстве «новых русских», о рэкетирах, о Москве бандитской… И поработайте, говорят, над языком, он у вас слишком простой и внятный, а вы подкиньте побольше неологизмов, побольше замысловатых иностранных словечек, можно парочку архаизмиков: вы пишете «друг», а надо бы «сатрап»… вы пишете «померещилось», а надо бы – «помстилось»… Побольше невнятности, недосказанности, пусть читатель сам допишет строку, сам додумает вашу мысль, сам досочинит абзац, сам поставит точку или запятую… Да вы, говорят, почитайте Бориса Виана, он славно писал такие крученые вещички.
– Тогда надо вообще не писать окончания слов, – засмеялась поэтесса Заиграйкина, не переставая жевать дешевую ливерную колбасу, купленную Куковеровым во Владимире на распродаже конфиската. – Надо писать, как в школьных учебниках по русскому языку, – делать пропуски слов, многоточия вместо суффиксов, пусть читатель сам решает, сколько ему слов, сколько букв нравится в предложении, сколько «н» оставить в словах «оловянный», «деревянный», «стеклянный»… Пора пересматривать концептуально русский язык. А если писать слова наоборот, задом наперед, так вообще можно насмешить читателя… И может быть, в этом состоит новаторство? А что? Стране нужны новые Хлебниковы и Крученые. Ей снова нужен заумный язык!
Прозаик из Зеленограда Иван Бульба хмуро слушал эти речи, сосредоточенно слюнявил неровно подгоревшую сигарету «Прима» и временами что-то украдкой чиркал в своем блокнотике.
– Надо писать о зле, – философски изрек он и дернул бровью. – Это вечная тема, старик. Добро размягчает мозг и нагоняет скучищу. Но не уподобляйся братьям Вайнерам, упаси бог трогать московскую милицию и ФСБ. Ты внесешь в повествование отрицательную энергию и биополе ментов, оно убьет микроструктуру, психологическую микроструктуру, ауру здорового русского авантюризма первопроходцев. Будущее за авантюрным психологическим романом, нужно свободнее обращаться с героями, нужны гетеробисексуалы, делай из них девственников, они все психи. Они все дети бывших партработников, ставших нуворишами. Это их дети стали транссексуалами. Для разнообразия устрой им маленькую казнь во снах. Я все думаю: почему в нашей русской прозе действие происходит наяву? Это неверно. Наш быт – это жизнь во сне. И в этом сне надо снова заснуть и снова видеть сны, а в тех снах видеть в свою очередь сны й так далее… Это чудесный литературный ход, старик. Это находка! Напиши роман о снах. Сны наяву и явь во снах.
Помучь читателя, подергай его из снов в явь и обратно, пусть помечется, пусть сбросит жирок. Такие романы, старик, будут расхватывать те, кто захочет похудеть. Сюжет сейчас никому не нужен. Неважно, что произойдет. Все равно нам всем абзац. Не сегодня, так завтра в Россию введут американские войска. А через Узбекистан хлынут талибы. Так важна ли концовка романа? Конечно же, нет. Важна ткань! До концовки романа читатель может просто не дожить… Так дай ему удовольствие за его деньги. Я тут на днях в своей повестушке «ЫНС» изрядно поиздевался над директором Елисеевского гастронома: три ночи подряд вызываю его на «чистки» на бюро горкома партии. Он, сука, встает, жрет таблетки тенозипама или как там его… Ложится опять, а я вкатываю ему во сне партийный выговорешник с предупреждением, грожу исключить из рядов КПСС… И он реагирует! Сознание-то бездонно, в нем нет времен, но есть расклады твоей души. И то, что ты способен совершить во сне, ты способен совершить наяву. И вот так я его казню, гада, уже почти неделю. Нет, братан, шалишь, во сне ты мой, мой, кукленыш! И я приглашаю тебя в прошлое, на казнь…
– Да, это несколько необычно, – заметила вторая поэтесса, чрезвычайно худосочная девица с лицом бледным, как памперс. Ее звали Лариса. Лариса Поднебесная. Это был, конечно же, псевдоним. Настоящая фамилия ее была Калошина. Марья Калошина. И лично я скорее купил бы книгу стихов Калошиной, чем Поднебесной…
– А как насчет детективов из ЦРУ и ФБР? О них сейчас модно писать или нет, они стали архаизмами в русской литературе? – спросила беспощадно грациозная поэтесса Новостройкина, переключившаяся от безденежья на прозу.
– Я бы побрезговал о них писать. – Иван Бульба сплюнул на кончик сигареты и затушил ее о каблук. Он помолчал с многозначительным видом, посмотрел на соседний стол, где пил чай с пирожными журналист Александр Минкин, глянул на публику в буфете сквозь донышко пустого стакана и изрек менторским тоном: – Эти структуры не постигли разрушительной силы соцглупости, не поняли, что самое страшное у нас в России – это выращенный партией за десятилетия психологический типус, занявший сегодня все ключевые посты. И неважно, что ты перестал себя величать коммунистом, а стал величать демократикусом. Эта особь не способна созидать! Да-с! А способна лишь грабить, приватизировать чужое и дебатировать. И еще делить. Все делить по братанам, как «человек с ружьем». Ну вот, к примеру, наш всенародный умиротворитель – Председатель Госдумы Геннадий Селезнев. Приватизировал он газету «Правда». Развалил ее и распродал. Стало две «Правды»… Теперь создал он движение «Россия», наобещал трудовому люду черт-те чего. А где оно, это движение? Вы его видели? И где она, эта газета «Россия без точки»? В реалиях ни он, ни Зюганов ничего не могут. Даже газету паршивенькую раскрутить, а рвутся править страной, рвутся забрать в свои руки Подмосковье… Вот таких людей и клонируют в России ЦРУ и ФБР. Клонируют «строителей» вертикалей и горизонталей… Но иностранная разведка не улавливает отрицательной энергии сублимации наших социальных групп, то бишь широких масс населения, именно поэтому капиталисты и не могут предвидеть, что произойдет у нас завтра в России, – глубокомысленно рассуждал Иван Бульба. – Лев Шестов писал: «Зло необходимо людям так же, как и добро, даже больше, чем добро, ибо является непременным компонентом человеческого развития и существования…»
– Я вас умоляю, не говорите о политиках, я только что ела ливерную колбасу! – умоляюще воскликнула поэтесса Заиграйкина. – Оставьте этих трупоносников. Дайте спокойно вымереть Селезневу и Зюгу. Они же типичные представители эпохи. А есть вовсе не типичные балбесы, такие, как Явлинский. Говорят, о нем написали роман…
– Да я не о личностях… Личности – это пример. Я о зле! – тоскливо вскричал Иван Бульба. – Без зла прожить попросту невозможно. Оно тонизирует, не дает расслабляться. Путь России должен быть тернист и многострадален. За последние тридцать лет нам в России просто не хватало зла. Была лишь трясина бездуховности и тихого рабства. Зажрались, расслабились, утратили защитные рефлексы… А надо бы для тонуса двадцать, тридцать суровых сверхснежных зим, ураганчиков, самумчиков, а весной наводненьиц, потом летом парочку засух и опять штук семь ураганчиков. А опосля вирус «С»… И народ сплотился бы, подобрал животики, подобрел, понял, что «я» – это почти ничего, а сообща можно и с ураганами и с засухами сладить. Война России нужна, война…
– Да вы совсем чокнутый товарищ с вашей гнилой философией, – неприязненно посмотрела на Бульбу поэтесса Новостройкина.
– А настоящий писатель и должен быть со сдвигом в полушариях, – засмеялся, нисколько не обидевшись, Бульба. – Иначе его будет неинтересно читать. Сейчас только чокнутых и печатают нарасхват. И покупают.
– Да-да, он в чем-то прав, – задумчиво проговорил своим приятным грудным баском Куковеров. – В этой философии зла есть какое-то рациональное зерно. В годы разрухи мы ни за что бы не выбрали президентом этого сволочного Ельцина, его сразу раскусили бы. А вот сытая страна выбрала второй раз… Сытый СССР докатился до кризиса в литературе, не говоря уже о кризисе в сатире… То, что мы сейчас считаем злом, это лишь полумера… Попробуйте высмеять нашу жизнь. Не получается: все уже к ней привыкли, приелись к этому бардаку, никого ничем не удивишь. Обществу нужен стресс! Массам нужен электрошок. Мозг нации зарос жиром. Мы дошли до такого абсурда, когда смех уже неприличен, он даже нелогичен в среде приватизаторов и банкиров.
– Да что говорить, – устало вскинул веки Бульба. – В романе «Мастер и Маргарита» движущая сила сюжета – зло! Опять же зло! Коровьев, Азазело, Воланд, Гелла, Бегемот… Это облики черта, сатаны. Уберите их из романа – и останется одна преснятина, жалкая бытовуха. Только зло и может бороться со злом, зло уничтожает зло, зло порождает зло, а потом нейтрализует. Нейтрализованное зло порождает добро. Вернее, оно открывает ему дорогу в нас самих, оно дает ему выход на поверхность…
– А я-то, дурак, задумал роман о земле, о путинской долгожданной реформе «Нечерноземье»… – проговорил надтреснутым голосом Куковеров, и в его тоне, в повороте головы, в нетвердом, нездоровом блеске глаз чувствовалась смертельная усталость и тоска вконец запутавшегося человека. – Неужто бросать писать вовсе? У меня не получится о зле. Я знаю. Не умею я, брат, сибаритничать да скабрезничать… Неужто бросать писать вовсе?
– Бросай, – одобрительно икнул Бульба. – Если можешь – не пиши. Мысль изреченная – есть ложь. В конце концов писательство – не профессия, а болезнь. Все мы – наркоманы своего рода. И сейчас, когда Литфонд Московской писательской организации не платит нам по больничным листам, многие излечатся от литературных потуг. Сейчас в наших рядах появится очень много выздоравливающих… И опять же благодаря злу. Мне, старичок, никогда не были симпатичны благополучные писатели из начальства, все эти секретари парткома, вторые, третьи секретари союза, главные редакторы, завотделы прозы, рецензенты… А была, старикан, и такая мура, как рецензентская литература… Ты мне рецензию, а я тебе. Хороший писатель непременно должен побольше страдать и постоянно недоедать. Но его должны любить женщины. Ведь верно? – устремил взгляд на поэтессу Заиграйкину Бульба.
– Мы никому ничего не должны, – задорно засмеялась Заиграйкина и закинула ногу на ногу, как бы закрывая врата в священный храм и пресекая самомалейшие притязания на плотскую любовь.
– Писатель может не жрать, но он должен быть влюблен. Он должен быть счастлив только счастьем своих героев. Только там, в романе, его истинный путь к счастью, к наслаждению, к поездкам на Багамские острова, в Гонолулу, на Канары.
– О чем ты говоришь, Иван? – томно вскинула глаза Новостройкина. – Как же я буду отдаваться такому нищему писателю, как я смогу его любить? Кому нужны эти голодные, обношенные писаки, кладези пустой, не золотоносной мудрости? Да у него с голодухи и не встанет…
– А ты пожалей его, и тогда встанет, – сумрачно улыбнулся Бульба.
– Да что мне, богодельню, что ли, открывать? Я не мать Тереза…
– А ты и не спи с писателями, – захохотала Марья Калошина. – Что, других мужиков мало?
– Пусть злее пишут, черти, – мутно усмехнулся Иван Бульба. – И удача повернется к ним лицом. Сытый поэт – это уже не пророк. Поэтов сейчас нет. И нет пророков в своем отечестве. Назовите мне хоть одного кумира толпы! А в начале двадцатого века их было десятки. На вечер в Политехническом музее было не попасть, когда там выступали Маяковский, Блок, Андрей Белый… А сейчас как-то не приняты поэтические вечера. Не приняты литературные вечера, встречи с писателями. Все залы приватизированы. Поэты оторваны от народа, народ от поэтов, а ведь культурную жизнь надо кому-то обустраивать, надо ее созидать, выращивать, как цветы на клумбах… Поди попробуй выбить хоть подвальчик для поэтического вечера у правительства Москвы. Черта с два! Плевал Юрий Михайлович на всех поэтов. Надо выиграть конкурс по аренде, подать за месяц заявку.








