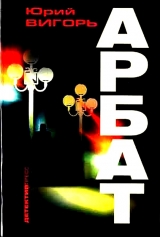
Текст книги "Арбат"
Автор книги: Юрий Вигорь
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 21 страниц)
Но не будем забегать вперед, не будем ворошить время, пелену времен, шорох опавших дней…
Дискуссия была недолгой, решающее слово сказал Абрамович:
– Нелепо отдавать просто так «Дом Ростовых» писателям. Усадьба, по самым скромным подсчетам, тянет на двенадцать миллионов долларов… В кризисной ситуации ее можно продать любому государству под посольство.
– Но зачем? – удивился Путин.
– Вы хотите, Владимир Владимирович, повторить ошибку Лужкова, сделанную в погоне за популизмом? Вы знаете, что Москва недобирает сейчас городской бюджет и половину… Что бюджет столицы трещит по швам потому, что разворован и загублен механизм выкачивания арендной платы: две трети города в свое время было продано за копейки или отдано в хозпользование своим людишкам на сорок девять лет… Отдано на полвека в льготную аренду. В июле Юрий Михайлович поднял вдвое арендную плату на недвижимость в Москве. Но что толку? Арендаторов мало. Мало объектов. Большая часть города уплыла в частные руки По блату, по конъюнктурным соображениям. «Дом Ростовых» уплыл бы тоже. Но он, к счастью, федеральная собственность. И пусть останется ей. Рассматривайте его как угодно – как пластырь на случай, если «Титаник» Касьянова наскочит на финансовые рифы или столкнется с американским айсбергом… Разве американцы ожидали катастрофы одиннадцатого сентября? Ожидали крушения доллара? Пусть дом висит пока на фирме «Эфес»…
– Абраша провидец, – молвил, зевнув, Борис Николаевич. – Он спас меня. Спасет в случае беды и тебя, Володя. А на фига нам эти писуны, эти мелкие пакостники и пачкуны бумаги? Хоть бы один среди них объявился Лев Толстой… Сто лет уже Русь не рождает таких писателей… Отощала земля, отощали мужичьи яйца… Не тот генотип… Совок! Хорошо хоть водятся у нас Абрамовичи… И хорошо, что бывшие советские Абрамовичи не пишут.
– Пишут, пишут! – заметил с едкой ухмылочкой вездесущий Волошин. – Недавно вылупился тут один с романчиком о Мишке Касьянове… Изобразил его человеком с тройным дном. Заодно прописал и Геращенко как тайного агента Америки. Дескать, была прекрасная возможность уронить доллар после катастрофы с небоскребами в Нью-Йорке, ан не использовали, не подсуетились, побоялись обидеть дядюшку Сэма и бросить тень легкого подозрения – уж не русских ли все это затея, хотя русским до таких масштабов, до такой организации дела далеко: дисциплина и выучка не та… И фантазии маловато.
…Путин, подумав, отступил. Он понял, что погорячился и слишком много на себя взял. Татьяна Дьяченко тоже сказала свое веское слово:
– Володя, тебе нельзя расходиться во мнениях с нами, особенно в таких мелочах…
Так старый президент поставил на место молодого президента. Подобное случается не только в романах. Такова русская жизнь. И надо уметь отступать, надо уметь лавировать… Искусство лавировать в России – наиважнейшее искусство из всех искусств, как говаривал дедушка Ленин. А он знал толк в таких вещах и многому научился у масонов. Масонскую школу выучки прошли все отцы большевизма и построения коммунизма. Ресторан в Дубовом зале и маленький уютный конференц-зальчик над ним на втором этаже так любил Владимир Ильич для проведения закрытых совещаний. Потому и подарил стоящий рядом на Поварской дом «Совписа» большевику Красину… Присутственное место государевой масонской ложи, где на лестнице Александр Первый сломал нечаянно ногу, очень любил президент Горби. Эти стены так грели его. Грели они и председателя Моссолита Берлиоза, председателя Ложи писателей, мастера стула. И голова Берлиоза неспроста ожила в романе Булгакова на балу у сатаны, символизируя смерть старого, ложного «мастера», место которого занимает подлинный «мастер», извлеченный из больницы Кащенко, владеющий тайнами истории Иешуа и Пилата… Да, дух Михаила Афанасьевича Булгакова тоже обитал в этих стенах и с нескрываемым любопытством наблюдал за всем, что происходило в наши дни. Сюжет был прописан давно. Берлиоз, переступивший грань, нарушивший заповеди масонства, был наказан, как наказаны нынешние перессорившиеся из-за имущества, из-за линялых венков славы писатели, ибо они предали главную цель масонства – достижение нравственного христианского идеала… Но не будем отрываться от ткани повествования, не будем оставлять в эту трудную минуту унижения и натаски, а вернее, постановки на свое место молодого президента.
«Господи, – думал Путин, – обрету ли я когда-нибудь свободу действий или нет? Благоволят ли ко мне звезды? Сумею ли вырваться из опеки «семьи», из липкой паутины семейных уз? Позволят ли мне небеса избавиться от Абрамовича? Разве могу я вышвырнуть его из игры? Ведь он, а вернее, они могут мне сделать подсечку в любой день, помешать в формировании госбюджета, повернуть вспять финансовые потоки, вызвать брожение умов в кругах олигархов, Абрамович может взбунтовать малые народы Севера, якутов, чукчей, ненцев, парализовать нефтяные скважины Севера, может лишить страну алмазных запасов Якутии. Ой может восстановить против меня кремлевскую администрацию, всю эту камарилью… Его побаивается сам Волошин…
…Уже давно ушла из комнаты Татьяна Дьяченко, ушел Волошин, ушел Борис Николаевич, упорхнул Абрамович по спешным делам, а Путин все сидел в кресле, обхватив голову обеими руками и думал о том, что завтра скажет Купцову. Он вспомнил слова, оброненные на прощание дерзким поэтом, ниспровергателем авторитетов: «Если нищие писатели взбунтуются и перекроют Новый Арбат, я не смогу их остановить! Вы переполнили меру нашего терпения, запретив от лица ФСБ продавать книги меченосцев».
…Но кто издал запрет? Запрещенных книг в России не должно быть! Опять кто-то в ФСБ переусердствовал. Надо позвонить Патрушеву, разобраться, зачем обозлили писателей. А может, это сделано преднамеренно? Чтоб восстановить их против меня? Купцов прав. Писатели – непредсказуемый люд. Особенно нищие писатели. С сытыми, «ручными» писателями Брежневу было легче. Но кто мог предвидеть Великий литературный крестовый поход? Кто отслеживал настроения в писательской среде? А вдруг и в самом деле восстанут писатели? Загомонят на площадях, перекроют Новый Арбат… Как их усмирять? Танками? Милицией? Разгонять брандспойтами? Глупо. Не оберешься позора. Поднимет шумиху вся мировая пресса. Надо же – в России восстали писатели… Забрали их дом. Забрали поликлинику Литфонда, забрали дачи, Центральный дом литераторов… Но кто мог позволить его приватизировать? Неужто и тут рука Татьяны Дьяченко? Или просто наше русское головотяпство… Мудакизм чиновников, готовых все продать, все оформить в собственность за взятки. Нет, писателей нельзя душить танками. Интеллектуалов надо душить в объятиях. За писателями может пойти вся Москва. Писателей москвичи любят. Они сумеют разбередить народ. А мы игнорировали их три стачки весной у Белого дома. Никто даже не соблаговолил выйти и поговорить. Но что делать с «Домом Ростовых»? Как выгнать азербайджанцев? Надо срочно просчитать ситуацию еще раз…
17
Слух о том, что писатели торгуют запрещенными книгами на Новом Арбате, всколыхнул всю Москву. На лотки Потянулись падкие на солененькое, перчененькое, остренькое, хмельное и задиристое чтиво. В обмякших читательских массах, расслабивших мозги на телесериалах «мыльных опер» и опусах агитки Березовского «Однако», запузыриась, забулькала, как в заряженном аккумуляторе, жизнь, затеплилась извечная любовь советского человека к книге, к запрещенной книге. Интересен был сам факт – что можно сегодня запретить? Нерекомендуемый властями «Майн Кампф» никого не интересовал, перестройка и переплавка русской жизни нанесла России такой сокрушительный удар, о котором не смел и мечтать чокнутый фюрер. Власти уже третий год подряд не решались проводить перепись населения в стране, демос катастрофически таял.
…Уличные дискуссии не приняты в Москве. Москвичи – народ холодный, сдержанный, не привыкший обнаруживать свои эмоции и пристрастия на людях. Погруженные в мелочные заботы – как бы свести концы с концами, прокормиться и одеться, – они вяло идут на «духовный» контакт с незнакомцем в силу патологического, гипертрофированного индивидуализма. Москва – это город одиноких больных душ, утративших межмолекулярные связи, аморфная масса, не способная мобилизоваться усилиями воли в кристаллическую решетку, без которой слово «народ» теряет всякий смысл. Эти одинокие задроченные души вяло реагируют на юмор. Москвича трудно расшевелить и вызвать на откровения, в отличие от киевлянина или одессита, который готов забыть обо всех своих делах и часами рассуждать на Соборной площади, какой замечательный мужик был граф де Рибас и как не повезло Украине с Кучмой. Москвичи равнодушны к большой политике, к официозной жизни Кремля. Но всех волнуют закулисные тайны, кремлевские жены, сталинские жены, жены Жванецкого или Лужкова. Москвич – это типичный мещанин. Он живет не сегодняшним, не завтрашним, а вчерашним днем. Он долго пережевывает прошлое, как жвачку. Но иногда у него, как у человека, приговоренного к публичной казни на гильотине, пробуждается странное желание заглянуть в будущее, не очень далеко, хотя бы в завтра или послезавтра. Чаще всего это случается осенью, когда жухнут листья и воздух особенно активно ионизируется перед наступлением холодов.
…Писатели у книжных лотков выполняли роль катализаторов духовного брожения толпы, неосознанных, закисших коллективных желаний слабобулькающего сусла, из которого методом возгонки надо было выгнать спирт, способный к горению. Они были инспираторами бесед на животрепещущие темы. Но споры возникали хаотично. Даже искрометный Уткинсон не мог вот так, с ходу, спровоцировать демос на жаркие дискуссии. Демос от дискуссий отвык с семнадцатого года. Костерок прений горел, но горел вяловато, с дымком, как иструхший, отсыревший валежник.
– О чем будет ваш следующий роман? – спрашивали его.
Он дерзко отвечал:
– О большой ненависти и большой любви!
Он пытался объяснить, что дело не в фабуле, не в образе главного героя и даже не в построении хитро закрученного сюжета, не в развороте умопомрачительных коллизий, а в биополе, в энергетике романа и его героях, в микроструктуре и разлитой между строк энергетике пульсации жизни, запахе хромосом, в резекции больных тканей общества, в кромсании скальпелем героя-реципиента, которому пересаживается авторская мысль. Он хотел бы им объяснить, что пишет романы не столько для читателя, сколько для самого себя, что это наслаждение – уничтожать, испещрять чистую бумагу, что он чем-то похож на наркомана… Что пишется не потому, что надо заработать денег, а потому, что нельзя не писать, иначе чокнешься в этом безумном мире. Что писательство – это беременность. И если не разродишься, плод задушит тебя. Или надо начисто убить в себе волю и мысль, превратиться в человека-растение, в решателя бесконечных кроссвордов в метро, в слепца, мыслящего на уровне улитки. Но разве мог он себе позволить быть до конца откровенным с толпой? Разве хоть один писатель пустит читателя к себе на кухню? Разве мог он позволить роскошь признаться хоть кому-то, что в душе презирает москвичей, всех этих патологически углубленных в себя решателей бесконечных кроссвордов, криптограмм, ребусов и шарад, отгадывателей чепухи, слепцов, ведомых на заклание баранов, тестоголовых мечтателей о сытой и красивой жизни в отданной на откуп ворью стране. Они – не более как кролики в вольере.
Они – резвящиеся до прихода повара кролики, не замечающие блеска и уколов, мелких, ласковых уколов тела сеткой…
Но к черту! Спор с толпой никогда не должен быть с оттенком нравоучительства, оратор должен пьянить, в нем должны быть задор и дерзкая мысль заводилы.
Спор обретал нужную динамику и накал, когда в разговор вмешивался критик Гриболюбов и выплескивал накопившуюся в нем желчь. Этот волчара не боялся оскорбить толпу и говорил о ней все, что думал, называя московский народ планктоном, питательной средой. Слушатели посмеивались, им нравился дерзкий шут. Шутов всегда любили на Руси. Откровенность шутов не ранила самолюбия. Все искусство эвристики шута состояло в том, как не переступить невидимую зыбкую грань. Ту грань, за которой ум и тело не отличают яростный холод от бешеного жара. Гриболюбов вызывал симпатию еще и тем, что был нищенски для писателя одет, на нем всегда был допотопный двубортный костюм сталинских времен и габардиновый макинтош. В таких макинтошах ходили в начале шестидесятых крутые ответственные партийные работники. В таких знатных макинтошах принимали первомайские парады и толкали выспренние речухи, от которых вздрагивала и победно дребезжала прямоугольная улитка громкоговорителя на столбе. Этот макинтош, доставшийся по наследству Гриболюбову, хранил в себе запах былых времен, он был как бы микроэлементом русской советской истории. Развевая фалды партийного макинтоша, Гриболюбов бросал в толпу, как кость, дерзкую, остро отточенную фигуру речи, она тут же дробилась в десятках жадных до самоказни, до самобичевания голов, зажигая в глазах блеск. Живительный, лечебный, оздоравливающий блеск мысли. Люди начинали спорить с улыбкой на устах. Именно эта улыбка, или тень улыбки, или отблеск улыбки радовали Гриболюбова больше всего. Значит, нация еще не мертва, значит, больной из лежачего мог завтра стать ходячим, бегающим, прыгающим, мечущим ядра, хватающим, вздевающим руки, развевающим полотнища знамен..-Но без серпа и молота, без сдвоенного профиля мертвенноликих, медальнопустоглазых вождей-призраков… Значит, этот народ мог идти на баррикады в защиту прогресса и технической революции и не верить в байки о спасении России западными кредитами, криптограммами Германа Грефа, лжеоткровениями телепередачи «Однако», сказкам Кремля, байкам «семьи», сладкоречивому вылинявшему кагэбисту Киселеву, медоточивой Светлане Сорокиной с патриотически поставленным блеском в глазах…
Грибоедов по-пролетарски стрелял в толпе папиросочку, смачно раскуривал, морщил в задумчивости лоб и выбрасывал в публику очередную шутиху:
– Не говорю о присутствующих, но хотелось заметить, господа мыслители, что москвичи как подвид поглупели за последние десять лет и стали меньше читать книг. То есть не то чтобы все поголовно поглупели, оглупизм – процесс выборочный, ступенчатый, незаметный. Да, людишки больше не ищут ответа на извечные вопросы бытия, их не мучает духовная изжога принца Гамлета. Они не задаются вопросом: «Быть катаклизму или не быть?» Вот ведь в чем вопрос. Они даже не спрашивают себя, как мятущийся старикан Чернышевский: «Что делать?» Не вопрошают истерично, как писатель Генрих Сенкевич: «Камо грядеши?» – «Куда идем?» За них все решила реклама. Проповедник Якубович, продавшийся евреям, им четко разъяснил – их спасут супы «Галина Бланка»…
Толпа начинала бурлить. Все соглашались, что московский народец и впрямь изрядно поглупел, однако светлые умы еще есть… Вопрос в том, на что они направлены. На очередные восхитительные по полету фантазии аферы… Народец сетовал на то, что нынче, дескать, нет вождей. Прямо-таки катастрофическая нехватка вождей и вождиц. Даже любимый путешественник и страновед, народный созерцатель заграницы, матрос камышового плота «Кон-Тики» Юрий Сенкевич стал в это пакостное время президентом Медстройинвестбанка и членом Совета директоров Всероссийского центра молекулярной диагностики и лечения, кинув родную страну на десять миллиардов бюджетных денег, предназначенных для строительства больницы в Солнцеве. Генпрокуратура всего-навсего обвинила его в мошенничестве. Но он, разумеется, остался на свободе под залог… и по-прежнему рассказывает нам байки в телепрограмме «Клуб кинопутешественников»… А мы ему так верили! Как убаюкивающе убедительно звучал его мужественный баритон… В толпе раздавались выкрики, что сегодня вообще некому верить. Зюганов – самовлюбленный болтун-коммуняка, Жирик – продался бандитам, еврей Явлинский – еврею Гусинскому, Путин – заложник «семьи», бродит со свечкой в потемках и ищет вместо посоха вертикаль, чтобы было чем в трудную минуту подпереться…
– Вождей, какие были в старину, нынче нет, милок! – сказала благообразная старушка. – Все насквозь проворовались… Изверились мы, пенсионеры. Лужкову одно время верили, а он в одночасье отдал Москву на откуп бандитам, улицами торгует… Тоже, прости господи, опрокидень… Это ж где такое видывали на Руси, чтоб торговали площадями средь бела дня, как картошкой…
– А вас, писателей, тоже ведь не подпускают к власти, – выкрикнул кто-то в толпе. – Вон ведь в Чехословакии выбрали президентом Вацлава Гавела. Честный мужик, хоть и не профессионал. И навел в стране порядок… Объявил конкурс среди специалистов на министерские посты. А у нас; назначают кого ни попадя. То ворюгу Черномырдина, то «киндерсюрприза». А потом они летят, как горох. А надо так: назначил дурака, сам с ним и убирайся в отставку…
Толпа на Новом Арбате росла. Тротуар был забит машинами. Народ начал высказывать недовольство, что на тротуаре не место для стоянки.
– А вы не удивляйтесь, – сказал миролюбиво Грибовлюбов, – мы – страна абсурда! Издадут распоряжение мэра – и будет тротуар для машин. Никто и удивляться не станет. Есть распоряжение – и порядок. Власть надо слушать и любить. Даже когда тебе отдавливают колесами мозоли. А я бы велел построить на Новом Арбате спидвэй, а улицу сделал пешеходной зоной…
– Да вам тогда памятник надо поставить! – раздался возглас в толпе. – Писатели, они, черти, дюже головастые мужики… Неужели в России нет своего Вацлава Гавела?
– Зато у нас есть Солженицын! – крикнули в ответ. – Нам нужен президент не с твердой рукой, а с ясной головой!
– А как относятся писатели к президенту Путину? – вопрошала толпа.
– А как вы относитесь к зюйд-весту? – спросил в свою очередь критик Доброедов. – Как вы относитесь к лондонскому смогу?
– А никак!
– Никак – это не солидно, – заметил Доброедов. – Раз зюйд-вест породил метеоролог Ельцин, он должен дуть и поворачивать, как флюгер. Рано или поздно результат зюйд-веста будет налицо. Но ясно одно – он никогда не станет норд-вестом. Он никогда не станет ветром серьезных перемен. Метеоролог это не допустит. На то он и метеоролог. Ему по душе зюйд-вест! И Путин будет зюйд-вестом. Неважно почему. Объяснений может быть множество. Зюйд-вест дует в сторону пониженного давления. Над ним тяготеет атмосфера. Вспомните закон Паскаля…
– С вождями в нынешней русской жизни дело швах, – сказал критик Гриболюбов. – Пожалуй, это единственный дефицит в стране. – Старые вожди проворовались, а новые еще не наворовались… Но успели погреть ручонки на газовом на нефтяном костерке и не желают ссориться с паханами и олигархами.
– Скажите, кто из вас завидует вождю? – спросил читателей критик Доброедов.
– Никто, – ответили в толпе.
– Здравая мысль! – кивнул знаменитый критик патлатой головой. – Для простого смертного власть привлекательна только на первый взгляд, а при ближайшем рассмотрении становится обузой. Вождизм, равно как и шаманство требует остранения… Почти все императоры Древнего Рима были извращенцы. Извращенцами были и русские цари, и секретари ЦК КПСС, и генеральные секретари, и их секретарши… Власть заразна… Она противоестественна природе Нормального человека. Я не во всем разделяю позицию писателя Григория Климова в его книге «Синод сионских мудрецов». Но там есть правдивые любопытные факты, есть забавные страницы…
– Но он же шовинист, а вы, писатели, проповедуете космополитизм…
– А мы и не одобряем его шовинистических взглядов, – ответил Доброедов. – Каждый волен писать о том, что ему нравится. Климов считает, вслед за Достоевским, что евреи разрушили и погубили Россию, развалили Америку, миром правит комитет трехсот еврейских стратегов, решивших вдвое сократить население планеты. Я не имею возможности проверить, есть ли такой комитет. Но скажите, почему русские патриоты не создали альтернативный комитет? Почему мы не ложимся костьми за техническую революцию? Почему пребываем в спячке? Почему выбрали на второй срок алкаша Ельцина? Да, еврейский вопрос – это самый серьезный русский вопрос. И недаром Солженицын написал книгу «Двести лет вместе»… Этот вопрос будет злободневным и через сто лет. Он станет особенно злободневным, если Россия превратится в сырьевой придаток Запада, которому всегда выгодно выставить перед русскими образ врага… Раздавленной России как погремушка нужен образ врага. Вы посмотрите, книги по истории еврейства, книги по еврейскому вопросу сейчас продаются лучше, чем книги по истории России. У меня такое впечатление, что русский вопрос никого не интересует в России, его затмил еврейский вопрос. Мы сто лет проповедуем дурацкую идею «Умом Россию не понять…». Но это чушь. Запад нас именно умом и раздевает донага. Мы шовинизированные романтики… Мы патологически разобщены. Мы страна миллионов одиночек! И именно поэтому мы – планктон.
– Да понимаете ли вы, что мы уже не народ, – зажегся критик Гриболюбов. – Москва превращается в какой-то цыганский, азербайджанский табор, все торгуют на тротуарах, на мостовых, под землей, над землей, в больницах, в вагонах метро, а мы даже не имеем возможности выразить наш протест. Мы сами погрязли в этой торговле. Нас сделали выживантами, и мы ухватились за эту ниточку торговли, вообразив, что она – ариаднина нить и выведет нас к свету… На улицах торгуют писатели, ученые, журналисты, художники, профессора медицины. Это стало образом жизни. Мы все – временщики… Шелуха на ветру. Нас оттеснили даже с тротуаров на обочину жизни…
– Как вы считаете, выберут ли на новый срок президентом Путина? – спрашивали из толпы Гриболюбова.
– Конечно, выберут, – встрял в разговор поэт Ябстердумский. – Выберут по инерции. Мы очень инертный народ.
– Да как вы не понимаете, – говорил Гриболюбов, – что выборы – это спектакль, исход которого предрешен заранее. Личность – лишь символ. Один человек в истории ничего не может изменить. Личность сегодня мало что значит на политической арене. Решают кланы. Личность может служить одному клану или другому. Президент вынужден быть самым гибким, самым эластичным человеком в стране.
– А писатели, разве они не продажны?! – крикнул кто-то.
И тут в игру вмешался Аполлинарий Дрыгунов. Он развил теорию значения личности в истории, привел в качестве примера Кутузова и Наполеона, Пушкина и Николая Первого, Савонаролу и Папу Римского Иоанна, Ленина и Гитлера, Ельцина и Горбачева. Он переходил от сцен падения Рима, погрязшего в разврате и завоеванного аскетичными мужественными кельтами, кимврами и тевтонами, к рассуждениям о сытой и развратной жизни сегодняшней Москвы, о нищете провинции. Он переносил читателей на страницы своего нового романа «Гибель Москвы», где в 2003 году киллеры отстреливают в январе так и не успевшего уйти на управление Центральным федеральным округом мэра Лужкова, а на его пост неожиданно выбирают простого порядочного человека, не больного политикой, не страдающего гипертрофированным самолюбием, бывшего управдома Твердыщева. И чем уникален Твердыщев в сравнении с сегодняшними монстрами политики, с маньяками власти, так это тем, что он просто жалеет, просто любит людей, как хозяева любят своих собак, кошек, домашних свинок, ручных крыс и белых мышей, уживающихся в одном доме и не пожирающих друг друга, потому что в этом доме царят ложь, не фальшь, а истинная любовь… И город разрушается не потому, что приходит Твердыщев. Он разрушается потому, что Твердыщев приходит слишком поздно. Ключ сюжета состоял в том, что за лощеными автострадами и частными билдингами центра Москвы, построенными на воровские деньги, отнятые у народа, крылась болезнь города, о которой не подозревал никто… Рушились сотни пустующих новостроек, построенных правительством Москвы на продажу, рушились двести пятьдесят три городских рынка, отданных на откуп криминалу для выкачивания из народа последних соков, рушился город не для людей, самый дорогой город в мире, построенный на двух подземных реках и оползнях. Да, это был триллер, но как он был написан! Он не шел ни в какое сравнение с теми романами-стрелялками, с ворами в законе, с умными на диво милиционерами и фээсбэшниками, которыми завалили рынок издательства «Эксмо» и «Олма-пресс», он уводил читателя с двухмерного криминогенного пространства страниц в третье и четвертое измерение подлинной прозы, уводил в неизмеримые дали, в метафизическое, полное приключений странствие души.
Читатели спорили с Аполлинарием Дрыгуновым: а правильно ли он сделал, что безжалостно разрушил Москву, город, которому почти тысяча лет, который устоял перед татарами, перед Наполеоном, перед Гитлером?.. И Дрыгучнов яростно доказывал, что он, как художник, вправе это, сделать, потому что Москва сегодня стала рассадником зла и противопоставила себя всей России, что она зажралась, что она ломает людей, ломает судьбу страны, для которой она просто шикарный, непомерно дорогой балласт вместе «Кремлем и его обитателями. Он доказывал, что провинций не любит москвичей, а для него Россия – это провинция…
Пока шли все эти жаркие споры, в которых продавцы не принимали участия, торговля спорилась, книги покупали нарасхват. Особенно хорошо брали «живых» писателей, Которые тут же черкали на титулах автографы. Им, видимо доставляло огромное удовольствие внимание плебса, в глазах их светился полустыдливый блеск самодовольства, и они чем-то походили на разыгравшихся не в меру детей, да и подзадоривал тут же выплачиваемый им «гонорар с продаж». Марк Пингвинов украдкой приглашал Уткинсона и Киндермана, а заодно и Гриболюбова с Доброедовым в соседний ресторан, в Центральном доме журналиста.
Да, писатели наши «плыли», что называется, в страну кайфа, это был их маленький звездный час, минута отдохновения, миг подзарядки аккумуляторов от плебса или, как говорил в шутку Марк Пингвинов, «час вампиризма над читателем», из которого выкачивали энергию. И читатели, «выкачиваемые» незаметно читатели, все великодушно прощали писателям: и то, что их называли «планктоном», «питательной средой для жулья», и разрушение красавицы Москвы, так бездумно, так поспешно отдавшейся напористому обольстителю Юрику Лужкову, пообещавшему ей золотые горы, а на самом деле расплодившему в ее чреслах флору безработных и толпы нищих, роющихся в помойных баках по утрам и вечерам, простаивающие заводы, замусоренные торгашами площади и скверы…
И только аскетичный, мудрый Уткинсон был задумчиво холоден к своим читателям. Они его совершенно не интересовали, как не интересуют случайные отпрыски, «дети мига любви», искателя приключений Дон Жуана. Он давал автографы с равнодушным, почти каменным лицом, он держал выверенную дистанцию между собой и читателем, он не подпускал близко к сердцу и оставался загадкой, что вызывало еще большее почтение к нему, а у дам бальзаковского возраста – помутнение и легкое размягчение мозгов. Они пытались тайком сунуть ему в рукав, в карманы записочки со своими телефонами. И надо отдать должное, Уткинсон, со своим орлиным носом и саксонским абрисом скул, с монголоидно-еврейским прищуром глаз, олицетворял настоящего европейского писателя, он даже малость смахивал на Конан Дойля. Вряд ли это было позерством, вряд ли продуманной актерской игрой, но это был тонко угаданный и воплощенный в реалию образ истинного писателя, одинокого, грустно смотрящего на мир с похмелюги гения, как бы парящего над толпой, презирающего суету и собственные мирские слабости, презирающего жалких людишек, рабов страстей, алчных обитателей его романов. И как он не походил на тех совковых плодовитых многостаночных писателей, которых нынешние издатели с коммерческой целью заманивают на книжные выставки и представляют в золоченой клетке перед раздевающими взглядами читателей для механической раздачи автографов кому ни попадя, как на конвейере, без малейшей оглядки и разбору – кому даешь, зачем даешь? Автору это напоминало маленький акт духовной проституции выгоды ради, когда он видел на книжных выставках, как Маринина или Полина Дашкова лихо подмахивали автографы первому встречному, наскоро спросив, как его, бедолагу, кличут. Ему всегда казалось, что писательский автограф – это нечто вроде залога писательской любви, нечто вроде духовных объятий с читателем, который тебе по меньшей мере мил. Но коммерция и жалкие гонорары изуродовали сегодняшних писателей и писательниц, и они готовы подмахивать за гонорары автографы кому угодно. И оттого им уже нет цены. А ведь сколь дороги коллекционерам автографы Андрея Белого, Александра Пушкина, Державина или Александра Блока именно потому, что они редки.
Пока шли писательские диспуты и пикировки знаменитых критиков Гриболюбова и Доброедова с пиплом, фэсэошники и фээсбэшники не дремали, они крутились рядом, на время исчезали, но нежданно-негаданно их настороженные, озабоченные, немного испуганные лица то здесь, то там выныривали в толпе, и казалось, они вот-вот прервут жаркие споры и потребуют документы у писателей, а читателей загонят в автобус и увезут в лубянские, отнюдь не метафизические, дали на предмет рентгеноскопии души. Так казалось, но на самом деле фэсэошников и фээсбэшников сегодня ничьи души не интересовали, они не просчитывали психогенные возможности, бунтарский дух, смутительный потенциал толпы, не прогнозировали их действия в ближайшем будущем, они, как и лоточники, были временщиками на Новом и Старом Арбате, они не были хозяевами улицы, они были ее обитателями, делившими власть с мафией, и для них важно было лишь одно – чтобы не случилось непредвиденное происшествие, за которое начальство даст им взбучку. Интуитивно они зондировали толпу тем шестым чувством, которым мгновенно просчитывает ситуацию всякий бывалый мент. Толпа читателей, будь она молчалива, не вызывала бы у них тревоги, это была обычная аморфная масса москвичей, не заряженных электронами и позитронами агрессии, булькающая, пузырящаяся масса сусла, струящегося по улицам. Пипл катил по Арбату мелкой зыбью, вечерний бриз слабел, городской прибой потихоньку стихал. Стайки прохожих волокло мутным, плотным течением и затягивало в воронки подземных переходов и метро.
Пульсирующий поток нес обломки человеческих судеб, отгоревшие мечты, перегар осуществившихся низменных желаний, смелых дерзких мечтаний, истлевших от времени надежд, обломки семейных кораблекрушений, жалкие подобия человека, обсоски общества – бомжей, которые походили на механический набор голов, рук, ног, ибо лица у них были бесстрастны, как у заплесневелых, отмокших, одрябших манекенов, они чем-то напоминали бродячий набор запчастей хомо сапиенса, из спинного мозга которого вынули сим-карту. Их тоже куда-то несло, но куда – они не ведали и даже не пытались понять, отдаваясь на волю земного притяжения.








