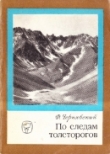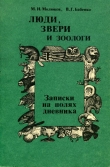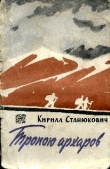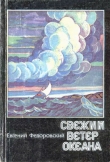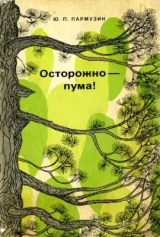
Текст книги "Осторожно - пума!"
Автор книги: Юрий Пармузин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 11 страниц)
рее ползущей улитки. Усталость, голод, бессонная ночь, а
главное противный холод мокрой одежды быстро съедали
остатки физических сил. Багульник, на который в обычное
время не обращалось большого внимания, сделался почти
непреодолимым препятствием. Он схватывал ноги и цепко
держал их. Особенно было плохо Иосифу – его раненая
нога распухла. Нас передвигала уже не физическая сила
и даже не воля, а, очевидно, привычка к ходьбе. Мы просто
механически переставляли ноги, останавливаясь в изнемо-
жении через пятьдесят – шестьдесят шагов. Но ни стоять,
ни тем более сидеть долго мы не могли из-за цепенящего хо-
лода. Одна минута – и мы начинали переставлять ноги
дальше. Казалось, что поход никогда не кончится. Мысли
тащились в темпе ходьбы и только в одном направлении.
Настанет ли момент, когда мы переступим порог избушки
и можно будет стянуть с себя все мокрое? Придется ли
когда-нибудь сесть, хотя бы у костра, и съесть миску горя-
чего супа?
Именно тогда я узнал, какова высочайшая цена хотя бы
пусть рваной, но сухой одежды и одной-единственной та-
релки горячего супа или кружки чая. Все, что было пережито
до этого, отодвинулось в невероятную даль, потускнело и
утратило всякий смысл, казалось мелким и ничтожным.
Тем временем на дальневосточную тайгу спускалась тем-
нота. Если в прошлую ночь было нас четверо, то теперь два
человека имели в несколько раз меньше запасов тепловой
энергии, даже нет топора, унесенного Грязновым. Снова на-
чался мелкий дождь. Снова в глазах поплыла серая муть,
а силуэты деревьев начали сливаться в общую черную массу.
Появилась апатия. Мозг был занят только руководством
перестановки ног.
И вот когда сознание готово было потемнеть точно так же,
как потемнела тайга, что-то блеснуло.
– Ты видел? – закричал я.
– Огонь!
Где-то далеко-далеко, еле-еле пробившись сквозь качаю-
щиеся кусты, мелькнул и померк огонек. Через несколько
шагов он робко проник в таежную темень.
– Огонь! Угольный Стан!
Человек может долго прожить, много пережить всяких
встрясок и все же вряд ли до конца познает и исчерпает свои
47
возможности. В этом, наверное, заключена сила жизни. За
минуту до вспышки огонька еле волочившие разбитые ноги
и падавшие от усталости люди, не мечтавшие о возможности
пройти еще хотя бы один километр, вдруг сорвались и по-
бежали, как малые ребятишки. Мы перепрыгивали через
упавшие деревья, делали скачки из багульника, из которого
только что не могли вытянуть ногу. Кусты мелькали по бо-
кам и никак не могли затормозить бега, они лишь, каза-
лось, ласково ударяли по ногам и совсем незлобно царапали
лицо.
Вот и поселок.
– Иосиф, растопляй печку, а я на склад за продуктами.
На складе начальник партии, радист, завхоз надевали
чуни и плащи, делали носилки, зажигали «летучие мыши».
– Добрый вечер! – жизнерадостно приветствовал их я.
– Здравствуйте,– удивленно произнес начальник.—
Вы? Один? Оставили Матюкова?
– Нет, зачем же, мы пришли вместе.
У меня и мысли не появлялось, что можно было оставить
Иосифа одного в тайге, и вопрос начальника немного обидел.
– А Вершинин сказал, что вы остались на берегу и про-
сили его скорее идти на базу. Они только что пришли, и
вот мы собираемся за вами.
– Ерунда! Мы здесь. Это он не понял из-за шума воды.
Давайте хлеба, консервов, чаю и спирту.
– Да все уже приготовлено у Соловьева и Вершинина.
Сходите сначала в баню. Соловьев ее с утра топит. Вершинин
уже пошел.
Наверняка нет ничего приятнее, чем после двух таких
прохладных дней попасть в хорошо вытопленную баню с
раскаленными камнями вместо печки. Мы хлестали друг дру-
га березовыми вениками и чувствовали, как все суставы,
даже пальцы приобретают гибкость.
После бани Соловьев увел Матюкова к себе в натоплен-
ную избушку, а я пошел в семейный дом к Вершинину.
И опять показалось, что нет ничего приятнее, чем сидеть
в бревенчатой, низенькой хижине, пусть с протекающей
крышей, но зато с весело гудящей железной печуркой, щедро
разливающей тепло. Нет ничего приятнее съесть котелок
горячего супа с тушенкой. На столе стоит свеча, в теле тепло,
в голове приятный шумок, и весь наш поход начинает пред-
ставляться в юмористическом духе.
– А помнишь, как ты крикнул: «Садись!»? Я подумал,
что ты убьешь меня, если не сяду,—смеется Вершинин.
43
– Да. А я сегодня в Москве побывал. Там намного теп-
лее, чем здесь.
Я смеялся, раскачиваясь на самодельном стуле, опер-
шись на его спинку. На стуле висела совершенно мокрая
гимнастерка Вершинина, и что-то в ее кармане неудобно
упиралось мне в спину.
– Что это там у тебя? Вынь-ка.
Вершинин полез в карман и вытащил тоненькую желез-
ную коробочку, в которых обычно продают патефонные
иголки. Когда коробочка оказалась в его руках, лицо его
выразило крайнюю растерянность и покрылось испариной.
Он попытался быстро переложить коробочку в брючный
карман.
Это меня навело на мысль, что топограф нашел алмазы
и не хочет поделиться своим открытием с товарищами.
– Нет, стой, дай-ка сюда.
Я почти вырвал у него коробочку и, открыв искусно при-
гнанную крышку, увидел десяток спичек и выломанную из
спичечной коробки терку. Машинально чиркнул спичку о
терку. Она без труда загорелась. Спички были абсолютно
сухие...
– Это НЗ... я забыл... еще в Новосибирске мать в кар-
ман положила, – бормотал Вершинин.
Последовала немая сцена, во время которой я наливал-
ся яростью.
Медленно я закрыл крышку и положил коробочку на
стол.
– Благодари свою жену, что она здесь,– сказал я виб-
рирующим голосом.– За такую сверхрассеянность в хо-
рошем обществе канделябрами бьют.
Это последнее потрясение окончательно доконало меня.
И в сильном расстройстве, кое-как добравшись до своей из-
бушки, я уснул мертвецким сном.
Прошло много лет. Участвуя в обороне блокированного
Ленинграда, я много раз мечтал о миске супа и корке хлеба,
но ни разу не было столь острых переживаний, такого ощу-
щения, как там, на Огодже. В Ленинград я попал уже умуд-
ренным опытом и переносил блокаду, наверное, легче мно-
гих.
Отгремела Отечественная война. Много воды и валу-
нов унесла с тех пор Огоджа. От Угольного Стана оста-
лось одно название на нашей сильно постаревшей карте.
Нет теперь Стана! Нет того продовольственного склада, ко-
49
торый спасал нас от гибели. Нет и дымной бани, топившейся
по-черному, но сохранившей нам здоровье. Растащили ку-
да-то бревенчатые избушки. Не позволила Огоджа вывозить
ее уголь – свою собственность...
Как будто сузилась с тех пор широкая падь. Вместо
худых, беспорядочно разбросанных избушек над тайгой
возвышается корпус мощной тепловой электростанции, а на
склонах пади прочно осели аккуратные домики рабочего по-
селка Огоджа. Не нужно теперь спичек, чтобы разжигать
железные печурки или топить баню: повернул выключатель—
и квартира наполняется теплом электрических печек, пово-
рот крана – и ванна наполняется горячей водой.
Вместо робко намеченной тропки тайгу уверенно разре-
зала просека с линией высокого напряжения. И никакие
муссонные дожди не в состоянии помешать непрерывному
потоку энергии огоджинского угля на прииски и рудники,
густо покрывшие туранские кручи.
Просеки с линиями электропередач проектировали по
нашей уточненной карте, а не по той, составленной
по расспросным данным, которой трудно было пользоваться
даже для простой ориентировки в тайге.

Шапка крупы
Июнь застал нас на дальнем краю Родины.
Дальневосточная весна была в зените. Экспедиционный
катер с полевым оборудованием и четырьмя географами,
дрожа от напряжения, еле преодолевал своими девятью де-
сятками лошадиных сил встречное течение Зеи. А когда по-
вернули в ее приток Селемджу, пошли и вовсе медленно. В
низовье этой немаленькой реки снег уже сошел с лугов,
болот и полей, но дикие хребты, вздымавшиеся за сотни ки-
лометров в ее верховье, еще были покрыты снежными
шапками, и, постепенно тая там, снег не позволял быстро
спадать полой воде. Разгулявшееся половодье уносило кучи
прошлогодних листьев и хвои, куски торфа с бурой травой,
обломки льда разрушенных водой наледей, иногда плыли и
вывороченные с корнем деревья. Река весело смывала остат-
ки отмершего и неустойчивого, освобождая место новой
жизни, но нас она не очень-то хотела допускать в свое вер-
ховье. Выбирая в русле наиболее тихие места, старшина при-
жимал катер к тому месту, где была затоплена бровка поймы.
Вода залила огромные пространства Зейско-Буреинской
низменности, но из воды над пойменной бровкой белыми
барьерами поднимались верхушки цветущих кустов чере-
51
мухи. Вся километровая ширина реки была наполнена че-
ремуховым благоуханием. Когда мы приставали к этому
барьеру на ночь, то аромат черемухи выгонял с катера бен-
зиновый запах.
Через несколько дней измученный катер достиг поселка
Селемджинск, где расположилась база топографической
партии, в которой мы работали. Выше по реке начинались
горы, мелкие перекаты, течение убыстрялось, и катер даль-
ше идти не мог. Кроме того, два географа – Сергей Воскре-
сенский и Лида Лебедева уже приехали и именно отсюда
должны были начать свои исследования. До района работ
отряда Нади Сеютовой оставалось около сотни, а до моего
около двухсот километров.
От Селемджинска до Стойбы было восемьдесят три кило-
метра. Там мы должны взять оленей и проводников и ра-
зойтись в разные стороны горной и болотистой тайги.
Под вечер следующего дня трехтонный ЗИС, нагружен-
ный экспедиционным оборудованием, материалами и про-
дуктами не только для наших, но и для топографических
отрядов, базировавшихся в Стойбе, остановился на ее ок-
раине.
Стойба по здешним местам поселок громадный. Он слу-
жил перевалочной базой с воды на колеса тресту «Амурзо-
лото». По берегу Селемджи вытянулись продовольственные
и товарные склады. В центре поселка автобаза чуть не на
сотню грузовиков, авторемонтные мастерские, магазины,
столовая, почта, клуб. На окраине кирпичный завод. В трех
километрах вблизи автотракта наша аэрогеодезическая эк-
спедиция расчистила место для посадочной площадки своих
«королей» воздуха, и сюда в этот год стали впервые садиться
двухместные У-2. Впоследствии размеры посадочной пло-
щадки постепенно росли и в конце концов получился нор-
мальный аэродром, что еще больше повысило значение Стой-
бы в округе.
Со всех концов Советского Союза собрались в Стойбу рус-
ские и украинцы – они в основном работали на автотранс-
порте.
На противоположной стороне Селемджи, как бы вытряхну-
тые из дремучей тайги, белели новенькие домики таежных
охотников и оленеводов – эвенков и якутов. Этот поселок
и был собственно Стойбой, возводимой на месте прежнего
зимнего становища кочевавших эвенков. Когда в тайгу про-
никли автомашины, возникла Новая Стойба и обогнала в
своем развитии старую, которую стали называть Стойбой
52
Якутской. Именно туда лежал наш путь. Там были олени
и оленеводы – знатоки тайги. Однако уже вечерело и пе-
реправляться с грузом на другую сторону бурной реки было
поздно. Кроме того, наш шофер спешил в обратный путь.
Якутская же Стойба была еще поселком неблагоустроен-
ным. Эвенки переживали первый год перехода от кочевого
образа жизни на оседлый – шла революция в быту. Про-
цесс этот протекал не всегда гладко. Всю жизнь провед-
шие в чумах и палатках охотники понятия не имели, как
строятся дома. Их рубили жители Новой Стойбы.
Чистенькие, с затейливыми балкончиками, русскими печа-
ми, лавками и стульями домики отдавались безвозмездно та-
ежным жителям, но были совершенно непривычны и совер-
шенно неудобны для них. В самом деле, каждый раз, входя
и выходя, нужно было закрывать дверь. Вместо того чтобы
садиться прямо на землю, требовалось сидеть на стульях,
нельзя было разводить костер в доме. В первое время вла-
дельцы домов складывали в них шкуры, а сами жили рядом
в чумах и палатках. Но приехал председатель наслега и ска-
зал, что надо жить в деревянных домах, что их для этого и
строили. Пришлось переселяться. Переселение каждый по-
нимал по-своему. Один охотник вошел в дом вместе со своим
чумом и поставил его среди комнаты. Это тоже было неудоб-
но. Шесты нельзя было воткнуть в пол: они разъезжались
на его гладкой поверхности; их необходимо связывать не
только вверху, но и за нижние концы. Пришлось также тас-
кать плоские камни для очага – без них загорелся бы пол.
Вне чума оставались углы комнаты. Они были использованы
под отбросы. Подобные анекдотические случаи сплошь и
рядом сопровождали переход кочевников к оседлости.
Наша машина стояла около крайнего домика Новой
Стойбы. По его облику видно, что он совсем недавно отвоевал
строительную площадку у тайги. Ограда из поставленных
вертикально ольховых прутьев отделяла участок от дороги,
а тыловая часть участка упиралась в уже поредевшую, но
все же настоящую тайгу. Часть участка использовали под
огород – картофель, капусту, огурцы. Среди огорода кое-
где сохранились невыкорчеванные пни. Перед фасадом к
цветущему таежному кустарнику, даурскому рододендрону,
посадили мальву и пионы, и это отгораживало окна от пыль-
ного тракта. В небольшом сарайчике хрюкала свинья, а
вокруг бродили куры, заходили в таежные густые кусты,
из которых торчали останцы гранитных скал в виде причуд-
ливых столбов. Дальше по улице было еще несколько та-
53
ких же новеньких домиков, вклинившихся в тайгу. Стойба
росла.
В доме три небольших комнатки и словоохотливая хо-
зяйка.
– Здравствуйте. Мы экспедиция. Не поместите ли нас
у себя на два-три дня?
– Да живите хоть все время, мне веселее будет. Недав-
но дочь замуж выдали – на прииске Лукачек теперь жи-
вет. Сын меньше года как из армии вернулся. Сейчас в
рейсе – шофером работает. А муж – слесарь на автобазе.
Лето – время горячее, все машины по тайге гоняют, людей
не хватает, вот он по две смены работает. Да ведь и деньги
нужны, поизносились, пока дом-то строили, да еще свадьбу
недавно сыграли.
Своим имуществом мы завалили одну комнату и, отпус-
тив шофера, пошли в центр поселка в столовую. Идти до нее
больше километра. Столовая с небольшими перерывами ра-
ботала круглые сутки. Она обслуживала шоферов, проез-
жих и поселковых жителей, главным образом служащих.
Вернувшись уже затемно, мы улеглись и вскоре уснули
безмятежным сном, не обратив внимания на то, что в доме
никого не было.
Утро застало нас тоже совершенно одних. Хозяев не
было ни на огороде, ни в сарайчике, ни у соседей, и те ни-
чего не могли сообщить о местонахождении хозяйки, а хо-
зяин, известно, на работе. Хозяйка, видимо, в магазин
пошла.
Ждем час, ждем два, ее нет, а есть хочется. Стали искать
замок..
– Вот запрем и уйдем, пусть-ка нас тогда подождут,—
в сердцах говорю я.
Но, сделав подробный обыск всего немудреного имущест-
ва и не обнаружив замка, мы решили изменить тактику.
– Давай обедать по очереди. Не бросать же имущество
без присмотра.
Сначала в столовую идет Надя, я охраняю дом. Потом
иду завтрако-обедать я, она становится сторожем.
– Ну, это уже ерунда получается. Выходит, вместо ра-
боты в тайге мы в сторожа стойбинские попали.
– Сторожа-то сторожа, это бы еще полбеды, а вдруг кто
хозяйку убил или задавили да в кусты выбросили.
Становилось жутковато. Мы даже не пошли ужинать и
сидели на пороге, дожидаясь хоть кого-нибудь.
Часов в одиннадцать вечера к калитке подошел человек.
54
По его уверенным действиям мы почувствовали хозяина.
Его мы еще не видели.
– С вашей женой что-то случилось. Целый день дома
нет.
– Ничего не случилось. Вчера вечером шофер с Лукача
передал, что дочь просила приехать, по хозяйству помочь.
Вот она в ночь и уехала. Вас дома не было.
– Как же это вы уходите, уезжаете за тридевять земель,
дома оставляете незнакомых людей. А вдруг они уйдут и
дом без присмотра оставят. Ни замка, ни записки не оставили.
– А-а,– засмеялся хозяин.– Я ведь забыл, что вы,
москвичи, народ подозрительный. Замков-то у нас и нет.
Четвертый год здесь живем, их ни разу в кооперацию не
привозили. Во всей Стойбе, наверное, всего два замка – на
складе да на магазине, и то специально откуда-то привез-
ли. Да и не нужны они здесь. Никто не балует. Не заведено
у нас воровство. Вы не беспокойтесь, езжайте куда надо,
все будет цело.
– Как же так? Ведь дорога под окнами. Мало кто тут
уезжает, приезжает.
– Что из этого? Ну возьмет он у меня сундук, а куда он
денется? В тайгу не пойдет – с голоду подохнет, а дорога
здесь одна, всем видно, да и шоферы всех знают. У нас тут
прошлый год лодку угнали. Сразу позвонили в Селемджинск.
Пока они туда доплыли, их уже встречали. Задержали, а
лодку велели обратно самим отогнать. Так они неделю вверх-
то по реке ее гнали. С тех пор ничего брать чужого не будут.
А попробуй у якута украсть, так тот очень обыкновенно
убить может – у них воровство самым большим грехом счи-
тается.
В общем вы не опасайтесь. Куда нужно – идите, езжай-
те, я за ваши вещи отвечаю, раз вы у меня остановились. Мо-
жет, чего надо постирать, помыть, так хозяйка завтра при-
едет – отдайте ей, хозяйство у нас небольшое, дел-то особых
нет. Это вот когда ягоды да грибы пойдут, ну тогда она все
по тайге. Любительница даровое собирать.
Как ни убедительно и логично говорил хозяин, но мы
все же на следующий день решили проверить его и справить-
ся у официальных лиц. Скрепя сердце оставив свое времен-
ное жилище и завязав проволокой щеколду двери, чтобы не
вдруг открыть ее можно было, пошли в центр по разным
делам.
– Точно,– ответил нам завмаг на наш вопрос о зам-
ках,– замков в магазине ни разу не было, никто не покупа-
55
ет. Вот только на складах, на магазинах замки и есть, да и
то для формальности – так уж повелось. Не воруют у нас.
Все прилично живут.
– Ну уж если завмаг говорит, что никто не ворует, зна-
чит, правда.
Поехали в Якутскую Стойбу. Нашу лодку вышли встре-
чать несколько человек. Не успели мы выйти из лодки, как
один подошел и обратился ко мне. Говорил по-русски он
плохо, выговаривая вместо Ш – С, а вместо Ч – Т.
– Твоя натяльник эспедиции?
– Да.
– Мне твоя должна сапка крупы, два плитка чай, два
комок сахара.
– Почему же это я тебе должен? – удивился я.
– Не. Твоя должна нет, мине должна!
– Ты мне, насколько помнится тоже ничего не должен.
Я же первый раз вижу тебя,– недоумевал я.
–Не, мине должна,– стукнул он кулаком себя в грудь.—
Мине тайга три луна ходи, продукта нету, один мясо кусай.
Мине твоя лабаз версына Бысю ходи. Сапка крупа, два плит-
ка чай, два комок сахар возьми, исе соболь бей. Как мине
отдавай? Ситяс бери.
Наконец я понял, в чем дело. В эти труднодоступные
места можно проникнуть только на оленях или по рекам
на легких лодках-оморочках. Лошади ни зимой, ни летом
не могут пройти по снегу или каменистым осыпям,
тем более по топям бесконечных морей. В район нашего об-
следования нельзя добраться на оморочке. Единственная про-
ходимая для них речка Бысса лишь входила в район своим
узким и порожистым истоком (вершиной), непригодным для
плавания. Летом вьюком на слабосильных оленях тоже
много не довезешь: тридцать два килограмма – оленья
норма. А вот зимой на нартах олень поднимает раз в шесть-
семь больше. Поэтому наши хозяйственники завезли пот-
ребное количество продуктов зимой на нартах. Они сде-
лали лабаз на высоко спиленных деревьях, чтобы ни росо-
махи, ни медведи не достали, и, оставив там продукты, от-
метили место лабаза на аэрофотоснимках. У встретившего
меня эвенка охота, видимо, шла удачно, и ему не хоте-
лось возвращаться с Стойбу за продуктами, теряя сезон.
Легко найдя лабаз приезжавших, он взял из него незначи-
тельное количество продуктов. И кто бы мог заметить не-
достачу двух-трех килограммов из тонны крупы или двух
кусков пиленого сахара из двух мешков?
56
– Зачем ты мне сказал? – спросил я.– Продуктов там
много...
– Как его можно возьми? – возмутился он.– Тайга
сибко плохой стука! Твоя тайга ходи, работай тайга ходи,
кусай многа нада. Кусай нету – твоя пропадай, работа про-
падай. Мине слысал, твоя Селемджинск ходи, сразу продукта
покупай. Бери, позалста.
– Да зачем мне? Мне и так хватит продуктов. Спасибо,
что сказал.
– Зачем твоя спасиба? – удивился эвенк.– Мине спа-
сиба говори. Иди бери продукта.
– Сейчас не возьму. Некуда мне их девать, и шапки
нету.
– Тада мине твоя работай ходи. Мине тайга сипко ха-
расо знай. Мине олень крепкий, твоя манатка таскай.
– Это пойдет. Как раз мне хороший проводник нужен.
А как ты узнал, что мы в Селемджинск приехали?
– Как его не знай? Софер езди; разный люди ходи, все
его говори.
– А почему думал, что мы сюда придем? Зачем продук-
ты покупал?
– Где твоя ходи? Проводник тут, олень тут, твоя лабаз
версына Бысю ходи. Сибко далеко. Как твоя манатка тас-
кай? Другой место ходи не могу.
Действительно, в тайге не спрячешься, подумал я.
О тебе за неделю до приезда все знают, и знают, где пойдешь
и что делать будешь, и даже знают, что думаешь,– где тут
воровать?
Никак не предполагал, что Дерсу Узала не единствен-
ный в нашем отечестве. Красота природы сочеталась с кра-
сотой человека, вселяла радость жизни, уверенность и
в себе, и в благополучном исходе тяжелых таежных похо-
дов, работалось с подъемом. Таежники Дальнего Востока
и Восточной Сибири исключительно честны. Суровой тайге
противна нечестность. Каждый просчет или обман нередко
приводит к гибели, и это хорошо усвоили все таежники.
Люди здесь честны не из-за страха перед наказанием или
местью, а потому, что уж очень легко каждому попасть здесь
в трудное положение, и поэтому не отягощают судьбу дру-
гого, чтобы не ждать от него того же. Люди честны от при-
роды и установившихся веками правил.
А веками ли? Это понятно для аборигенов. А как быть
с Новой Стойбой, где только четыре-пять лет образовалось
разнообразное общество? И наверняка некоторые приехали
57
сюда «за длинным рублем». Ведь легенда о «бешеных день-
гах» Дальнего Востока в то время распространилась очень
широко. Сюда попадали и любители легкой наживы. Но
видимо, и на новую Стойбу, и на многих таких готовых по-
живиться за чужой счет действовала окружающая среда,
точно так же вытесняя дурные привычки, как аромат чере-
мухи вытеснял запах бензина с нашего катера...
Впрочем, не только окружающая среда, но и половодье
того нового, что сметает старое для новой жизни, имеет
не последнее значение. Обеспеченность приисковых и руд-
ничных рабочих, рыбаков, таежных охотников и оленево-
дов стала у нас повсеместной, а бесполезность всего лишне-
го, большего, чем нужно для непосредственного потребле-
ния и запасаемого на черный день, уже все очевиднее от-
ходит в область прошлого.
Со времени эпизода с шапкой крупы минуло тридцать
пять лет. Многие неизведанные тогда места Сибири и Даль-
него Востока, где мы, студенты, были первыми исследова-
телями, на моих глазах превратились в крупнейшие инду-
стриальные районы: золотая Колыма, полиметаллический
западный край гор Путорана, алмазная Западная Якутия,
бокситово-железорудное Приангарье, угольная Зырянка и
Южная Якутия, нефтяной тюменский север вписали слав-
ные страницы в историю нашей Родины. Глухомань тайги,
гор и болот располосовали тысячекилометровые автотрассы
и железные дороги. Поднялись красавцы города – Магадан,
Норильск, Мирный, Ангарск, Братск, Билибин, Черны-
шевск... Невиданные плотины преградили, казалось, неук-
ротимые потоки огромных рек, заставив их нессякаемую
энергию служить освоению щедрой сибирской земли: Анга-
ра, Мама, Енисей, Вилюй, Хантайка, Зея... Только город-
ское население, пришлое с запада страны, превысило населе-
ние азиатских аборигенов эвенков, ненцев, долган, юкаги-
ров. И только таежный закон взаимовыручки, честности и
неприкосновенности того, что положено не тобой, остался
незыблемым среди гор и тайги.
За двадцать три своих экспедиции в эти края мы не боя-
лись оставлять без замков и охраны продукты, одежду, ору-
жие, снаряжение не только в безлюдных местах, но и там,
где кочевали с оленьими стадами якуты, охотились эвенки,
рыбачили на реках и озерах русские, где геодезисты стро-
или свои триангуляционные вышки, а геологи оконтури-
58
вали клады недр. До двадцать четвертой экспедиции 1971
года я ни разу не обманывался в своей уверенности, что все
оставленное в таежных горах Сибири будет в целости и сох-
ранности. Но...
Из одного старейшего вуза страны в наш институт на
Байкале прислали на производственную практику двух сту-
дентов. В первый же день они продемонстрировали свою
силу и ловкость. Вечером, когда молодежь сформировала
две футбольные команды, эти двое выделялись в них не толь-
ко своим высоким ростом и неутомимостью, но и скверно-
словным хвастовством.
– Эх ты, мазила! Вот как надо!
– Разве тут можно увидеть хороших футболистов? Вот
наш факультет!..
– Мы вам покажем класс!..
Но ведь это игра, а в работе, может быть, они и не так
плохи? – думали некоторые.
На следующее утро они обратились с просьбой послать
их в один отряд. Полевые отряды у нас были небольшие, и
по нескольку студентов их специальности вместе, как пра-
вило, не посылались. Им сделали исключение – трогатель-
ная дружба всегда вселяет надежду на успех в работе.
Когда им объявили, что они направляются вместе в Пу-
торанскую экспедицию, их лица недовольно вытянулись.
– А нельзя ли остаться на Байкале?
– Нет, в байкальские экспедиции мы стараемся посы-
лать девушек. Здесь легко, много населенных пунктов, пре-
красно оборудованный флот. Да вы не беспокойтесь. Ваш
отряд возглавляет опытнейшая начальница В. А», и вы по-
лучите всестороннюю практику. Кроме того, из географов
в центральных частях Путорана вы будете почти первыми,
а ведь лестно быть первоисследователями.
Про себя же я подумал: эх, если бы мне предложили по-
ехать на первую практику в горы Путорана! Наверное, под-
прыгнул бы от радости и считал себя на седьмом небе. Но
тридцать пять лет назад никто и не знал таких слов: «горы
Путорана». На всех картах этот район выделялся белым
пятном вплоть до 1951 года. Только на самый малый запад-
ный их краешек проникли в то время геолог Н. Н. Урванцев,
открывший норильское полиметаллическое месторождение,
географ С. П. Суслов, изыскивавший трассу дороги к этому
будущему городу, да ботаник Л. В. Шумилова, проводив-
шая съемку оленьих пастбищ.
Плохой признак, если географы, да тем более такие хваст-
59
ливые, не рады попасть в малоисследованные места. Ше-
вельнулась мысль – а не отослать ли их обратно. Однако
до этого никогда еще не приходилось встречать географов,
которым бы не понравились экзотические места Заполярья
с природой, почти не тронутой цивилизацией. Да и тот
вуз, который послал их, славился отлично подготовленными
и трудолюбивыми студентами. Авось (ох, это авось!) на
месте воспитаются, тем более что начальница В. А.– воспи-
тательница отличная. В свое время она прошла Карелию и
Зею, Памир и Камчатку и справлялась не с такими.
В вихре предотъездных хлопот растворился неприятный
осадок эпизодов с футболом и неудовлетворенностью этих
парней местом практики. Экспедиция была относительно
большая. Некоторые отряды ехали на круглогодичные ис-
следования. Нужно было брать все – от иголки до мотор-
ных лодок и от геологического молотка до микроскопов и
химических лабораторий, чтобы обеспечить жизнь и работу
не только на короткое полярное лето, но и на длинную тем-
ную зиму. Нужно много достать, доделать, упаковать, от-
грузить.
Каждый из отрядов снаряжался сообразно своей специ-
альности: гидрологи, гидрохимики, гидробиологи, геомор-
фологи, геоботаники, диатомисты-донники, ихтиологи. Вез-
де нужны и организаторские способности, и рабочие руки.
В смысле организаторских способностей оба этих парня
были не промахи. Они быстро доставали упаковочный матери-
ал – прямо из-под рук у других вырывали. Им почему-то
удавалось раньше других изготовить в мастерских и при-
способления под приборы, и ящики нужных габаритов.
Многие из начальников отрядов завидовали – будете, В. А.,
как за каменной стеной с этими шустрыми мальчиками!
Однако «каменная стена» на поверку оказалась не очень
прочной. Уже при первой погрузке экспедиционного обору-
дования этих студентов не оказалось среди работающих.
Какой-то, по их мнению, благовидный предлог они нашли и
в Игарке, чтобы избежать «черной» работы: ведь они будущие
инженеры или даже научные работники. Таскать ящики, да
еще в гору – это ниже их квалификации. А что тюки и лод-
ки таскают все другие члены экспедиции – от рабочих до
начальника, то это их личное дело.
На озере Виви в центральной части Путорана водится
деликатесная рыба – голец, сиг, ряпушка. Виви – озеро
длинное, около девяноста километров с севера на юг. Рыба-
ки, которые заезжают сюда осенью почти на всю зиму, по-
60
строили четыре зимовья, чтобы ездить от одного к другому
и добывать рыбу. Ее время от времени вывозят на самолетах
в Игарку. Отряд В. А. тоже ориентировался на эти зи-
мовья – летом они не заняты. Зимой же здесь будет рабо-
тать наш отряд ихтиологов, на это получено разрешение
игарского рыбзавода.
Отряд высаживался около одного из зимовий на гидроса-
молете. Известно, что полярные летчики всегда спешат. Спе-
шат воспользоваться полярным днем, хорошей погодой, вы-
полнить планы перевозок. В Заполярье, да тем более в горах,
где нет ни людей, ни радиостанции с радиомаяками, для
малой авиации часто создаются рискованцые ситуации. Сей-
час тихо и ясно, а через час налетит вихрь, лягут облака
на горы, долины забьет туман, а то еще и снегопад начнется—
застряла «Аннушка» на каком-нибудь озере, а летчикам стро-
го запрещается ночевать с самолетом вне аэропорта. Наши
друзья, видимо, оценили это положение по-своему. Выско-
чили первыми из самолета и методично и обстоятельно на-
чали исследовать пустынный берег и зимовье – они же
впервые на этой земле. А в это время летчики и началь-
ница вытаскивали из самолета продукты, лодку, спальные
мешки. Когда все было выгружено и самолет приготовился
взлетать, они вышли из зимовья и радостно сообщили, что
в нем, оказывается, все есть: и продукты, и одежда, и печка,
и дрова, и ружья, и даже транзисторный приемник. Зачем
было столько везти своих вещей? Они искренне удивились,
что это радостное сообщение отнюдь не обрадовало их на-
чальницу.
– Продукты и оружие не трогать совсем. Если будете
брать снасти, то тщательно очищать, сушить и класть на
место. Дрова заготовить свои, а если возьмете в зимовье, то,
уходя, положить больше, чем взяли. А сейчас свалите не-
сколько лиственниц под вещи, чтобы тюки и ящики не ле-
жали на сырой земле. Костер разожгите.
Слушать все это студентам было ужасно скучно. Они
потряхивали ногами и отмахивались руками то ли от этих
распоряжений, то ли от комаров, масса которых все увели-