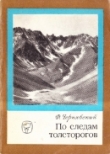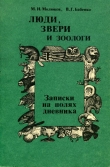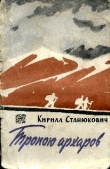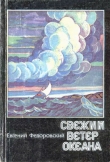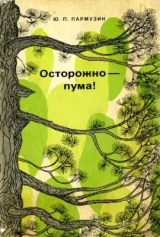
Текст книги "Осторожно - пума!"
Автор книги: Юрий Пармузин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 11 страниц)
пня. Внутренность пня выгнила, вывалились корни сучков,
образовав дыры-глаза. Внутри пня выросла трава и шевели-
лась от тихого утреннего ветерка. Трава поднималась над
обугленной неровной поверхностью пня, напоминавшей
настороженные уши, и имитировала подергивающееся ухо.
Она же мелькала в отверстиях от сучков, создавая видимость
живых свирепых глаз. При ближайшем рассмотрении ока-
залось, что отверстия были на разных уровнях и разных
размеров и в противоположность «ушам» ничуть на глаза
не походили. Вообще пень был до того большой, что вся
пума, если ее затащить сюда, могла бы свернуться клубочком
в его внутренней части, и, уж конечно, не имел никакого
сходства с мордой зверя, кроме «ушей». Воображение до-
рисовало массу деталей: зубы, на которые здесь и намека
не было, хвост – слегка качающиеся ветви.

Нет, я не тратил много времени на осмотр презренного
пня. Сжатые челюсти разомкнулись, и насвистывание торе-
адора продолжалось именно с той ноты, на которой оборва-
лось, но с еще большей жизнерадостностью.
Маршрут благополучно закончился через три дня и две
ночи. Мой костюм по возвращении в Никольское был в
ужасном состоянии. Новая ковбойка разорвана в трех
местах, брюки прожжены на боку, голые колени свободно
смотрели на мир. Обе подошвы ботинок подвязаны шпагатом.
Лицо и руки в ссадинах и царапинах. Впрочем, не в лучшем
виде возвратились и другие географы.
Маршрут был успешен благодаря крепкому сердцу, но
вообще-то зря нас отправляли по одному!
Была ли это пума!
К сожалению, в тридцатые годы многие исследователи
работали в одиночку. Начальство смотрело на это сквозь
пальцы, а в глубине души даже поощряло: зарплаты меньше
и план выполняется быстрее.
При разбивке триагуляционной сети на юге Дальнего
Востока и создании геодезического обоснования одним из
методов измерений горизонтальных углов был гелиотро-
пический. В солнечные дни гелиотропом с одного геодезичес-
кого пункта на другой подавались сигналы в виде отраженных
лучей солнца – солнечных зайчиков. Вышки – геодези-
ческие пункты – строились на вершинах сопок, и где-то
поблизости жили дежурные гелиотрописты, дожидаясь сол-
нечных дней.
Около месяца стояла пасмурная погода и хлестали
дожди. Наконец долгожданное солнце прервало вынужден-
ное безделье геодезистов. Засверкали зайчики, но с одного
пункта сигналов нет. Нет в назначенное время, нет в до-
полнительное, нет день, нет второй. Что-то с гелиотропистом
случилось, не может же он по три дня спать. Продуктами
и спичками он месяца на три обеспечен, да ягоды, да кара-
бин – можно в тайге прожить даже без продуктов, значит,
с голоду он тоже не умер.
18
Собрали нескольких топографов, врача с прииска, мест-
ного охотника и пошли на пункт, откуда не поступало сиг-
налов. Он был на хребте Эзоп, что разделял воды Буреи и
Селемджи. Идти километров шестьдесят. Проходимость пло-
хая: по долинам болота, в нижних частях горных склонов
густая темнохвойная тайга, захламленная валежником и бу-
реломами. В верхней предгольцовой части тайга оторочена
непролазным поясом кедрового стланика с курумами 1, а
выше гольцы – голые камни. Добирались три дня.
Вышка геодезического пункта стояла на высоком гольце.
Полукилометром ниже, на седловине, где росли редкие
лиственницы, а кусты кедрового стланика были не так густы,
в палатке жил гелиотропист. Весной, когда еще не стаяли
снега на гольце, к седловине бежали ручейки. Воды хоть
отбавляй. Стаяли снега, и седловина высохла. За водой
пришлось ходить к истоку ручья без малого километр вниз
по склону. Гелиотропист не захотел переносить палатку
к ручью – далеко от вышки. Так и ходил каждый день
почти два километра к воде и обратно.
Пришли в палатку. По всему видно, хозяин давно отлу-
чился. На столе, сколоченном из половинок листвянок,
стояли чайник с чаем, подернутым сверху плесенью, кружка
с налетом чая и сахара внутри. Видно, недопит был чай
и вода высохла. Туесок стоял открытый, с позеленевшим
прогорклым маслом. Что-то круглое в виде баранки на столе.
Когда-то это было лепешкой. Середину растащили муравьи,
только сухие края остались. Туда и сюда летали осы, пере-
нося в свои гнезда сахар из раскрытого мешочка. Все гово-
рило о том, что человек ушел из палатки поспешно.
На топчане, как и стол, сделанном из половинок бревен,
лежали раскрытые спальный мешок, будто человек отлу-
чился из него на минутку, и книжка Стендаля «Красное
и черное». Согнулась подтаявшая от тепла свечка. Человек
читал на сон грядущий.
Вещи в рюкзаке, видимо, не трогал никто, кроме него.
Во вьючных сумах фанерные ящики с продуктами: консервы,
крупы, мука, сахар, соль, чай, масло, спички – словом,
полный набор экспедиционных продуктов. Тут же лежал
плащ, стояли резиновые сапоги и другие вещи, необходи-
мые для жизни. Ясно, что не голод заставил уйти человека
без чая. Вещи и палатка в целости, стало быть, и нападения
1 Курумы – крупноглыбовые, медленно двигающиеся по склону каменные
осыпи, характерные для зоны развития многолетней мерзлоты грунтов.
19
не было. Люди? Откуда они в этик нехоженых местах?
Звери, из которых только медведь здесь опасен, ни за что
не нападут на человека летом. Наоборот, если человек долго
живет на одном месте, они постараются уйти отсюда как
можно дальше. Ни денег, ни документов, ни карт или аэрофо-
тоснимков у гелиотрописта не было, не нужны они ему в го-
рах – все это хранилось на базе экспедиции. Значит,
и с этой стороны не могло быть никакого соблазна.
Но где карабин? Ведра тоже нет.
Тропка протоптана от палатки к истоку ручья. Пошли
к ручью.
Недалеко от палатки на траве лежал ватник. Один рукав
вывернут наполовину, видно снят и брошен в поспешности
на ходу. Еще ниже около тропки, накатившись на куст
кедрового стланика, стояла форменная фуражка, поблес-
кивая серебристой кокардой. В то время мы носили формы,
похожие на летные, а на фуражках были серебряные кры-
лышки – аэрогеодезия. Еще ниже по склону (и опять же
на тропе) валялся уже заржавевший карабин. Полна ма-
газинная коробка патронов, и в стволе патрон, и курок на
боевом взводе. Ствол хорошо вычищен и смазан маслом.
Стрелял ли из него вообще гелиотропист? Во всяком случае
из него не стреляли в тот день, когда карабин был брошен.
Около того места, где человек брал воду, валялись набоку
ведро, полотенце и превратившееся в слизь мыло в мыль-
нице.
Вещи свидетельствовали, что на человека никто не напа-
дал, что он не оборонялся и все же панически бежал прочь
от ручья по направлению к палатке. Сначала он оставил
ведро и умывальные принадлежности, затем бросил ненуж-
ный карабин, на бегу у него свалилась фуражка и покати-
лась под гору, и, наконец, видимо уже вспотев, он сбросил
ватник. Однако в палатку он не прибежал. Человек чего-то
боялся, иначе он не стал бы брать с собой карабин, идя по
воду. Пришедшие к гелиотрописту были людьми опытными.
Топографы не один летний период топтали таежные дебри,
следопыт-охотник, врач, за несколько лет работы на та-
ежном прииске ставший и хирургом, и терапевтом, и врачом
судебной экспертизы. Они самым тщательным образом ис-
следовали окрестности и не обнаружили ни одного следа
зверя или постороннего человека. По крайней мере на два
километра в радиусе от палатки наверняка никто не подхо-
дил сюда уже больше месяца. Геодезический пункт тоже был
в полном порядке.
20
Гелиотрописта обнаружили на противоположном от па-
латки склоне гольца. Он лежал ничком на крупноглыбовой
осыпи гранитов ногами вверх по склону. Обеими руками он
закрывал затылок, будто хотел затолкать голову в рас-
селину между огромными камнями. Ни тело, ни одежда не
были порваны, не было и царапин, если не считать неболь-
шой ссадины на лбу, лежащем на камне.
Вскрывший тело врач констатировал разрыв сердца.
Очевидно, сердце не выдержало быстрого почти двухкило-
метрового бега в гору, а возможно и сильного испуга.
Дневник гелиотропист не вел. Письма к матери, жившей

в Новосибирске, были грустные. От них веяло разочарован-
ностью мрачного человека. Он не писал, что его угнетало.
Убитая горем мать рассказала, что он был хилым, болез-
ненным и очень впечатлительным мальчиком. Неудачно,
без взаимности любил девушку.
В экспедиции у него не было ни друзей, ни близких то-
варищей. Никто не помнил, чтобы он с кем-либо говорил
больше одной-двух фраз. Никому в голову не приходило
поговорить с человеком подробнее, узнать, кого отсылают
в длительное одиночество глухой тайги и гольцов, проверить
его психическое состояние.
Однако это не было самоубийством, человек хотел жить,
но его томил какой-то навязчивый страх. Скорее всего это
была «пума».
Самый страшный зверь
Волков в тайге мало, в степях и тундре они чаще встре-
чаются. Кроме того, появись они где-нибудь и попробуй на-
бедокурить – сейчас же целая армия охотников выйдет на
их истребление. Нет, волк не очень опасен для экспедицион-
ных исследователей тайги. В конце концов против него даже
дубинка – оружие.
Рысь слишком осторожный зверь, чтобы попадаться на
глаза и тем более нападать на человека. Если ей не насту-
пишь на хвост, ни за что первая не нападет. А ввиду того
что рысий хвост слишком короток, то наступить на него
почти невозможно.
Общепризнанный хозяин тайги медведь – противник
серьезный. На него с дубинкой не пойдешь – бесполезно:
все равно задерет. Однако первым нападает, только когда
встретишься с ним нос к носу и бежать ему некуда. Бывает,
медведица нападает, когда ей приходится оборонять свое
глупое, необученное потомство – почти всякая мать готова
пожертвовать собой для детей. Но и это случается нечасто,
обычно медведица находит способ отвести медвежат от
опасности.
Несколько лет назад шли мы впятером по красивой
долине Верхоянского хребта. По сторонам вздымались ко-
ричневато-серые остроконечные вершины гольцов в камен-
22
ных шапках. Кое-где на коричневом поле гольцов блестели
снежники. Снег залежался в глубоких тенистых промоинах
до августа. Снизу гольцы опушены сплошной зеленью кустов
кедрового стланика. Ниже этой похожей на зеленый кара-
куль опушки и до самой речки горы покрывало лиственнич-
ное редколесье с ольховниковыми, ивовыми и березовыми
кустарниками. На речных террасах среди лиственничника
то и дело попадались злаково-разнотравные лужайки с яркой
изумрудной зеленью и массой цветов. Лес и пойму раздви-
гала белая кипень наледи – глазам больно от ее блеска.
А речка разбегалась мелкими ручейками по широкой га-
лечниковой пойме, как будто раздавленная мощным льдом
среди зелени растений, и только далеко ниже по течению
все ручейки собирались опять в одно русло. Шаталось
русло от берега к берегу, гремело камешками и укладывало
из них косы то с одной, то с другой стороны. На крутые
берега вода набрасывалась с злобным шумом, подмывала
и рыла котлы под скалами.
Идти по косам как по асфальту: ни болотные кочки под
ногами не путаются, ни кусты за рюкзак не цепляются и до-
рога не в гору – почти ровная. Так вот с косы на косу
и шли мы для сокращения времени. Ночь приближалась,
а до лагеря дойти нужно было обязательно. Там, где речка
мелкая, мы по камням на перекате переходили на противо-
положную сторону, чтобы не лезть на скалы или в прирус-
ловую чащобу, и ускоренным маршем шагали по противо-
положной косе.
Вдруг шагах в пятидесяти увидел я, что с нашей стороны
на противоположную наметом скачет медведь. Бурый, огром-
ных размеров. Я сделал шаг в сторону, чтобы и другим вид-
но было (они шли за мной гуськом).
Вот, говорю, и медведь. Мне-то приходилось с ними
встречаться, а спутникам моим – нет.
Остановились мы и приготовились смотреть, как медведь
удирать будет от нас. Не тут-то было. Он речку перепрыгнул,
встал на задние лапы, а передние так жалостно свесил
и стоит на нас смотрит, уходите, мол, пока я добрый. Мне
никогда не приходилось слышать, чтобы медведь не спешил
убежать от пяти человек. Думаю: неужели любопытство
сильнее страха? На пять человек не больно-то нападешь!
Уверен, этот косолапый не знает, что в нашем ружье патро-
ны только дробью пятым номером заряжены – и ни одного
жакана. Знал бы это, разбросал бы он нас как хотел.
Я громко приказал:
23
– Чего встал? Давай проходи!
Послушался он, опустился на все четыре и еще прыж-
ка три сделал. Как только его скрыли кусты, он опять под-
нялся на дыбы и стал внимательно смотреть на нас – чуть
не плачет.
Что, думаю, за ерунда? Быть не может! Опять закричал
на него еще громче, и тут все мы увидели, как кусты заше-
велились и малыш-медвежонок к матери катится.
А думаю, вот в чем дело: не медведь ты, а медведица,
того давно бы след простыл.
Медвежонок подскочил к матери, вместе они пробежали
немного еще до подъема в гору и опять остановились, опять
медведица на задние лапы над кустами поднялась.
– Да что же ты ваньку валяешь,– кричу,– давай
убегай, пока цела.
В это время зашевелились ветки на вершине листвен-
ницы, которая около медведицы стояла, и вниз начал спол-
зать медвежий близнец. Мелко перебирает лапочками по
стволу, торопится вниз, видно, мать дала какой-то приказ.
Сделает медвежонок несколько шажков по стволу, остано-
вится, обернет башку в нашу сторону, черные глазки-пугов-
ки удивленные: впервой, мол, такие звери в наших дебрях.
Кто такие? А мать не на шутку разволновалась, аж дрожала
вся. Дождалась, когда сын с дерева спустился, шлепнула
обоих, и только кусты затрещали – все семейство шарахну-
лось в гору, только мы их и видели.
Не знаю, стали бы мы стрелять, если бы решили преду-
предить нападение зверя и если бы были жаканы или ка-
рабин? Убить-то было нехитро – три раза спокойно можно
было прицелиться, но уж очень жалобно мать взглядом
нас умоляла не трогать ее: пропадут ведь малыши.
Здесь это упомянуто к тому, что не так-то уж страшен
человеку сам таежный хозяин, даже если это многодетная
мать, готовая вложить всю силу и ярость на защиту потом-
ства,– и она стремится убежать.
В первую свою практику после третьего курса мне
пришлось сразу же столкнуться со зверем, который не
спешил убегать от человека, а это, оказывается, действитель-
но страшно.
Представьте картину: по густой тайге в глубокой задум-
чивости идет студент. Думает он о бесконечных и строго
закономерных связях в природе. Например, забайкальские
граниты, выветриваясь, дают дресву. Дресва делает почву
хрящеватой. Вода легко проникает через хрящ. Солнце
24
глубоко прогревает такую почву и вместе с циркулирующей
водой понижает уровень вечной мерзлоты грунта. Такие
почвы—самое подходящее место для сосны. Ее разветвленные
корни, как в песке, проникают во все стороны. В легких
дресвянистых почвах сосновые корни, наиболее приспособ-
ленные к бедным плодородием почвам, отбирают питатель-
ные вещества и душат другие деревья, позволяя жить под
своим покровом только травам, которым немного нужно
влаги. Травы создают поверхностный гумусовый горизонт,
и в результате в тайге нередко встречаются степные группи-
ровки. А виной всему солнышко. Его лучи почти отвесно
падают на крутые склоны и глубоко прогревают их днем.
С заходом солнца склон сразу начинает охлаждаться, про-
цесс выветривания происходит быстро, и его продукты —
щебень и дресва – также сносятся быстро. В результате
солнопеки– склоны южной экспозиции – крутые и почвенно-
растительный покров на них лесостепной.
По склону северной экспозиции, сиверу, солнечные лучи
даже в полдень лишь скользят, не прогревая столь глубоко
почву, как на солнопеке. Здесь близка к поверхности мерзло-
та. Процесс таяния идет медленно, и поэтому оттаявший поч-
венный слой всегда летом маломощный и более влажный, чем
на солнопеке. Сосне здесь расти трудно, зато хорошо растет
лиственница, приспособленная к холодным и маломощным
почвам. По мерзлому горизонту в деятельном слое вниз
по склону сочится вода, производя обмен веществ и пита-
тельных элементов. На сырой почве лучше растут кустар-
ники, развивается моховой покров, заглушающий травы,
и в результате – дремучая тайга с холодными мерзлотными
почвами. Даже звери на этом склоне другие, чем на солно-
пеке. Они избегают открытых мест днем. На сиверах же
в двух шагах ничего не видно, что тебя ожидает за каждым
кустом.
И как бы в подтверждение этой мысли прямо под ногами
раздался треск, кажущийся ужасно громким среди чуткой
тишины замерших лиственниц. Из-под ног взметнулось
что-то коричневато-серое, как будто взрыв мины поднял
участок земли. Что-то стремительно вылетело вперед и,
как взрывная волна, с треском, ломая сучки, понеслось
перед тобой. Естественно, инстинктивно весь сжался. В голо-
ву ударила кровь, не дающая подыскать нужного и правиль-
ного решения о форме защиты. Руки хватаются за что попало,
но не успевают сорвать ружья, если оно даже у тебя есть.
Й только через несколько мгновений, когда чуть-чуть
25
обрел способность соображать, различил куцый хвост над
белым задом, стремительно удаляющийся по прямой в на-
иболее густые кусты. Когда до сознания, наконец, доходит,
что это заяц, он уже успел исчезнуть. На лице появляется
глупая улыбка, означающая в первую очередь, что ты жив,
и что легко отделался, и что опасность миновала, и вообще-то
в сущности ее не было!
Если ты даже не один, все равно будешь напуган не мень-
ше и, смущенно оглянувшись, чтобы убедиться, не заметил
ли спутник твоего смешного испуга, обязательно скажешь:
– Шутник косой.
Нет, медведь не страшен в тайге, потому что он зверь рас-
судительный и уходит подальше, как только почует человека,
а его чутье очень тонкое. Этот же дурной грызун лежит до
последнего и, уж когда почувствует, что нога готова опу-
ститься на его прижатые уши, срывается, чтобы напугать и
исчезнуть, пользуясь твоей растерянностью. Самый страш-
ный зверь!

Спички
Широкое устье болотистой пади раздвинуло и взлохма-
ченные тайгой сопки, и гранитные скалы, отполированные
Огоджой – капризной, как все дальневосточные речки. По
сухим бугоркам на днище пади наспех в беспорядке разбро-
сали геологи десяток избушек, баню, продовольственный
склад и назвали Угольным Станом. В обрыве террасы из
днища пади прямо к огоджинской воде выходил угольный
пласт северной окраины Буреинского угольного бассейна.
На юг, до водной дороги Буреи, было двести километров
через дикий хребет Турана. На север, до автотракта Норск—
Экимчан, что извивался вдоль Селемджи, всего сорок семь.
Зимой на нартах и даже на автомашинах по льду Огоджи
легко сюда завести и людей, и продукты, но летом пройти
эти сорок семь едва ли легче, чем двести до Буреи. Тропка,
еле заметная в таежной чащобе, то взбиралась на туран-
ские кручи, то зарывалась в мари падей или тонула в речках.
Как только начинались муссонные дожди, сорок два брода
через малые речки и лодочная переправа через Селемджу
накрепко запирали проход к Угольному Стану. Крутые
сопки, скованные вечной мерзлотой, не принимали ни кап-
ли воды в свои недра и сбрасывали ее в пади. Каждый
27
ерундовый ключик превращался в бурный поток, сбивая
с ног не только пешеходов, но и лошадей, а об Огодже и
говорить не приходится. Она собирала воду множества речек,
ручьев и ключей и после каждого дождя вздувалась, налива-
лась злобной мутью и, ревя, как стадо фантастических зве-
рей, громила берега, катила по каменистому дну валуны,
кидалась галькой, вырывала с корнем прибрежные листвен-
ницы. Гранит не выдерживал ее пьяного буйства, и в такие
дни со скалистых берегов грохотали обвалы.
Уголь разведали, подсчитали запасы, но разрабатывать
пока не стали: трудно без дороги спорить с Огоджой. Прежде
чем строить дорогу, нужно иметь топографическую карту.
Так и бросили поселок, оставив на всякий случай сторожа
с женой охранять склад, набитый продуктами и буровым
оборудованием. В этом-то Стане и расположилась база
нашей топографической партии. Геодезист – начальник
партии, завхоз, принявший содержимое склада и поселок
от «Углеразведки», молодой радист с радиостанцией, две
жены топографов (одна – бухгалтер, другая – чертеж-
ница) и, наконец, повариха, она же прачка и уборщица.
Топографы, рабочие, оленеводы и мы, географы, расходи-
лись по тайге создавать первую для этих мест топографи-
ческую карту.
В конце каждого месяца в Угольный Стан со всех сторон
сходились оленеводы из полевых отрядов. Они привозили
наши отчеты о выполнении планов съемки, получали руко-
водящие указания и, наполнив пустые торбы продуктами,
уходили обратно в тайгу. Угольный Стан был нашей поле-
вой столицей и пределом мечтаний женатых топографов.
В конце августа, когда в наши, хотя и невысокие, горы
в верховьях бассейна Огоджи приползли ночные заморозки,
мой отряд встретился с отрядом топографа Михаила Ивано-
вича Вершинина. Встреча в безлюдной и бездорожной тай-
ге – радостное событие, тем более когда промокший при-
ходит в давно стоящий лагерь. После обоюдного обмена
новостями и производственным опытом разговор повернул
на бытовые темы.
– Слушай, промерз до костей, нет ли чего выпить?
– Ничего не осталось.
– А НЗ?
Неприкосновенный запас медицинского спирта, поло-
женный на каждый отряд, выдавался для борьбы с про-
студными заболеваниями после вынужденных купаний в
здешних ледяных водах. Однако то ли потому, что купания
28
были слишком часты, то ли из-за способности спирта быстро
испаряться, но так или иначе спиртовые фляжки станови-
лись сухими чуть ли не сразу после их наполнения.
– Какой там НЗ! Еще в июне, как раз в мой день рож-
дения, промокли вдребезги.
– Какое совпадение! Да что НЗ, мы уже второй день
на одних рябчиках живем.
– Да и у меня сухари в позеленевшую крошку истолк-
лись. Спички кончаются.
– Слушай, а ты послал отчет?
– Нет.
– Давай завтра возьмем по рабочему, одного оленевода,
всех оленей и махнем на Угольный Стан. Ребята тут рас-
чисткой просек займутся, а мы тем временем сдадим отчет,
в баньке попаримся – второй месяц не мылись.
– Баня-то куда ни шло, и без того каждый день то ванну,
то душ принимаем – дожди да броды замучили. А самое
вредное – кусты похлеще всякого банного веника проди-
рают. Ни одного дня за два с половиной месяца сухими не
были, только и сушимся ночью. А вот по жене и по радио
соскучился. Идем!
План с расчетом материальных сил, средств и обязан-
ностей был составлен моментально. День туда, день обратно,
день и две ночи на Стане. На пять уходящих по два куска
сахара, по два сухаря или пригоршня сухарных крошек,
табаку на десять папиросок. В лагере остается полторы
пачки махорки, крупа, чай, соль на четыре дня, сухарной
крошки – на два...
– Ничего, перебьетесь! В крайнем случае на рябчиков
нажимайте, дробовики вам оставляем. С собой берем только
карабин – вдруг медведь попадется.
– А спички? У кого есть спички?
У каждого обнаружилось от трех до семи спичек. Соеди-
нили все спички в две коробки. Сорок спичек остающимся,
восемнадцать – уходящим. Кроме того, в моей сумке ле-
жала почти полная коробка, завернутая в бересту. Об этом
НЗ я никому не сказал, а возможно, даже и забыл в тот день.
Остающимся посоветовал спичек не тратить, а поддерживать
костер круглые сутки и уж во всяком случае прикуривать
только от костра.
На следующий день, чуть забрезжило, сводный отряд от-
правился в путь. Утро выдалось ясное, солнечное после лег-
кого заморозка. Впереди ждали нас двадцать пять километ-
ров бездорожной дальневосточной тайги. Тайга везде тяжела
29
для ходьбы, а дальневосточная особенно. Идти по ней
не соскучишься – путь насыщен острыми ощущениями.
Развлечения начались сразу же на мари. Она простира-
лась полосой в четыре километра между лагерем и Огоджой.
Болото неглубокое, провалиться можно на полметра, редко
на метр, не глубже. Ниже его подстилает окаменевший
мерзлый слой грунта. Но вечномерзлый грунт делает воду
очень холодной, а мох хранит холод, скупо пропуская
солнечное тепло. Поверхность мари усеяна кочками. Чем
ближе к ручьям и речкам, тем выше кочки, а вода глубже.
Хорошо оленям – они «обуты» в меховую непромокаемую
шкуру, а копыта раздваиваются на мягком грунте и не про-
валиваются наподобие лыжных палок. Другое дело мы.
Обувь у нас хоть и резиновая, но с дырами. Как только
мы получали спецобувь, так сразу же провертывали дыры
около подошвы для того, чтобы вода выливалась свободно.
На Дальнем Востоке, как ни берегись, все равно вода на-
полнит сапоги, а каждый раз разуваться и выливать воду
невозможно – работать некогда будет.
Хождение по кочкам дальневосточной мари сродни цирко-
вому номеру хождения по проволоке. Нужно иметь отлич-
ный глазомер, обладать совершенным чувством равнове-
сия и уметь точно рассчитывать силу мышц, чтобы, прыгая
с кочки на кочку, во-первых, попасть на мизерную ее по-
верхность и, во-вторых, чтобы удержаться, когда это отнюдь
не монументальное сооружение из торфа и осоки начнет,
как живое, выворачиваться из-под ноги. Большинство
таежников ходят, не обращая внимания на кочки, это эко-
номит силы. Ну а рабочий моего отряда Иосиф Матюков
таежником не был и не постиг мудрости пренебрежительного
отношения к кочкам. Он не любил мочить ног и поэтому
передвигался прыжками, чтобы возможно меньше вода
попадала в его чуни.
Рослый и предприимчивый человек, он всего год назад
плавал механиком на малых судах дальневосточного торго-
вого флота. В тайгу он попал впервые, совершенно не
понимал ее очарования и здорового физического труда на
лоне дикой, не испорченной человеком природы и в сочных
выражениях проклинал тот день и час, когда он попал в
экспедицию.
Раз двадцать оступившись и раза два распластавшись
в болоте, он, наконец, оставил изнурительные прыжки.
Шлепая по торфяной жиже, он проклинал вселенную, ее
создателя и ни в чем не повинное человечество.
30
– Я вычеркиваю это паскудное лето из жизни! Разве
можно такое называть существованием?! И почему якуты не
вырубят эту гнусную тайгу? Ведь можно же гати постро-
ить – вон сколько леса!
Внезапно размеренная, в такт шагам речь прерывалась
быстрым речитативом. Это означало новое крушение. Иосиф
спотыкался и, стараясь сохранить равновесие, подпрыгивал.
Но ноги, опутанные багульником, отставали от получив-
шего поступательную инерцию туловища. Вытянув руки
вперед, он шлепался, подняв тучу брызг, и погружался
в мягкую торфяную постель. Карабин, болтавшийся у него
за спиной, по инерции продолжал двигаться, когда тело
уже закрепилось в болоте. Ремень не давал карабину пере-
лететь через голову Иосифа и с силой в четыре килограмма
вдавливал ее в холодную воду. Из-под бурой жижи разда-
ется бульканье. Поднимаясь, он первое время обчищается.
Но из-за частых падений работа по очистке костюма остав-
ляла его далеко позади всех идущих. Он бросал наводить
лоск и шел весь в буром торфе, с листочками багульника
в виде совокупного прообраза лешего и водяного.
Отряд еле поспевал за оленеводом – эвенком Николаем
Соловьевым, который без всякого усилия, как по торной
дороге, шел в своих олочьях впереди связанных цугом оле-
ней. Четыре километра по мари уже основательно вытряс-
ли наши силы, и, достигнув Огоджи, отряд сделал привал.
Разложили дымокурчик от докучливых комаров, закурили.
Впереди еще оставалось двадцать с гаком километров ка-
менистых сопок, густых еловых зарослей и марей.
Дождя давно не было, и Огоджа обмелела. Во многих
местах выступили отполированные валуны и скалистые
выступы. На каждом перекате можно было перейти вброд
ниже колена. Вода, недовольно ворча, разбегалась в слож-
ном лабиринте камней мелкими струями и бежала прямым
сообщением к Угольному Стану. До Стана, судя по карте,
было всего семнадцать километров легкой водной дороги.
Однако почему-то Соловьев обходил ее, делая большой
крюк по сопкам. Мы курили и думали: почему? На этом
участке съемка не велась, еще не было аэрофотоматериала,
и никто из нас не знал места.
Общую мысль выразил Иосиф:
– А что, братцы, сделать нам, морякам, пару саликов
да вниз по матушке Огодже? Коля, таежная душа, один
доберется со своими рогатиками – мы же скорее его при-
плывем.
31
– Да, это, конечно, легче,– согласился Вершинин.
Но обычно спокойный Николай энергично заявил:
– Плыви не нада! Его низю ходи, камень шибко боль-
шой. Плыви не могу, ходи не могу. Шибко его худой места!
– Ну где для якута «плыви не могу», моряк проплывет.
Похуже места видели,– возразил Иосиф, называвший почему-
то всех нерусских дальневосточников якутами.
– В крайнем случае пойдем пешком по долине, – согла-
сился я.
Только Грязнов, рабочий топографического отряда Вер-
шинина, таежный старатель, молчал и неодобрительно
посматривал на нас. Однако совещание большинством го-
лосов решило вопрос в пользу плотов. Соловьеву приказали
ехать и, если он приедет раньше нас, затопить баню.
– Мине баня завтра топи. Ваша тайга ночуй,– заявил
он мрачно.
Но в тайге, как в армии, приказ есть приказ. Николай
отдал нам топор, забрал карабин и, взобравшись на учига,
качнувшегося от его легкого тела, поехал через реку, оста-
вив нас в весьма бодром настроении.
Мы, конечно, знали, что семнадцать километров по карте —
это еще не семнадцать на самом деле. Для тех мест карта
крупного масштаба была составлена на основании рас-
спросных данных и грешила многими неточностями, а иногда
просто не отвечала действительности. Мы также совершенно
не знали характера Огоджи. Однако она не вызывала у нас
тревоги: текла прямо на север, к базе партии, она, каза-
лось, обещала быстро доставить нас туда. Кроме того, по
небу плыли белые облачка, ласково пригревало солнышко,
чуть-чуть веял ветерок. Подумаешь, семнадцать – двадцать
километров!
Работа закипела. Срублены две засохшие лиственницы.
Каждая разрублена на три части. Три бревна связаны при-
брежным тальником, скрученным наподобие веревок. Через
два часа два салика были готовы. К моменту их спуска
на воду к солнышку подобралась облачная муть и прогло-
тила его. Похолодало. Но, разгоряченные работой, мы не
ощущали никакого холода.
Закурив последний раз, мы съели все запасы продоволь-
ствия – нечего экономить, до «дома» всего семнадцать
километров. Взглянув на небо, кто-то сказал:
– Кажется, сегодня вымокнем.
– Черт с ним, не привыкать!
С этими словами мы и отчалили. С первых же шагов
32
«морского» путешествия наша уверенность в скором и лег-
ком достижении цели начала испаряться. Салики из тяже-
лой лиственницы сидели глубоко в воде и ни за что не же-
лали изгибаться, чтобы лавировать между камнями. Они
обязательно натыкались на каждый из них и застревали,
садились на мель. Мы высаживались на камни, скользили
и падали в воду, пытаясь поднять неподъемную древесину.
Над речной гладью неслось кряхтенье. От криков «раз,
два взяли» разбегались все звери и разлетались рябчики