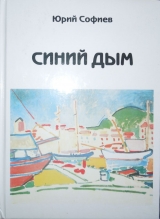
Текст книги "Синий дым"
Автор книги: Юрий Софиев
Жанры:
Поэзия
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 14 страниц)
Небольшая группа русской молодежи, по преимущественно студентов Белградского университета, организовала кружок молодых поэтов «Гамаюн». Наиболее тесным звеном в него вошли три студента этого университета: Илья Голенищев-Кутузов, Алексей Дураков и я.
Этот кружок был создан для ознакомления литературной публики с нашим творчеством и издания коллективного сборника, необходимого для самоутверждения. Мы нашли русского предпринимателя, который увлекался поэзией и прочими искусствами, владеющего каким-то подвалом в углу двора большого дома, где он содержал русский кабачок. Его уговорили стать меценатом. Два раза в неделю – в субботу и воскресенье – он должен был организовывать в своем подвальном кабачке выступление поэтов и артистов – это привело бы к наплыву публики, и, соответственно, росту прибыли за счет консомаций [Консомация: напитки и закуска, подаваемые в ресторане. – прим. Ю. Софиева].
Вход в кабачок был бы бесплатным, но и литераторы конечно, тоже выступали бы бесплатно, зато приобретали бы известность, популярность, аудиторию, а правление кружка получало бы от этой прибыли известный процент, и эта сумма составила бы основу для фонда издательства.
Подвал решено было отделать под «Бродячую собаку». Правда, выяснилось, что никто в московской «Собаке» не был, то ли по малолетству, то ли потому, что никто из нас просто не был Москве. Однако наши молодые художники расписали подвал по Ахматовой:
На стенах цветы и птицы
Томятся по облакам…
Вскоре появилось объявление в русской газете, что в такие-то дни будут выступать в таком-то кабачке молодые поэты и артисты. И публика действительно повалила, а потом появилась в этой же газете доброжелательная заметка: «В гнезде певчих птиц». Там подробно описывались выступления молодых балерин, певиц и певцов, музыкантов и поэтов. Было упомянуто и о нас троих.
Илья любил читать самоуверенно и энергично:
Зелень святая вечного лавра
Увенчает кудри мои.
Я победил и поверг минотавра,
Вековечный ужас земли!
Концовка была менее самоуверенной:
Где же твоя, Ариадна,
Путевая тонкая нить?
Мы, конечно, знали «Ариадну» – нашу однокурсницу по факультету, славную и ловкую девушку, ходившую необычайно легкой и стремительной походкой, с теннисной ракеткой под мышкой по улицам Белграда. Рядом с ней топал Илья в своей чёрной широкой шляпе и в своем знаменитом плаще, закинув одну полу его на плечо. Надо сознаться, что, по окончании университета перебравшись во Францию, она предпочла Илье, несмотря на многочисленные и пылкие стихи о ней, какого-то французского виконта и уехала с ним за океан, в Америку.
Знакомый корреспондент в той же заметке рассказал и о Дуракове о его прелестных лирических стихах. Алексей в то время тоже был влюблен в одну русскую красавицу, которая так же, как и Кутузовская «Ариадна», не особенно реагировала на пыл своего ухажера. Но Алексей описывал свои чувства, живописал свою пассию в искренних, простых, лирических стихах и с восторгом читал их всюду, в том числе и в кабачке:
Стали дни по-весеннему долги.
Синеватые вечера.
Ночью звезды точно осколки
Золотистого серебра.
Но тебя, что светила зимою,
Мне средь них никак, не найти.
Видно, будешь этой весною
Золотить не мои пути.
И в стране иной, нездешней.
Золотистый заметя твой след.
Залюбуется сумасшедший
Вот такой же, как я, поэт…
Красотой непонятной и колкой
Обратишь его сердце в погост,
А любовь в золотые осколки
Самых жарких и ярких звезд.
………………………..а во сне
Приходят Дант и Беатриче
Как гости светлые ко мне.
Я же читал «По ночам оживают игрушки…» А затем рассказывал о нашей «значительной» болтовне с моим «мудрым» шутом* [Вероятно, отец имел в виду Аничкова. – прим. Ю. Софиева.]
Мне почему-то казалось, что наши человечные, «мудрые» беседы должны были интересовать и слушателя. Действительно, благодаря исключительной благожелательности моих друзей, этот злосчастный шут стал достаточно популярен в Белграде, конечно, среди русских.
В итоге наш меценат честно и щедро отсчитывал нам положенные проценты с прибыли и наша подвально-поэтическая деятельность привела к изданию коллективного сборника «Гамаюн». Выборная редколлегия из наиболее активных и «обещающих» приступила к отбору материала. Что греха таить – в основу ее деятельности был положен принцип: «свобода, равенство, братство», равенство и братство для членов редколлегии. Ничем не обузданная свобода редколлегии в отношении остальных участников «Гамаюна». Их было тоже не менее шести человек, но на их долю досталось не более четверти намеченных Сборнике страниц. Наше дружное звено целиком входило в редколлегию, и, как все остальные сочлены, на основе упомянутого принципа мы тиснули в сборник по десять стихотворений.
Появление сборника было отмечено в прессе. Белградское суворинское «Новое Время» обрушилось на нас с Ильей за «футуризм и заумь», хотя футуризмом там и не пахло! Обрушилось с ядовитым сарказмом и иронией. Правда, теперь я бы сам написал о своих тогдашних стихах с таким же «ядовитым сарказмом и высокомерной иронией». Но тогда мы с Ильей были счастливы, что Суворин наши стихи обругал. Тем более, что профессор Аничков к ним отнесся вполне милостиво.
Дуракова и Елачича они снисходительно потрепали по плечу.
А «наиболее обещающим» был объявлен некий поэт, особенно рьяно ратовавший за «колокольный звон», «березки» и «Воскресение России под двуглавым орлом».
Во всяком случае, это была наша первая публикация – 1923 год. Впоследствии я считал первой моей публикацией стихи, напечатанные в журнале «Звено» в Париже, в 1926 году, под редакцией Георгия Адамовича. В этот год я не был еще ни с кем знаком, просто послал стихи в редакцию журнала и был очень счастлив, когда их обнаружил в печати.
После выхода сборника «Гамаюн» распался. С несомненностью выяснилось, что члены этого кружка оказались столь разнородными, столь враждебными друг другу по вкусам, по литературным направлениям и, наконец, по политическим взглядам, что всякое мирное сосуществование было немыслимым.
Разложение «Гамаюна» способствовало образованию в русском Белграде литературного кружка «Одиннадцать», названного так по количеству участников. Само название указывало на замкнутость кружка, не склонного к расширению. Как он возник? Профессор Е.В. Аничков был не только нашим университетским учителем, скоро у нас сложились с этим чудаковатым, великодушным стариком очень простые, искренние, сердечные и дружеские отношения.
Старик жил за городом, в дачной местности Топчидер, снимая там маленький домик с садом. Жил он одиноко, ждал дочку, которая должна была приехать из Америки. Чудесный, по-русски гостеприимный хозяин, он принимал нас очень мило и запросто, как своих близких родных.
Зная наши пустоватые студенческие желудки, он нас постоянно подкармливал, и мы, хотя и со стыдом, но все же на это соглашались, так как деваться нам было абсолютно некуда.
За главного повара выступал Алексей Дураков, меня он брал в помощники, Илью (Голенищева-Кутузова) мы считали для этого дела совершенно не пригодным и отсылали его беседовать с профессором. Мы слышали, как он шумел, острил, хохотал и сыпал цитатами на всех известных ему языках.
Мы с Алексеем обычно приготовляли вареную свежую капусту с рубленым мясом, добавляя большое количество масла. Была также какая-нибудь закуска, на третье подавали сыры, фрукты, черный кофе. К сему полагалось и небольшое количество сухого вина.
Мы бы, конечно, довольствовались и гораздо более простой пищей, но наш хозяин требовал некоторого разнообразия. Когда подавали обед, Алексей орал: «Коллеги, прошу к столу!» – и всегда, по старой гардемариновской привычке, добавлял: «Как видите, харч приготовлен в изобилии».
Евгений Васильевич (Аничков. – И.С.) был хорошо светски воспитан и потому всегда держался естественно и просто. Любил нам рассказывать о Блоке, о Вячеславе Иванове, о его «башне» и множество веселых литературных анекдотов. Мы, конечно, слушали, развеся уши!
Аничков был сложным и противоречивым человеком. Но что было для нас бесспорным – это сияние его большого человеческого сердца. Над некоторыми его выходками мы с Ильей посмеивались. Вообще, он был большой оригинал. Илья рассказывал, когда Аничков преподавал у них словесность, ему однажды устроили бенефис. Когда он вошел в класс, поднялся шум, лай, мяуканье и прочие безобразия. И вдруг, совершенно спокойно, профессор встал на четвереньки – лицом к аудитории – залаял и выбежал из класса. Все обалдели. Раздался смех, а кто-то из учеников сказал: «Стыдно нам устраивать бенефис такому профессору, все равно он даст нам несколько очков вперед!»
Был и я свидетелем подобной сцены. Мы сдавали коллоквиум, передо мной отвечала знакомая нам всем студентка Попова. Сдавали мы по А. Веселовскому «Боккачио, среда, современники». Попова была разумной студенткой, это знали все мы и знал профессор. Но вдруг что-то случилось с Поповой. Она была застенчива, очень волновалась.
– Ну, успокойтесь, милая барышня, и расскажите мне о вилле д'Альберти, – сказал Аничков.
– Это, это были такие итальянские короли…
– Ну, знаете, вы же после каждой лекции обязательно пристаете ко мне, спрашиваете о литературе, что прочитать, и читаете, и отлично знаете предмет. Дайте вашу уписницу, так вам и поставим: «весьма удивительно». – И поставил: «В.У.».
Интересна была его биография.
Он ненавидел кайзера и немецких милитаристов и потому в 1914 году, будучи уже немолодым петербургским приват-доцентом, а может даже и профессором, пошел добровольцем на войну и поступил в 13-й драгунский полк, по-видимому, младшим офицером. Потом он попал в экспедиционный корпус во Франции. Уже во Франции, когда я работал в Монтаржи на каучуковом заводе, со мной работал русский журналист. Во время первой мировой войны он тоже был офицером в экспедиционном корпусе, был редактором военной газеты при каком-то штабе и мне рассказывал, что у него в редакции газеты работал Аничков. Когда Россия вышла из войны, Е.В. Аничков решил кончать войну с французами во Франции. Он был переведен в спаи – арабскую конницу, и мы смеялись, что он ездил на верблюде. По окончании войны он попал со своими спаи в Северную Африку, где получил приглашение приехать в Белград, в университет, на должность профессора.
Евгений Васильевич слез с верблюда и стал читать лекции в качестве ученого мужа. Любой человек, прошедший через войну, обычно до конца своих дней вспоминает прожитые годы. Но Аничков не был простым кавалерийским офицером. Это был культурный ученый человек, образованный, радикальный русский интеллигент, друживший с Вячеславом Ивановым, Александром Блоком, Максимом Ковалевским и другими личностями из творческих верхов русской интеллигенции. Человек, полный чувства юмора.
Мне вспоминается один анекдот, который любил рассказывать Аничков. Его драгунский разъезд уходил от немецкого разъезда, превосходящего силой и количеством. И вдруг дорогу им преградил длиннющий, без конца и края, забор. Аничков остановил разъезд, построил его крупами лошадей к забору и скомандовал: «Осади назад!» Лошади опрокинули забор, и разъезд ушел и спасся от немцев. «Вот видите, – говорил Аничков, – любой кавалерийский офицер попытался бы взять забор, как барьер, а я сразу сообразил, что через него не перепрыгну, и несколько моих драгун тоже, и нас бы догнали немцы». А потом вся дивизия смеялась, как Аничков ушел от врага.
Аничков был человеком безусловно одиноким. От своих коллег-профессоров он держался как-то в стороне. Вернее, с ним не общались. В Белграде сближение с таким человеком могло привести к неприятным последствиям, так как Е.В. Аничков именовал себя «независимым социалистом». Что это означало, мы не совсем понимали, но мне льстило, что мой профессор считал себя социалистом, так как я тоже причислял себя к социалистам и независимость принимал как внепартийность. В те годы это понятие носило общемировоззренческий характер и сильно отличалось от партийно-догматического понимания этого термина, которое оно приобрело впоследствии в СССР. Да и само понимание социалистической революции у нас в то время было крайне расплывчато.
Живя в эмигрантской белградской среде, объявить себя социалистом было с его стороны и смело, и мужественно, потому что за это жестоко травили в русском обществе и в прессе. Суворинское «Новое Время» травило Аничкова вовсю.
Аничков читал на французском языке курс романской фонетики и, я не помню, еще что-то. На русском же отчаянно пропагандировал идеи своего учителя Веселовского, присовокупляя к тому и свои. Для нас он читал курс «Русского освободительного движения». Это был курс истории прогрессивной русской интеллигенции в своей борьбе с русской монархией. Аничков пытался быть объективным и рассказывал нам о славянофилах и даже о таком реакционере, как Константин Леонтьев. Аничков не был народником, не был эсером и любил упоминать о споре Герцена с его противниками, настаивавшими на том, что крестьянская земельная община не является залогом социализма, потому что крестьянин-де переносит чувство собственности с земли на инвентарь и о земельке мечтает, как о своей.
В суворинской газете Аничкова называли «большевиком», советовали ехать в Советскую Россию и писали, что старый интеллигент в своих лекциях «развращает здоровую русскую молодежь, ратует против монархии, и потому эти лекции надо запретить». К счастью, лекции не запрещались, мы их с удовольствием слушали. Нужно сознаться, некоторые студенты Аничкова побаивались. Он им казался недостаточно понятен. Дело в том, что профессор говорил, писал и читал свои лекции как-то очень импрессионистски, разбрасывался, увлекаясь чувством, как бы рвал внешне логическую связь, уводил свои мысли куда-то в сторону, причем очень любил цитировать источники на всех прошлых и настоящих языках мира, совершенно не считаясь с уровнем культуры аудитории. Русские студенты кое-как знали сербский, очень немногие – французский и немецкий и смотрели на профессора в полном недоумении, хлопали глазами, ни черта не понимали.
Как-то профессор Зенковский жаловался мне на Аничкова: «Сидим мы с ним в русском кафе. Евгений Васильевич так громко говорит, что все обращают на нас внимание, и вдруг произносит: «А не думаете ли вы, Василий Васильевич, что наше ремесло похоже на ремесло кафешантанных певичек? Мы тоже работаем под аплодисменты, только они поют чужие вещи, а мы даем творчески свое». Ну, знаете… и все это слышат. Я чувствовал себя весьма неловко и неприятно. И потом, эти постоянные упоминания о его знаменитых приятелях, о современниках, тут и Блок, и Вячеслав Иванов, Максим Ковалевский, Александр Веселовский и т. д. и т. п. Ведь он сам достаточно известен, сам достаточно большой человек, а это постоянное упоминание о своих знаменитых друзьях только умаляет его собственное достоинство. Ведь вы знаете, его «Весенние обрядовые песни» и до сего дня имеют большую ценность и большое научное достоинство!»
Я в душе смеялся, конечно, что Евгений Васильевич так здорово подкузьмил этого елейного богослова и философа. Да еще и публично!
Правда, были у Евгения Васильевича и странные тенденции. Любил он жаловаться: «Вот вы подписываетесь под своими стихами: Юрий Софиев или Алексей Дураков – и всем ясно, что вы поэты. А я всюду только Е.В. Аничков, и все знают, что я профессор, покрытый густой научной пылью европейских библиотек, а скажу вам откровенно: всю жизнь мечтал подписываться: Евгений Аничков под моей поэмой или под каким-нибудь другим художественным произведением!» И нужно сказать, что в эмиграции он-таки выпустил свою книгу, где на заглавном листе значилось: Евгений Аничков, роман «Язычница» – на наше большое огорчение, потому что, по-нашему мнению, это большой славы нашему профессору не прибавило. Илья, за глаза, конечно, называл роман «Яичница» и отнесся к нему весьма критически. Героиня его отчасти смахивала на дочку автора, которая, кстати, приехала и жила с отцом в его маленьком домике с садом.
Роман был написан в манере Аничкова, о которой я говорил выше. Тут фигурировали и длинные черные метенги, и черные высокие чулки, натянутые до бедер, множество талантов и, конечно, мистики, смешанной с сексуализмом, и, если мне память не изменяет, был сунут и Христос.
Тайно Евгений Аничков писал и поэму. И читал нам ее. Мы с Алексеем слушали с открытыми ртами, а Илья делал серьезные критические замечания своему учителю, и учитель с уважением и вниманием выслушивал своего ученика. Я, к сожалению, не помню всего сюжета, но запомнил какую-то прелестную даму «Ренессанса», которая водила по улицам города на цепочке чудесного маленького беленького завитого ягненка. Мы были очень молоды, откровенно говоря, очень неопытны, и потому наши суждения о творчестве Евгения Аничкова могли быть весьма сомнительными. К сожалению, у меня под рукой нет материала, чтобы сейчас проверить наши суждения. Может быть, и роман «Язычница» был не так плох, как нам казалось.
В это же время Евгений Васильевич начал, по его же выражению, «лермонтовать». Какое-то парижское издательство заказано ему переиздать Лермонтова с большой вступительной статьей и с комментариями. Аничков обложился старыми изданиями, распотрошил их и стал подклеивать, ставить по местам и писать научную работу. Делал это он всегда по-серьезному и по-настоящему. Уже будучи в Париже, мне довелось услышать отзыв о ней такого злого умницы, как Вячеслав Ходасевич. «Вот, – восклицал он, – говорят, дурень-автор, а ведь написано и сделано отлично. Умно, оригинально и профессионально. Нет! Автор молодец, сделано хорошо!»
Я был очень польщен за моего учителя. Ведь отзыв-то был дан Ходасевичем!
Здесь, на Топчидере и был задуман и создан литературный кружок «Одиннадцать». Выдумали его, конечно, Аничков с Ильей, а мы это дело поддержали. В основу кружка была положена хорошая человеческая дружба молодых людей, любивших искусство, взаимное уважение и взаимное признание известных достижений, в какой-то мере вера друг в друга. Аничков видимо, надеялся, что из этих дружеских отношений сложится и идейная близость в искусстве.
В состав «Одиннадцати» входили три молодых художника и скульптор, работающие декораторами в «Народном Позорище» – Государственной Опере – под руководством известного русского художника, члена «Мира искусства».
Самый молодой и, пожалуй, самый талантливый, Владимир Жедринский, он очень скоро выдвинулся: ему поручили постановку какой-то оперы, кажется, «Князя Игоря», и он ее блестяще выполнил. Он стал заметен среди художников-постановщиков и самостоятельно поставил целый ряд балетов. Кроме того, Жедринский был талантливым карикатуристом, и его привлекла к себе на постоянную работу большая газета «Политика». Он совмещал эти две должности – театрального постановщика и карикатуриста.
Жедринский прочно вошел в югославскую художественную культуру, но после войны, в период наших разногласий, решил покинуть Югославию, так как не хотел участвовать в антисоветских выступлениях* [* Фамилии трех других художников, насколько я помню: Вербицкий Загороднюк и Исаев, кто из них скульптор – не знаю. Целую страницу, где, по-видимому, описывалась их судьба, в архиве отца я так и не нашел. – прим. Ю. Софиева].
В кружок еще входили четыре поэта: старший из нас – Гавриил Елачич, Алексей Дураков, Илья Голенищев-Кутузов и я.
Аничков считал себя рядовым членом да еще в последнем ряду, хотя мы все знали, что именно он и является организатором и заправилой. Он привлек к кружку каких-то двух артистов, которые никогда на наших заседаниях не появились, и я их никогда не видел.
Мы несколько раз в неделю собирались в декоративном ателье Оперного театра, где на антресолях, в маленькой комнатушке, жили Жедринский и Вербицкий. Собирались довольно поздно, после одиннадцати, а расходились под утро или совсем утром. Мы приходили обычно вчетвером: профессор и три поэта. Все уже были в сборе. Художники расставляли по стенам свои новые вещи, Аничков говорил об эстетике, спорил с Загороднюком, поэты читали стихи, шло беспощадное обсуждение и честная, откровенная критика.
Здесь же обсуждалось так называемое «Арионово действо», с которым мы должны были выступить перед публикой. Выдумали это «действо», конечно же, Аничков и Голенищев-Кутузов, но шло оно довольно медленно и довольно неудачно. Вот в чем оно заключалось: каждый из нас имел свою кличку, она должна была выражать самую нашу сущность, наш подлинный «лик». Илья носил кличку «дежурный поэт» – это означало, что именно Илья стоит на страже российской поэзии и должен присматривать за ней, и тут же сразу возникало некоторое недоразумение. Для Аничкова и Ильи сущность русской поэзии заключалась в символизме, хотя в ту пору символизм был не единственным течением и даже уже тогда уходил в прошлое. Дураков и я восхищались стихами Блока, он влиял на нас и духовно, и идейно. Утверждения символизма, все эти «золотые мечи, направленные в фиолетовые миры», нам были совершенно чужды. Мы обожали стихи Ахматовой, она тоже оказывала на нас известное влияние, хотя общеизвестно, что Ахматова никакого отношения к символизму не имела. Мы писали простые, лирические, в то время определенно несовершенные стихи, самозабвенно любили русскую поэзию и старались ей самоотверженно служить, эпигонами символизма не собирались быть.
Илья через Аничкова рос и развивался у Вячеслава Иванова. Для него символизм звучал в полную меру.
Так в чем же заключалось это «Арионово действо»? Аничков объяснял его так: у Пушкина есть стихи «Арион», в которых рассказывается о кораблекрушении, и его потерпел древний поэт:
Погиб и кормщик и пловец,
Лишь я, таинственный певец,
На берег выброшен грозою.
Я гимны прежние пою
И ризу влажную мою
Сушу на солнце под скалою.
Хотя всем известно, что эти стихи написаны Пушкиным после разгрома декабристов, мы можем считать, что они относятся в какой-то мере и к нам, выброшенным на берег катастрофическим кораблекрушением. К счастью, мы не сидели под скалой, а жили в студенческом общежитии и вместо риз носили свои белые гимнастерки. Но вот пушкинский эпитет «прежние» вызывал у нас некоторые сомнения, и, что греха таить, у нас хватило достаточно и легкомыслия, и наглости, чтобы заменить его на «новые» и поставить этот эпиграф к «Арионову действу»:
Я гимны новые пою
И ризу влажную мою
Сушу на солнце под скалою.
Это я собственными глазами прочитал, когда Илья прислал мне в Париж рукопись «Арионова действа», чтобы я ее просмотрел, вставил, что найду нужным, вписал бы свои стихи. У скалы сидели поэты, и они должны были читать свои стихи, выражающие всю сущность исторического момента эпохи. У скалы же стоял огромный Жедринский с огромным бичом, которым он должен был хлопать, пугая, эпатируя буржуа. В стороне, у камня, лежала закутанная в плащ фигура. Кто-то спрашивал: «А кто это лежит и дремлет, закутанный в плащ?» И ему отвечали: «А это отставной бурятский философ-божок», – так называл себя Аничков.
К счастью, «Арион» не был закончен и перед публикой не выступал прежде всего потому, что молодые поэты не оказались столь мудрыми, чтобы выявить в декларативных стихах всю главную сущность исторического момента эпохи; во-вторых, после всех декларативных стихов и прочих действий мы должны были рядышком усесться на рампу, свесив ноги, и смотреть на публику, наблюдая «народ, делающий историю». Но для каждого из нас было ясно, что перед нами совсем не народ, делающий историю, а безнадежные мертвецы, выброшенные яростной волной и с Родины, и из истории.
В 1923 году в Белграде гастролировала пражская группа Московского Художественного театра. История такова. После революции, когда МХАТ гастролировал за границей, часть труппы во главе с Марией Германовой осталась в Праге и стала гастролировать по Европе. Мы, молодежь, были в восторге от всей труппы, но особенно нас поразила Мария Крыжановская и Павлов. Между прочим, Германова и Крыжановская были в главных ролях в «Короле темных палат» Рабиндраната Тагора. Крыжановская играла изумительно! А Павлов играл Опискина в «Селе Степанчикове» и был тоже великолепен. Мы, конечно, ходили на каждый спектакль, и «Одиннадцать» пригласило всю труппу на чашку чая к себе в ателье. Встреча была очень удачной и милой. Все остались довольны. Художники выставили свои картины, поэты читали стихи, орудовал Аничков, вели себя очень мило и артисты. Насколько мне помнится, не приехала, извинившись, только Германова, а все остальные были. Крыжановская, Павлов с Греч, Месалитинов с Краснопольской и все другие. С этой встречи я подружился с Крыжановской на всю жизнь. Все артисты потом переехали в Париж, и я постоянно продолжал с ними встречаться.
Много несчастий пережила Крыжановская. У ее мужа, скульптора Соломона Бессмертного, были ампутированы ноги, но он на протезах неплохо ездил на мотоцикле. Во время войны, при немецком наступлении, он бежал из Парижа и по дороге был сбит какой-то машиной. У Бессмертного сломался таз. Он выжил, но ему было очень трудно работать. Работал он всегда на ногах, и теперь ему очень трудно было найти равновесие и точку опоры. В 1946 году многие из артистов взяли советские паспорта, в том числе и Крыжановская с мужем. Месалитинов и Краснопольская уехали работать в Болгарию и остались там.








