Синий дым
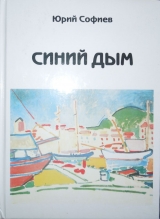
Текст книги "Синий дым"
Автор книги: Юрий Софиев
Жанры:
Поэзия
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 14 страниц)
Я стою со знакомым аббатом
Высоко в амбразуре стены.
И мечтатель аббат,
Со взглядом, закинутым в дали,
Голосом тихим,
Каким говорят на закате,
Мне повествует:
…Пели рога,
Траву красила кровь кабана
И земля была взрыта копытом.
Он добавил:
При этом топтались посевы.
Горе крестьянам! —
Эти леса укрывали
Скот и убогий домашний скарб.
Я подумал:
Они воевали всегда,
Горе крестьянам!
И припомнил восторг неуёмный
Славного трубадура,
Рыцаря-провансальца
Бертрана де Борн.
Его радовали без меры
Эти картины разбоя
Мелких баронских войн.
Его радовало без меры
И то, как в зелёные чащи
Бежали
Всё те же крестьяне,
Палками подгоняя
От страха ревущий скот.
В жизни не было мира,
И нравы были жестоки,
И ближайший сеньор —
Лисица —
Зорко следил за соседом.
И подобно взмаху крыла
Ночной и неведомой птицы,
Аббат всплеснул рукавом
Потёртой чёрной сутаны,
Мне указав на восток.
Там,
На высоком холме,
Среди тёмных осенних чащ
Дотлевали руины
Замка Лисицы.
И мой вдохновенный мечтатель
Начал рассказывать мне
О великой цельности жизни
И о могуществе Рима
В те времена.
– Путь был единый,
Едины стремленья,
И жизни людские сливались
В едином и мощном созвучьи:
Ad majoram Gloria Dei!
Я усомнился,
И осторожно напомнил аббату,
Что мы знаем не только Каноссу,
Но знаем и Авиньон.
И о том, как, корчась, шипело
Человечье мясо
На горящих смрадных кострах.
Чёрно-траурной лентой дым их тянулся
Над чередою веков.
Монтаржийская собака (памятник в городском саду)
Умер последний бездетный владелец
И замок стал королевским.
В глушь,
В тишину,
В приволье,
В сосновый, смолистый бор
Приезжали рожать королевы.
В этом же замке жила,
В окруженье искусства и знанья,
Дочь короля,
Наречённого pere du people
Ренэ де Франс,
Герцогиня Феррара.
Малый двор её составляли
Художники и поэты,
Поэты и мудрецы.
К ней приезжал на коне,
Из соседних владений,
Высокий и статный старик,
С открытым и смелым лицом,
Гугенот
Гаспар Колиньи.
Жарко пылали дрова
В огромном тяжёлом камине,
И нагретый розовый мрамор
Отражал полыханье огня.
На тёплых каменных плитах,
У ног адмирала,
Вытянув узкую морду
На мощные лапы,
Неподвижно лежала борзая.
В благочестивых беседах
О вере гонимой
С мудрым большим стариком
Коротала Ренэ вечера.
В этом замке она умирала,
Окружённая малым двором.
Всё, что осталось
От этой прекрасной принцессы —
Благодарная память поэтов,
Да горсточка жёлтых костей,
Случайно открытых недавно
В развалинах церкви подземной,
Разрытой учёным аббатом,
Что живёт в единственной башне,
Уцелевшей в веках,
Где должно быть жил
Капеллан.
О, флейта Экклезиаста,
Поющая вечную песню
О том, что всё преходяще,
Всё тленно и непоправимо,
О том, что растущее знанье
Преумножает печаль.
Розу сорвал я с куста,
Что с башней суровой дружен,
И бросил в сыром подземелье
На гробик деревянный
Ренессанса принцессы прекрасной.
Так же, как я, со стены
Смотрела в вечер закатный
На город,
Собор
И леса
Герцогиня Феррара.
И когда я пытаюсь представить
Благостный облик её —
Он неизменно являет Тебя.
А кругом,
Мохнатым кольцом
Обложили город леса.
Леса. Леса. Леса.
Соборная площадь
Этот город прославлен собакой.
В веках весьма отдалённых,
При короле Карле Мудром
Рыцарь Макер
В лесу монтаржийском
Убил дворянина
Обри Монтидьера.
Собака убитого шла по следам за убийцей.
И когда де Макер
Догнал королевскую свиту —
Злобный,
Пылающий местью,
Бросился пёс на него.
Преступление было раскрыто.
Мудрый Карл приказал учинить поединок
Рыцаря с верной собакой,
Ибо был Монтидьер одиноким.
Оповещая приказ короля,
Герольды
Троекратно трубили в длинные трубы.
И король, королева и двор
С любопытством смотрели
На битву Макера с собакой.
И собака Макера загрызла.
Парижанка
Камень многовековый и серый.
В барельефах стынут святые.
В вышине изнывают химеры,
Разрывая немые рты.
Отражается в тёмной витрине
Обличающий Мирабо.
В историческом магазине
Деревянный нищий с горбом.
Он споит у стены, у входа,
Перетянутый ремешком.
Должно быть, урод Квазимодо
С закушенным языком.
Вот собор. По истёртым плитам
Осторожно стучит каблук.
В полумраке, в сводах разлитый,
Замирает беспомощно звук.
Вот полотна картин поблёкли.
И всегда зарождает страх
На цветных нарисованных стёклах
Вот этот чёрный монах.
Этот камень дикий и голый
Сторож древних и тёмных былей.
Может быть, и шаги Лойолы
Эти своды и стены укрывали.
«Черты француженки прелестной…»
А. Блок
«Вот так обрушивается скала…»
Тогда ещё война не отшумела.
Молчал Париж
В обманном забытье.
Был спущен флаг,
Что ввысь взвивался смело
Веками на его стремительной ладье.
И, вероятно, как в средневековье,
В Париж спускались звёзды в темноте.
Форт Валерьян уже дымился кровью
Тех, кто навстречу шёл своей мечте.
Над Сеной облетели тополя.
Над Сеной молчаливая земля
И под мостами чёрная вода
Не уносила горькие года.
Ты в эти дни пришла ко мне в больницу
С нежнейшими мимозами из Ниццы.
И маленькая тёплая рука
В блестящей чёрной лайковой перчатке
С тишайшей нежностью
Притронулась слегка,
Чтоб навсегда оставить отпечаток!
В большом окне,
Приплыв издалека,
В тяжёлой битве бились облака,
В большом окне
Вдали Медонский лес
Был красной полосой заката скошен.
В большом окне,
В нагроможденье тесном,
На облака, на трубы крыш отброшен
Твой силуэт,
Кристьян,
Легчайший силуэт француженки прекрасной.
1940.
«Вспыхнет спичка и мрак озарится…»
Вот так обрушивается скала,
И путник погребён обвалом грозным.
Мы без ветрил плывём и без руля.
Кто ж чертит путь по неподвижным звёздам?
Испуганные ширятся глаза,
Летят недоумённые вопросы,
Когда внезапная жестокая гроза
Швыряет нас на острые утёсы.
Священник речь гнусаво говорил:
«Не думал ты, но вот Господня воля…»
У смертного одна собачья доля —
Плыть без руля и без ветрил.
«О том, что прожито и пережито…»
Вспыхнет спичка и мрак озарится,
И дымок папиросы летит.
Серым слоем на сердце ложится
Тонкий пепел глубоких обид.
Ночью мысли угрюмы и вздорны,
На губах горький вкус папирос.
Я ведь мальчиком непокорным
У весёлого леса рос.
Это всё городские раны,
Это чёрная полоса.
Одинокой тропою Глана
Мы уйдём в голубые леса.
Вот по-прежнему солнце играет
В чаще зелени молодой.
Только глупое сердце не знает,
Как нам справиться с болью такой.
1948, Париж, «Русские новости».
Остров Иё
О том, что прожито и пережито,
Не говори ревниво-жёстких слов.
Всё нашей встречей, как прибоем, смыто.
Жить и любить я сызнова готов.
Жить и любить…Как летним утром рано
Опять бодра, опять чиста душа.
Широкие версальские каштаны
Теперь совсем по-новому шуршат.
Дай руку, друг, чтоб в жизнь войти со мною,
Чтоб я мог светлой музыкой любви —
Пронзив тебя апрельской синевою —
На трудный подвиг жизни вдохновить.
Париж, 1949, «Русские новости»
«Взаимоотношенья наши…»
Пустынный пляж. В предвидении ночи
Бесшумно, низко филин пролетел.
Кусты и камни абрисом неточным
В сгущающейся тонут темноте.
Пора идти к белеющей палатке
В весёлом кипарисовом леске.
Над ним колеблется струёю шаткой
Дым от костра, горящем на песке.
Я знаю, милый друг, что мы устали
И что живое сердце не гранит.
Суровой нежностью,
Глухой печалью
Трепещут наши считанные дни.
Но вопреки всему ещё не хочешь
Ни успокоиться, ни отдохнуть!
У края надвигающейся ночи
Большими странствиями дышит грудь!
Уж якоря сверкнули мокрой сталью
И цепь медлительно ползёт в лета!
Так в радости, надежде и печали
Встаёт последний жизненный этап.
1955, ils d’Yeux
«Старый заколдованный Париж…»
Ир. Кнорринг
Каменщик и «Мыслитель» на Нотр-Дам [23]23
Взаимоотношенья наши
Тяжёлой душат полнотой.
Он и любезен мне, и страшен
Многовековой глубиной.
От времени и ветра смуглый,
Любое сердце расточит.
Здесь каждый камень, каждый угол
Бросает, будит и палит.
И вечером, когда улягусь,
Покой мой неосуществим.
Колдует он – подобно магу —
Колдует за окном моим.
И рыжий тяготеет свод.
И пробегающее пенье
По лунной комнате, и вот —
– О, детское почти смятенье —
Врывается, – его ль впущу?
– Лоснящиеся кони в мыле,
Сто барабанщиков забили
Тревогу. В клочья чувства, ум. —
Огромный и растущий шум
Бегущих в ночь автомобилей.
Косяк оконной рамы и портьеры.
Сереет щель – неясна и узка —
Протяжный гул идёт издалека.
Кто угрожает: город иль химеры?
Ты рядом дышишь ровно и тепло.
Какая непомерная тревога —
Беречь тебя, пока не рассвело,
От произвола дьявола и Бога.
Всю жизнь Юрий Софиев вёл спор с Мыслителем-Дьяволом, чьё изваяние находится на соборе Парижской Богоматери. Варианты этого спора в стихотворениях разных лет, представленных в настоящей книге.
[Закрыть]
«На ярко-красном полотне заката…»
Вот арок стрельчатых легчайший взлёт.
И лепится под черепицей город.
История медлительно течёт
У каменного корабля – Собора.
…Бьёт мерно молоток, крошит резцом,
И трудится с искусством и любовью
Простой, упорный в малом и большом,
Безвестный каменщик Средневековья.
В суровой бедности он жизнь влачит,
Он дышит едкой известью и пылью,
Не чувствует – и мы не отличим —
За огрубелыми плечами крылья.
А, высунув язык, на мир глядит
Холодное и злое изваянье,
Которое подтачивает, тлит
Любовью созидаемое знанье.
Но вопреки ему, и вопреки всему,
На шаткие леса упрямый мастер
Взойдёт, чтоб воплотить, чрез ночь и тьму,
Земное человеческое счастье.
«И вот ещё, ещё одна строка…»
На ярко-красном полотне заката
Огромный лебедь, чёрный и крылатый.
На утрамбованной площадке дети…
И мы с тобой играли в игры эти.
И мы… но, Боже мой, летят столетья,
Тысячелетья и милльоны лет!
И вот опять усталость и рассвет,
И на закате – чёрной тушью – ветви…
Послушайте, ведь в тридцать с лишним лет
Нас по-иному греет жизни свет.
И ты, мой друг, к таким же дням придёшь —
Печаль существования поймёшь.
ПАМЯТЬ
И вот ещё, ещё одна строка,
За ней идут придуманные строчки.
И три спасительные ставит точки
Неудовлетворённая рука.
Уйти, забыть, рассеять колдовство,
Но и немыслимо освобожденье.
Так напряжённо жить, в таком смятенье,
Так мучиться, не сделав ничего!
1933, Париж, «Числа».
Нас тешит память – возвращая снова,
Далёкий друг, далёкие года.
И книжки со стихами Гумилёва,
Мной для тебя раскрытые тогда.
И (помнишь ли?) далёкие прогулки,
Наивно-деревенскую луну,
Ночной экспресс, сияющий и гулкий, —
Ворвавшийся в ночную тишину.
Ты помнишь ли? – (банальные вопросы!)
Но сердце грустно отвечает: «да»!
Следя за синей струйкой папиросы,
Тебя я возвращаю без труда.
И в суете подчёркнуто вокзальной —
(Ты тоже помнишь небольшой вокзал).
Сияют мне уже звездою дальней
Лукавые и синие глаза.
Чем сердце жило? Было чем согрето?
– Ты спрашиваешь. После стольких лет.
Простая вера мальчика кадета
Даёт исчерпывающий ответ.
Я никому не отдаю отчёта
В делах моих. Лишь совесть мне судья.
Мы честно бились. Ты – у пулемёта,
У жарких пушек честно бился я.
И вдруг встаёт за капитанской рубкой
Огромный мир – труда, нужды, беды.
В нас идолопоклончества следы
Стирает жизнь намоченною губкой.
Но были годы долгие нужны,
Чтобы иным, своим увидеть зреньем
Людское горе и людские сны,
На прошлое смотреть без сожаленья.
Враги – теперь товарищи и братья,
И те, кто были братьями в огне,
Как одинаково не близки мне!
Как подозрительны рукопожатья!
Но как спокойна совесть и тверда.
Свят этот путь скитаний и исканий,
Борьбы, сомнений, встреч и расставаний.
Путь жалости, свободы и труда.
В. М. З – У («О, сколько раз за утлою кормой…»)
Был я смелым, честным и гордым.
В страшные дни и деянья рос.
Не один мы разрушили город,
Поезда сбрасывали под откос.
Надрывались голосом хриплым.
Нависали телом к штыкам.
И всё-таки не прилипла
Горячая кровь к рукам.
В этой жизни падшей и тленной
Разучились мы плакать навзрыд.
И всё-таки – неизменно —
Я сберёг и восторг, и стыд.
И я не иду за веком,
Возлюбившим слепоту.
Вопреки всему – к человеку
Путь через жалость и теплоту.
1937, Париж-Шанхай, «Русские Записки»
РАГУЗА [24]24
О, сколько раз за утлою кормой
Вскипали волны, ветры рвали флаги.
Звучали рельсы музыкой стальной,
Звучало сердце верой и отвагой.
Сквозь кровь, сквозь годы, страны и усталость
Чередовались радость и беда.
Покоя сердце никогда не знало,
Покоя не искало никогда.
И я любил и ненавидел много.
И я дышал отвагой и борьбой.
Прекрасный мир ложился предо мной
Неровною и трудною дорогой.
И как нетерпеливо я искал
По-братски мне протянутую руку.
Но руки те, которые я жал,
Сулили только вечную разлуку.
1937, Париж-Шанхай, «Русские Записки»
Рагуза – так в древности называли Дубровник. Первое стихотворение «Рагузы» – «Синяя прорезь окна…» повторяется – более расширенно – в цикле «Дубровник» (книга «Парус»).
[Закрыть]
Синяя прорезь окна.
Монастырь святого Франциска.
Смотрит на нас с полотна
Средневековый епископ.
А за стеною – простор,
Камни и белые башни,
Море и линия гор,
Рокот прибоя всегдашний.
Эдакую тишину
Дал же Господь в утешенье!
К башенному окну —
С синею, свежею тенью —
Чтобы следить без слов
Перистых облаков
Медленное движенье.
«Холодный ветер из Бретани…» [25]25
От удушья крови и восстания
Уходили в синеву морей.
Жили трудным хлебом подаяния,
Нищенствуя у чужих дверей.
Столько встреч и счастья расставания!
Было в этой жизни, наконец.
Столько нестерпимого сияния
Человеческих больших сердец.
Падая от бедствий и усталости,
Никогда не отрекайся ты
От последней к человеку жалости
И от простодушной теплоты.
Вопреки всему…
Париж, «Круг»
Две строфы (вторая и третья) взяты из стихотворения «Сквозь сеть дождя, туман и холод…», посвящённого Ирине Кнорринг (книга «Парус»).
[Закрыть]
«Ушло у нас жизни не мало…»
Холодный ветер из Бретани
Нагнал сегодня столько туч,
Что не прорвётся, не проглянет
Сквозь эту толщу тёплый луч.
Сквозь сеть дождя, туман и холод
Смотрю на призрачный Париж.
Как я любил, когда был молод,
Пейзаж неповторимых крыш.
Туман, синеющий над Сеной,
Шуршащий гравий под ногой.
Единственный во всей вселенной
Вокруг Сената сад большой.
Здесь наша молодость шумела
В жару мечтаний и надежд,
В толпе таких же неумелых
Самонадеянных невежд.
Она нас тешила борьбою,
С благополучьем не в ладах,
Нам наша молодость покоя
Не обещала никогда.
Ты скажешь: разве не напрасны
Все пережитые года?
Война безжалостно и властно
Их зачеркнула навсегда.
Нет! Вот опять в борьбе суровой
Мы можем, как бы им в ответ,
Средь лютых бурь и лютых бед
Перекликнуться верным словом.
IV век [26]26
Ушло у нас жизни не мало
По чужим дворам на постой.
Может быть, время настало
Спешить на работу домой.
Странники – по охоте,
Странники – по неволе.
В трудной учили заботе
Нас трудовые мозоли.
С прошлым расстались навеки
У больших европейских дорог.
Повесть о человеке,
Что дважды родиться смог.
Только мы всюду чужие,
Везде и всегда в разлуке.
И как ответит Россия
На распростёртые руки?
1942, Нью-Йорк, «Ковчег»
Есть и второй вариант этого стихотворения.
IV век
Ещё стояли римские орлы,На рубежах, рубились легионы,Но с севера бегущие волыРевели трубами Иерихона.И некий римлянин, свидетель века,Философ, может быть, или поэт,Последний, может быть, ценитель греков,Не находил грядущему ответ.Усталостью и грустию томим.Он с отвращением смотрел на город,Ещё не зная, что Аларих скороСожжёт и разорит бессмертный Рим.И полоса вечернего закатаСгорала медленно в огне судьбы,И в то же время варвар волосатыйУже рубил германские дубы.Он выстроит большие города,Он выстроит высокие соборы,Но на путях боренья и трудаЖеланный день ещё придёт не скоро.Ещё шумит рекой горячей кровь,И норов, необузданный и дикий,В огне, в труде, в бореньях вновь и вновьПокажет миру облик свой двуликий.В тяжёлый день ведём неравный бой,В тяжёлый день мы вышли на дорогу,Ещё не досчитаемся мы многих,И ярость бурь изумит над головой.И если нашим дням продленья нетЗа кровь, за рабский труд, за самовластье, —Всё ж снился нам какой-то звёздный светБольшого человеческого счастья.И, может быть, и мой потомок дальнийПод шелест медленный старинных книгВдруг различит высокий и печальныйЭпохи нашей искажённый лик. 1942, Париж.
[Закрыть](«Ещё стояли римские орлы…»)
Мой путь
Ещё стояли римские орлы,
На рубежах рубились легионы.
Медлительные галльские волы
Соху влачили по равнине сонной.
Ещё, казалось, нерушим вовек
В сознанье человека «пакс романо»,
Хотя ползли тревожные туманы
За синею чертой могучих рек.
Вот за Дунаем в сизой синеве
Для жаркой битвы или для охоты
Уже в прибрежной рыскали траве,
Таясь – славяне, гунны, скифы, готы?..
За синим Рейном по ночам дымились
В дубовых чащах жаркие костры —
И варварам весёлым жадно снились
Богатые античные дворы.
А некий римлянин, свидетель века,
Философ, может быть, или поэт,
Склонившись над судьбою человека,
Не находил грядущему ответ.
Усталостью и скукою томим,
Он с отвращением смотрел на город,
Ещё не зная, что Алларих скоро
Сожжёт и разорит бессмертный Рим!
Хоть чувствовал, что римские солдаты
Уж не спасут от гибельной судьбы…
И в то же время варвар волосатый
Уже рубил германские дубы!
Он выстроит большие города,
Он вознесёт высокие соборы —
Но на путях боренья и труда
Желанный день ещё придёт не скоро.
Ещё шумит рекой широкой кровь,
И норов, необузданный и дикий,
В огне, в крови, в бореньях, вновь и вновь
Покажет миру облик свой двуликий…
Под взором современника пытливым
Не так ли в буре и трудах возник
Эпохи нашей противоречивой
Мучительный и вдохновенный лик.
1942, Париж.
«Прекрасные руки твои на клавишах…»
На туманные Крымские горы
Тихо падал сухой снежок,
И чернели морские просторы —
Это наш короткий пролог.
А потом в прозрачной лазури
Я увидел зелёный Босфор.
Сердце радовалось до дури
Теплоте сиреневых гор.
Загудели гнездом осиным
Европейские города.
Развернулись повестью длинной
Поучительные года.
Время шло. В тяжёлой заботе —
Легче летом, труднее зимой —
Жизнь раскрылась мне в чёрной работе,
Трезвой, честной, нелёгкой, иной.
В эти жёсткие годы впервые
Жизнь увидел по-новому я.
К трудовой потянулись России
Её блудные сыновья.
Так фабричный гудок и лопата,
Трудный опыт, прошедший не зря,
Нам открыли, жестоко и внятно,
Смысл и чаянья Октября.
1936, Париж,
Н.Ф. [27]27
Стихотворение посвящено Нине Федотовой, дочери философа, историка и публициста Георгия Петровича Федотова (1886–1951), который эмигрировал во Францию в 1925 г. С 1941 г. – в США. Дочь его была музыкально одарена. На полях рукописи рукой Ю.С. написано: «Она вышла замуж за Рожанковского, художника-иллюстратора детских книг». Ю.С. дружил с семьёй Г.П. Федотова, часто бывал у них в доме на литературных чаепитиях.
[Закрыть]
Другу
Прекрасные руки твои на клавишах.
Ты играешь Шопена.
По углам полумрак.
Ты играешь Шопена,
И так дико и странно,
Что на свете сейчас
Существует война.
Тысячи жизней,
Чтоб могли быть счастливыми,
Гибнут и падают
В кровь и грязь…
Ты играешь Шопена,
А мне бы не надо
Смотреть на прекрасные руки твои.
1939, Париж.
«Географическая карта!..»
Ты помнишь, как бежали мы с тобой
По снегу рыхлому на шведских лыжах.
Проваливался в снег по брюхо Бой —
Твой пёс в подпалинах волнисто-рыжих.
Стояли старорусские леса,
Отягощённые мохнатым снегом.
Белесые ложились небеса
Над нашей жизнью и над нашим бегом.
Потом мы юность провели в седле,
В тулупе вшивом, на гнилой соломе,
И, расстилая на сырой земле
Потник, почти не думали о доме.
Потом расцеловались на молу
И разошлись бродить по белу свету.
И вдруг столкнулись где-то на углу
Парижских улиц, через двадцать лет!
Должно быть, для того, чтоб в тишине
Ловить приёмником волну оттуда.
Тогда в жестоком кольцевом огне
Лежала Русса каменною грудой.
Нас не было с тобой – плечом к плечу —
Когда враги ломились в наши двери.
И я, как ты, теперь поволоку
До гроба нестерпимую потерю.
И только верностью родному краю,
Предельной верностью своей стране,
Где б ни был ты – в Нью-Йорке иль в Шанхае —
Смягчим мы память о такой вине.
1946, Париж
«Мы распрощались с другом на пороге…»
Географическая карта!
Пески пустынь. Простор морей.
С какой надеждой и азартом
Склонялся в юности над ней!
Воображеньем зачарован,
Я странствовал по вечерам
Над старым атласом, в столовой
Засиживаясь до утра.
Бежали голубые реки
С вершин коричневых хребтов.
Я полюбил с тех пор навеки
Тугие крылья парусов.
За ученическою партой
Вдруг встали дальние края.
Географическою картой
Развёртывалась жизнь моя.
Простая, трудная, и всё же
Скитанья тешили меня.
На угольной платформе лёжа,
Иль грея руки у огня
В Албании или Тироле,
Измучившись и сбившись с ног,
И в трудной и счастливой доле
Я слушал вещий зов дорог.
Не ущербляется с годами
Воображение моё.
Всё те же бредни: ночь на Каме,
Костёр, собака и ружьё.
Париж-Нью-Йорк, «Эстафета».
На рыбалке [28]28
Мы распрощались с другом на пороге.
– «До скорого!» И вот ночной Париж.
От прежнего – неповторимы, строги —
Остались только очертанья крыш.
И утомлённый болтовнёю праздной,
Отравленный вонючим табаком,
По этим улицам, пустым и грязным,
Иду я медленно домой пешком.
Как холодно! Лет семь каких-нибудь,
В такую ночь, каким огнём объята…
Постой, постой, дружок мой, не забудь!
– В тридцать девятом, а не в сорок пятом.
И ржавый, одинокий лист, шурша,
Гонимый ветром, кружит по аллее.
Как страшно мне, что нищая душа
Ещё при жизни холодеет…
1947, Париж, «Орион».
Стихотворения «На рыбалке» и «На охоте» написаны в Алма-Ате. Ю.С. был заядлым рыбаком и охотником, любил путешествия и часто выезжал в научные экспедиции с Институтом Зоологии, где работал художником. Периодически печатал стихи и очерки о рыбалке и охоте в журналах и сборниках, которые выходили в Москве, например, в альманахе «Охотничьи просторы».
[Закрыть]
На охоте
Медлительное облаков движенье.
Сияет осень, и несёт река
Мир тишины и зябких отражений,
Заколебавшихся у поплавка.
Взлетев на воздух, описав кривую,
Сверкнув на солнце мокрой чешуёй,
Расплачивается за роковую
Свою ошибку окунь небольшой.
И кто-то, подошедший незаметно,
Приветливо мне «здравствуйте» сказал.
– Как нынче клёв? – с приветствием ответным
Ему я место рядом указал.
И выпустил табачный дым сквозь губы,
О рыбной ловле, жизни и судьбе
Беседует тепло и дружелюбно —
Ещё вчера совсем чужой тебе.
Алма-Ата.
«В окне “Орёл”, сверкая “Алтаиром”…»
Тростник и побуревшая осока,
А под ногою ржавая вода.
В осеннем небе, чистом и глубоком,
Несмелая и ранняя звезда.
А горизонт, зарёй сожжён дотла,
Рассыпался сиреневою пылью.
Охваченный волнением всесильным,
Я вскидываю два стальных ствола.
Тревожный крик взлетевшего бекаса.
Свинцом горячим раненый в плечо,
Он падает. Спешу по почве вязкой…
Как птичье сердце бьётся горячо!
И на ладони, в буром оперенье,
Комочек тёплый. А в душе моей
Как непохожи эти два мгновенья
В противоборствующей сущности своей.
Старая лодка
В окне «Орёл», сверкая «Алтаиром»,
Склоняется за снеговой хребет.
В калейдоскопе пережитых лет
Перемещаются виденья мира.
Следя за дней стремительным разбегом,
До зимнего рассвета не усну.
Посёлок спит. Лишь резко тишину
Нарушит лай, да скрип шагов по снегу.
Проходит жизнь, как на цветном экране —
Моря и реки, страны, города,
Сердца и лица, что моём скитаньи
Я накопил за долгие года.
Да, не в борьбе – в упорном созерцанье,
И не вслепую, и не наобум,
Но в жизнеутверждающем исканьи
Я закалял нелёгкую судьбу.
Я возвращеньем в дом судьбе ответил.
Но очень поздно к дому подошёл.
Я слишком много трудных лет провёл
В блужданиях по душам и планете.
На опрокинутой старой лодке
Сижу.
Рассохлась лодка. Стара!
А киль у лодки острый и ходкий,
Но в кузове дряхлом – дыра.
И лежит она на дворе базы,
Как никому не нужный хлам.
А ведь было время – по весенним разливам,
По широким рекам – легка и гордая —
Носила людей, больших и счастливых,
И ласково пела за бортом вода.
Видела лодка и горе, и радости,
И из беды выносила людей.
Что ж, старый друг, нет больше надобности,
Видимо, людям в службе твоей.
Алма-Ата.








