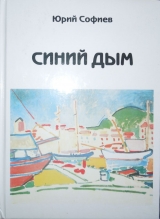
Текст книги "Синий дым"
Автор книги: Юрий Софиев
Жанры:
Поэзия
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 14 страниц)
Переехав в Париж, я тотчас явился в Республиканское Демократическое Общество. Поскольку меня считали председателем Монтаржийского филиала, меня сейчас же выбрали в Парижское правление, поручили мне реорганизовать библиотеку и заняться кое-какими культурно-просветительскими делами. Всем этим мы занимались после работы, конечно, совершенно бесплатно.
Правление заседало в конце недели. На заседании всегда присутствовал П.Н. Милюков, хотя он формально и не был членом правления, однако фактически Милюков был одним из руководителей (если не главным) этого общества. Председателем правления считался Г.М. Арнольди, юрист, в прошлом он был артиллерийским офицером. По своим политическим убеждениям он был демократом, очень резко выступающим против правой эмиграции. Впоследствии он стал просоветским человеком.
После Бухало секретарем стал А. К. Палеолог, тоже юрист, во время первой мировой войны ставший морским офицером. Он был племянником адмирала, командующего черноморским флотом. Человеком он был искренним и дельным. После второй мировой войны входил в состав правления «Союза советских граждан», в 1949 году был выслан из Франции.
В 1930 году я стал вице-председателем правления, но, как говорил один мой недоброжелатель, я был в политике – поэтом, а в поэзии – политиком. С его точки зрения, это было очень плохо!
1930 году в Р.Д.О. (Республиканское Демократическое общество) произошло событие, которое сыграло какую-то роль в общеэмигрантских делах. Мы в правлении – председатель Арнольди, секретарь Палеолог, член правления А. Тверитинов и я – возмутились поведением Милюкова и газеты «Последние Новости». На заседании правления мы заявили Милюкову, что его газета дает совершенно не верную, искаженную, необъективную информацию о России. Приблизительно тоже делает и правая пресса… Мы, конечно, понимаем, что это обычный политический шаг борьбы с советской властью, но мы смотрим на дело совершенно иначе, считая этот трюк недостойным и нечестным, и в этой «эмигрантской ловле блох» не хотим участвовать. И мы подали прошение об увольнении нас из правления и вообще из Р.Д.О.
Из солидарности с нами ушло из Р.Д.О. известное количество обычных членов.
Насколько мне помнится, правая эмигрантская пресса подняла вой о развале Р.Д.О., о том, что «члены правления продались большевикам», и т. д.
Между прочим, Р.Д.О. не развалилось, потому что нашлись-таки преданные Милюкову люди: Александров, Аристов, приложившие все силы, чтобы поддерживать политические дела Милюкова.
Мы же пошли своим путем. Арнольди, к сожалению, заболел, у него открылся туберкулезный процесс, и он ушел в личную жизнь. Палеолог начал организовывать левую эмиграцию в «Союз Оборонцев». Я занялся литературными делами, будучи председателем «Союза молодых поэтов», изданием коллективных сборников, устройством вечеров и т. д. Тверитинов стал секретарем «Союза возвращения на Родину», председателем которого был муж Марины Цветаевой, Эфрон.
После ухода Эфрона председателем стал Тверитинов. Мы все время оставались большими приятелями, дружили и наши жены. Тверитинова постигла трагическая судьба. В 1938-м ему пришлось бежать из Франции. Французская полиция собиралась арестовать его, обвиняя в советской пропаганде. Он исчез. Осталась жить в Париже, скрываясь, Сара Тверитинова. Она была бессарабкой из Кишинева и в 1946 году приходила к нам в «Советский Патриот» в форме старшего лейтенанта медицинской службы Советской Армии. О Саше она молчала. Впоследствии пошли слухи, что Саша в 1938 году добрался до Советского Союза, но трагически погиб в эпоху культа личности вместе с мужем Цветаевой.
Помимо литературных дел, я хлопотал о создании клуба, где можно было бы вести дискуссии и делать доклады на актуальные темы. В Р.Д.О. иронизировали: «Софиев хлопочет о создании социалистической Академии!» И такой клуб был действительно создан. Мы собирались в большом подвальном помещении в кафе «Мефисто» на бульваре Сен-Жермен. Приглашались все социалисты, приходили и члены Р.Д.О., чтобы принять участие в диспутах.
У меня как-то произошел конфликт с профессором Кулишером. Это был интереснейший человек, часто писавший передовицы в «Последних Новостях» за Милюкова, в особенности резкие против правой русской прессы. Но это был буржуазный демократ, ничего не понявший из того, что произошло в России. Или делал вид, что не понял. Он заявил, возражая мне, что, «как у всякого бывшего офицера, у Софиева, к сожалению, слышится социалистический звон шпор».
Меня взяли под защиту многочисленные мои друзья, заявив Кулишеру, что никогда в речах Софиева никакого звона шпор не слышится.
Между прочим, Кулишер подошел ко мне и стал извиняться: «Простите меня, я признаю, что сделал ошибку. Вы бывший эрдек и говорите такие вещи, что мне нужно было вас, Юрии Борисович, скомпрометировать перед аудиторией. Я неправ. Простите меня, пожалуйста!»
Кулишер был в этот вечер очень любезен со мной, приглашал меня в кафе на Монпарнас. Я со своей стороны высказал ему, что, увы, даже большие эмигрантские политические деятели прибегают к таким недостойным средствам.
В 20-е годы экономика Франции более-менее процветала, потому на производстве не хватало рабочих. Почти все французы-специалисты: электрики, механизаторы, маляры и т. д. Ни один из них не будет делать работу не по своей специальности. Обычно ни один хозяин не рискнет французскому рабочему предложить какую-нибудь черную работу, зная, что он тут же рассчитается с предприятием и будет искать работу по своей специальности в другом месте, а пока что будет работать свой страх и риск «налево». Приблизительно так же вели себя французы и во время спада производства, переходя на безработное пособие. Получая этот жизненный минимум, безработный должен был соглашаться, когда мэрия его посылала на случайные или сезонные работы. По окончании их ему продолжали выплачивать пособие для безработных. Если человек отказывался ехать на сезонные работы, его снимали с пособия.
Сезонными были обычно сельскохозяйственные работы по уборке сахарной свеклы, довольно грязная и тяжелая работа, или же отправляли на юг Франции или в провинцию Шампань на сбор винограда.
Часто француз, механик или электрик, считал ниже своего достоинства возиться в грязи, выкапывая какую-то свеклу, часто и под осенним дождем, и лишался пособия, продолжая работать «налево», так же, как он и работал, получая пособие. Потом временно устраивался на какое-нибудь предприятие по своей специальности, через несколько месяцев его рассчитывали, и он снова, на полном основании, записывался на получение пособия. Это практика французского быта, но часто она осложнялась рядом неприятностей, были моменты, когда человек и временно не мог найти работу, и тогда ему приходилось лишаться этого пособия.
В Париже у меня был приятель, некто Обоймаков. Он окончил Франко-Русский Институт юридических, социальных и прочих общественных наук, созданный «левыми» эмигрантскими профессорами совместно с левыми демократическими профессорами-французами. После окончания этого Института можно было защищать докторскую диссертацию при Сорбонне (кандидатских в Европе не существует). Я тоже прослушал полный курс этого Института вместе с моей будущей женой, поэтессой Ириной Кнорринг.
Так вот Обоймаков десять лет сидел на пособии для безработных, каждый год отправляясь на сбор винограда. Приезжал загорелым, даже пополневшим, с заработанными деньгами, пополнял свой гардероб, а затем снова очень скромно жил на пособие, готовясь к защите своей докторской диссертации.
Диссертацию он так и не защитил: в 1946 году получил советский паспорт и в пятидесятых выехал на Родину, в Ростов-на-Дону.
Это был очень скромный, очень аккуратный и опрятный человек умудрявшийся готовить докторскую диссертацию, сидя на пособии для безработных.
В периоды подъема производства французам правительство поощряло въезд во Францию иностранных рабочих, и надо сказать, что их всегда появлялось немало. На строительстве каменщиками зачастую работали итальянцы и испанцы. Из Чехословакии приезжали сельскохозяйственные рабочие. Поляки были шахтерами. На севере Франции, около Лиля и Рубе, двух центров северного угольного бассейна, были целые колонии – деревни с польским населением, где старики сохраняли свой язык и свои обычаи, а молодежь разве что сохранила свои польские фамилии, и то часто исковерканные и измененные на французский лад – так было до войны. Не знаю, может быть, теперь все изменилось?
На строительстве дорог работали арабы, и работали они часто в тяжелых условиях. Правда, после Народного Фронта многое изменилось к лучшему, и надо сказать, что даже последующая реакция не смогла отменить все завоевания 1936 года.
Таким образом, состав трудящихся во Франции в национальном отношении был очень пестрым. На иностранных рабочих, наравне с французами, распространялись законы социального обеспечения: они состояли в профсоюзах и вместе с французами боролись за повышение заработной платы, за улучшение условий труда и быта. Положение обострялось в пери од экономических кризисов, сопряженных с безработицей, в особенности при реакционных правительствах, которые в таких случаях вводили жесткую процентную норму для иностранных рабочих. Но в рабочей среде это не вызывало ни антагонистических, ни шовинистических настроений. Среди какой-то части мелкой буржуазии-лавочников, среди правой интеллигенции можно было наткнуться на ограниченное шовинистическое самодовольство. Здесь порой бытовало гнусное словечко: «грязный иностранец». Но я могу засвидетельствовать, что за тридцать с лишним лет пребывания во Франции, в постоянном общении по роду службы с французскими рабочими, мне ни разу не пришлось услышать это недостойное выражение.
Бережно храню в памяти один случай. У меня был приятель Жюль Дюбоск, маляр-декоратор, отличный мастер, у которого я профессионально многому научился.
Это был типичный нормандец, с голубыми глазами и пышной соломенного цвета шевелюрой. До войны мы вместе работали на одном предприятии. Во время очередного экономического кризиса дирекция временно сократила часть персонала. Под сокращение попал и Дюбоск. Один из служащих стал науськивать Дюбоска на меня:
– Пойди к хозяину, скажи, что тебя, француза, сократили, а иностранца оставили!
Дюбоск ответил:
– Жорж такой же рабочий, как и я. У него ребенок, так же, как и у меня. Жена у него тяжело больна, а моя здорова и работает. Что касается национальности, я на это плюю. Национальность для меня не имеет никакого значения!
В первые годы эмиграции вожаки «Белого движения» пытались сохранить свою власть и влияние над беженской массой. Используя сложную международную обстановку, им удалось, на какой-то короткий срок, «сохранить армию» на чужбине. Они морочили головы о скором и неизбежном возобновлении гражданской войны в России. Люди клевали на эту удочку еще и потому, что это избавляло их от необычайно трудного собственного устройства своего материального положения на чужбине, без денег, без знания языка, без трудового опыта и в большинстве случаев без профессии. Даже в первое время после «окончательного роспуска армии» в столице Югославии некоторая часть русской студенческой молодежи ходила в военной офицерской форме, в погонах и со шпорами!
Вот что мне собственноглазно и собственноушно пришлось видеть и слышать.
Студенческая столовая в русском студенческом общежитии в Белграде. К бывшим сослуживцам приехал гость, их бывший командир конно-артиллерийского дивизиона, полковник С. Компания чинно сидит за столом и ужинает. Вдруг к столу подходят двое. Студенты, но в конно-артиллерийской форме. Шпоры. Белоснежные гимнастерки – по моде, чуть ли не до колен. Офицерские золотые погоны. Явление довольно обычное, как я уже говорил, в то первоначальное время русской эмиграции в Югославии и Болгарии. Это те, кто считали себя «временно прикомандированными к Университету до возобновления военных действий против большевиков».
Некоторые из них были шокированы обращением «коллега».
Один из таких студентов, в довольно задрипанных красных гусарских штанах, огрызнулся в кулуарах Университета на обращение «коллега»:
– Я вам не коллега, я лишь временно прикомандирован к Университету до … – и так далее. – Можете обращаться ко мне по чину: г-н корнет!
Видимо, господин корнет в свое время был несколько своей лошади, что, впрочем, было неплохим профессиональным качеством – «чем глупее человек, тем лучше его понимает лошадь», – писал Чехов.
Итак, двое подошедших к столу щелкнули шпорами, и один из них обратился к гостю:
– Господин полковник, разрешите выкинуть из зала эту сволочь! – кивок в сторону одного из студентов, сидевшего за столиком соседней компании. – Эта сволочь произносит социалистические слова!
Можно себе представить смущение и удивление гостя.
– Вы здесь старший, потому мы к вам и обращаемся, господин полковник!
Выкинуть «сволочь, произносящую социалистические слова», правда, не удалось, так как у «сволочи» оказалось достаточное количество энергичных друзей, но скандал получился довольно громкий, чего, видимо, и добивались два подошедших к столу идиота.
По Белграду в походной форме подпоручика артиллерии, путаясь в шпорах, расхаживал худющий, седовласый Харьков профессор Давац. Врангелевский бард. Он был «произведен в офицеры» в галиполийском лагере и был счастлив носить погоны. В реакционной эмигрантской прессе, в стихах и прозе, утверждал, что в борьбе с большевиками продолжает «служить литургию верных», призывая к этому своих единомышленников. Но уже в галиполийском лагере началось разложение «ортодоксальной непримиримости 20-х годов», когда под защитой французских оккупационных властей из расположения «воинских частей» стали сниматься огромные полотняные бараки и уходить в новый беженский лагерь. Уходили от «военной службы», из подчинения военному начальству. Бараки действительно «шли», так как люди несли их в неразобранном виде на себе.
С первых же лет изгнания немалую роль в распылении армии сыграла и демократическая часть эмиграции, парижская газета «Последние Новости» и Республиканское Демократически Общество (Р.Д.О.) Они вели резкую полемику с правой эмиграцией, утверждая, что с окончанием гражданской войны – игра проиграна и в новых условиях нелепо пытаться гальванизировать труп. Хотя в противовес «активистам», они выдвигали весьма туманное положение о «неизбежной эволюции большевиков», однако их резкая полемика способствовала дифференциации беженской массы. У многих русских людей в результате разочарования и гибели прежних легкомысленных надежд начали рождаться новые мысли, новые настроения, появились пристальное внимание и любознательность к процессам, происходящим на покинутой родине.
На левом фланге эмиграции прочно обосновался «Союз возвращения на Родину».
Так обстояло дело до войны. А окончательно убила «ортодоксальную непримиримость 20-х годов», а вместе с ней и «белую идею», Отечественная война. Громадное число эмиграции было охвачено тревогой и болью за обрушившуюся на Россию беду, и это свидетельствует о том, что духовная связь со своим народом у большинства эмиграции никогда не прерывалась. Все честное в эмиграции резко отмежевалось от тех отбросов, которые связывали свои надежды с победой фашизма. Эти-то отбросы и оказались как раз самыми «непримиримыми», самыми активными поборниками «белой идеологии 20-х годов». Общеизвестно, что не только Милюков, даже Деникин шельмовал их изменниками Родины.
Что касается новой послевоенной эмиграции, она имеет совсем другие корни и, по существу, не смогла установить никакого контакта с остатками русской Вандеи двадцатых годов. Глубокая вражда разделила ее и с большинством старой эмиграции, настроенной просоветски.
ЕЛАЧИЧ
Только очень сдержанный или очень рассеянный человек при встрече с поэтом Гавриилом Александровичем Елачичем не останавливался и не смотрел ему долго вслед, настолько был необычен елачичевский облик. Поэт был очень тощ и очень высок. Обладал лицом, которое обычно нарасхват у художников столь оно было скульптурно и выразительно, а длина его, казалось, раза в четыре превышала ширину. Большие выпуклые глаза под удивительно крутыми арками бровей и массивным надбровным валиком прикрывали очень тяжелые веки. Длиннющий нос с аристократической горбинкой был достаточно мясист, а хорошо очерченный большой рот выражал доброту и мягкость характера. Но, может быть, самое сильное, страшноватое впечатление производил огромный кадык – вот-вот вывалится, – ходуном ходивший на длинной, тощей шее, и необычайно большие уши, растопыренные почти перпендикулярно к вискам. Казалось, что они непременно должны поднять эту долговязую, тощую фигуру на воздух. Густую копну закинутых назад волос прикрывало желтое соломенное канотье. В общем, принимая во внимание сравнительно мягкий белградский климат, оно оставалось на голове несменяемо почти все четыре сезона года. Судя по буропорыжевшей за давностью соломе, канотье было еще отечественного добротного дореволюционного
производства и в этом своем качестве могло служить, по слову одного эмигрантского поэта, неким символом:
И пыль Москвы на ленте старой шляпы
Я как святыню берегу.
Канотье берегло пыль дореволюционного Петрограда, где Елачич подвизался в качестве молодого поэта.
Так как все конечности у этой фигуры были необычайно удлиненного образца, в соответствии с этим Елачич носил ботинки, вероятно, предельного размера, существовавшего в сербской промышленности. По звериной бедности, достойно украшающей всякого независимого молодого поэта, эти ботинки покупались с расчетом на долгий износ. Вот почему легкомысленному изяществу предпочиталась грубоватая прочность. И, действительно, Елачич носил их долго, до того момента, когда уже никакой сапожный умелец не в состоянии был продлить их многотрудную жизнь. К желтой соломе канотье ботинки покупались тоже желтого цвета, а затем, за их долгую трудовую жизнь, постепенно шло чудодейственное изменение их окраски. Попав из магазина к Елачичу, никогда не знавали они до конца своих дней ни сапожной щетки, ни крема. Под солнцем и дождями они постепенно выцветали, белели и, наконец, покрывались бурыми и белыми полосами и пятнами, так что можно было подумать, что они сделаны по особому заказу из кожи редкой африканской антилопы аккапи.
Елачич был старше нас. Вероятно, ему было под тридцать, а младшему из нас, Голенищеву-Кутузову, едва ли стукнуло девятнадцать.
Елачич публиковал свои стихи еще в России. Среди нас он не был начинающим молодым поэтом, однако и «мэтром» мы его не считали, и он входил в наш кружок просто рядовым членом. Это было добрейшее и доброжелательное к людям существо, умное и образованное, больное туберкулезом и обладавшее милой, тоже чахоточной, женой. Детей у них не было.
Он писал очень грамотные лирические и мистические стихи, вызывавшие одобрение у белградских слушателей, но в русской белградской прессе его не печатали, так же как и нас.
Нам казалось, что гораздо острее и ярче были его сатирико-юмористические пьесы. В свое время он печатал их, как мне помнится, в «Сатириконе». Подписывал он их псевдонимом Якубмуа. И, по его словам, именно Якубмуа принес Елачичу некоторую известность еще в Петрограде. Увы! У меня под рукой нет никаких материалов, чтобы иллюстрировать его творчество.
У меня не сохранилось ни в памяти, ни в архиве ни единого стихотворения поэта.
Однажды я присутствовал при раскрытии этого сложного псевдонима, оно сопровождалось даже графическим изображением. Якубмуа распадался на три слова, и должен был свидетельствовать, что русское, подлинное «Я» Елачича равнялось его же западному «муа», возведенному в куб. Не знаю, в изобретении этого усложненного псевдонима сказалась ли елачичевская нежность к Отечеству, или были на этот счет какие-нибудь иные мистические соображения?
Этот милейший чудак с университетским образованием и совсем не глупый человек то ли всерьез, то ли из прирожденного чудачества увлекался всякими «эзотерическими науками» – теософией, оккультизмом, магией – словом, бредил всяческой религиозно-мистической чепухой. Впрочем, не следует забывать некоторых обстоятельств: давности этих белградских дней. В то время здравствовало еще в полном расцвете творческих сил поколение символистов. Общеизвестно, что автор «Огненного ангела» Брюсов проявлял необычайный интерес к спиритизму и прочим эзотерическим «наукам», включая и черную магию. Блок в стихах: «Тебя, чей сумрак был так ярок…» называет Брюсова и, кажется, без тени иронии, «суровый маг моей земли».
Еще совсем недавно на «башне» Вяч. Иванова творилось, приблизительно в этом же духе, тоже немало чепухи. А Андрей Белый, убежденный антропософ-штейнерянец, принимал участие в постройке антропософского храма Гетеанума в швейцарской деревеньке Дорнах под руководством самого шефа секты доктора Рудольфа Штейнера. Так что же спрашивать с Елачича?
Однажды он пригласил нас к себе посмотреть «последнюю инкарнацию», предварительно разъяснив нам, что это за штуковина. Он брался показать нам предшествующее «перевоплощение» каждого из нас и тем самым выявить подлинные наши лица, в повседневной жизни скрытые под «масками-личинами».
Сеанс предвещал быть забавным, и мы гурьбой отправились к Елачичу почти в полном составе «Ариона» во главе милейшим «стариком-профессором» Е.В. Аничковым. Наши художники – Жедринский, Исаев и Вербицкий запаслись планшетками, карандашами и ватманом, чтобы запечатлеть наши скрытые для профанских глаз «сущности».
Необычайно душная июльская ночь. Квартира Елачичей – две крохотные комнатки. Несмотря на раскрытые настежь окна, духота стояла тягостная. Голубоватый, приглушенный, рассеянный свет: горела единственная лампочка, плотно завешенная синей шалью. Главный атрибут ритуала – серая шерстяная зимняя юбка жены поэта. Мы по очереди садились на кровать, прислонялись спиной к стене, вместо ковра завешенной серым одеялом. Елачич туго укутывал женином юбкой голову сидящего, оставляя открытым только лицо, потом пытала покрыть подолом юбки и грудь. Синий сумеречный свет, погруженное в серую мглу юбки лицо, терявшее свои привычные черты, ставшее неузнаваемым, серый фон стены – словом, рее это создавало какую-то нереальную, таинственную обстановку. Однако женина юбка была из теплой толстой шерсти. Лицо начинало пылать и лосниться от обильного пата. От жары можно было задохнуться насмерть, и очередная жертва нашего мага рисковала явить зрителям уже не предыдущее, а последующее, посмертное свое перевоплощение. Зрители теснились, сидя и стоя, в дверях комнаты. Аничков сохранял на лице вежливое, сдержанное любопытство. Илья был задумчив и тих. Мы, остальные, видимо, сильно раздражали Елачича необузданным неуместным веселым нашим скептицизмом. А должны мы были сосредоточенно, не мигая, напряженно смотреть в закутанное лицо сидящего на кровати. Через некоторое время Елачич впадал в транс и возвещал:
– Вижу!
Я, откровенно говоря, кроме очередной, мучительно-потной, с невольно глупым выражением физиономии, закутанной в хозяйскую юбку, ничего не видел. Но, по уверению Елачича, лицо сначала расплывалось в серой мгле юбки и одеяла, а затем, как на фотобумаге при проявлении, выявлялись новые черты.
Художник Жедринский после «проявления», по слову Евлачича, оказался, правда, не Леонардо да Винчи, а Дюрером, что тоже неплохо.
У меня после растворения всплыла маска Бетховена, мне стало не по себе перед великим композитором, так как я был полнейшим профаном и невеждой в музыке. Некоторые из друзей узрели во мне лик Достоевского, что тоже встревожило мою совесть – в школьные годы, по естественной для отрочества дурости, к Достоевскому относился я с прохладцей, зато сходил с ума от Льва Толстого.
У Голенищева-Кутузова обнаружилось суровое лицо средневекового монаха Петра Пустынника, проповедника первого крестового похода. По сосредоточенному, значительному выражению лица Ильи нам показалось, он не возражал против подобного родства. Кто знает, в свои девятнадцать лет, прикрываясь от нас с Алексеем плащом иронии и зубоскальства, может быть, тайно относился иначе, чем мы, к «последней инкарнации». Вообще, у Ильи было несколько иное отношение и к символизму, более серьезное, чем у нас с Алексеем. Его поэзия мужала под несомненным влиянием Вячеслава Иванова. Впоследствии, став доктором филологии Парижского университета и доцентом Белградского университета, Илья завязал близкое знакомство с маститым поэтом. Вместе с Е.В. Аничковым, давнишним приятелем Вяч. Иванова еще по петербургской Ивановной «башне», Илья ездил неоднократно в Рим навещать ученого поэта, который профессорствовал в каком-то римском католическом высшем учебном заведении. Мы с Дураковым были без ума от поэзии Блока, «Роза и крест» стала целой эпохой в моей судьбе, но к мировоззрению символистов, мифотворчеству, к их «фиолетовым мирам» относились мы весьма сдержанно, кроме того, явно тяготели к акмеистам, к Гумилеву, Анне Ахматовой, Осипу Мандельштаму. Стремились к осязаемой ясности, точности, что явно удавалось Алексею, мне – меньше, во всяком случае, предпочитали сунуть в стихи какой-нибудь «черный автомобиль», чем «роковые черты» и «фиолетовые чертоги», чем явно грешил Илья, отдавая дань символизму.
Дураков оказался Савонаролой, хотя кто-то сказал: «Что вы! Блистательный Арлекин!»
Наконец, Аничков – великодушнейший старик позволил-таки нам, явно рискуя схватить удар, закутать себя в роковую юбку – вызвал ожесточенные споры. Художники узрели в нем врубелевского Пана; Илья, несмотря на известный пиетет к учителю, буркнул что-то насчет ван-дейковского Силена стыдливо опустив эпитет (Пьяный Силен). Однако Елачич упрямо настаивал на Цезаре Борджио!
Сеанс нас очень развеселил. Мы оказались в достойной компании и, чтобы почтить наших предшественников, высыпали гурьбой на ночные белградские улицы и отправились в маленький знакомый подвальчик с земляным полом, с огромными винными бочками у стен, уселись за простой, ничем непокрытый деревянный стол и потребовали у прелестной Зоры, единственной служанки этого заведения, большой глиняный кувшин терпкого, густого красного вина.
Елачич в кабачок не пошел, тайно обиженный нашим «плоским скептицизмом».
Мы его любили, считали редким чудаком, но, по свойственному нам юному зубоскальству, выдумывали про него глупые анекдоты и забавные истории. В особенности Илья. Он уверял, что Елачич скрывает свое директорство ярмарочном паноптикуме, а на прошлой неделе, сидя в кафе, очертил себя магическим кругом и стал невидимкой, на этом основании не отвечал на поклоны знакомых. Не знаю, что до знакомых, но, во всяком случае, магический круг явно не действовал на официанта и не спасал Елачича от расчета за консомацию.
Любопытно, эмиграция вернула Елачичей (у Гавриила за рубежом были двоюродные и прочие братья) к родным пенатам, так как были они некогда выходцами из Хорватии и принадлежали к фамилии известных хорватских магнатов.
Однажды с нашим абсолютно безземельным, безденежным и в полном смысле неимущим поэтом произошел курьезный случай. Он оказался, хотя и сомнительным, владельцем древних замковых развалин.
Как-то летом, бродя пешком по Хорватии, Елачич пришел в небольшое селение, раскинутое у подножия зеленого холма на вершине которого дотлевали руины средневекового замка. Сидя вечером на завалинке избы, поэт разговорился с древним местным дедом и назвал себя. Старик крестьянин внимательно посмотрел на Елачича и еще раз переспросил его имя. И вдруг торжественно сказал: «Долго же ты, Елачич, шатался по свету. Двести лет не было твоей ноги в родных местах!» Оказалось что развалины замка принадлежали некогда роду Елачичей! И поэт очутился на своей родовой земле!
В заключение хочется сказать: никакое панибратство с чертами духами и ангелами, увы, не помогло поэту разглядеть в туманной дали дней свое роковое будущее. Никто из «потусторонних друзей» не предупредил поэта о близкой его собственной инкарнации. Пришла война. При первом налете фашистских мессершмиттов на Белград первая же бомба, упавшая на спящий рассветным сном город, угодила в крохотную квартирку поэта и убила нашего друга, вместе с женой, на той самой кровати, на которой, в далекую знойную июльскую ночь каждый из нас демонстрировал перед друзьями свою «последнюю инкарнацию».








