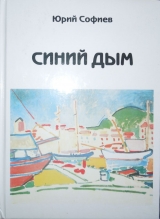
Текст книги "Синий дым"
Автор книги: Юрий Софиев
Жанры:
Поэзия
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 14 страниц)
Из всех центров русского рассеяния – Париж, Прага, Берлин и так далее – Белград представлял из себя как бы концентрацию самых реакционных, черносотенных элементов русской Вандеи. Кажется, нигде не было свалено в кучу такого количества «бывших» людей из бюрократически-чиновничьего мира рухнувшей российской монархии, как в столице Королевства сербов, хорватов и словенцев. Губернаторы, сенаторы, директора департаментов, думские деятели правых реакционных партий, военные генералы и тайные и действительные статские советники, митрополиты, архиереи, архимандриты, игумены разбежавшихся монастырей и за их спинами густые толпы богомольцев и в особенности богомолок, с постными, елейными лицами и с дикой, жгучей ненавистью к революции, к большевикам особенно; затем – полицейские и жандармы всех рангов, помещики, тоже всех рангов и состояний, губернские и уездные предводители дворянства, представители крупной буржуазии и финансовые деятели, недюжинные авантюристы и просто жулики, но эти люди – уцелевшие буржуи еще имевшие свои собственные денежные мешки и международные связи в финансовом и торговом мире, не задерживались на Балканах, они катили прямо в крупные европейские центры: в Париж, Берлин, Брюссель, Прагу, кое-кто в Варшаву и Рим, и даже в Лондон.
Избегали Балкан и деятели февральской революции и связанные с ними либеральные и радикальные интеллигенты. Черносотенная русская беженская масса их бы просто затравила, как «растлителей и предателей великой России», что она и делала по отношению к некоторым профессорам, устроившимся в Белградском университете. Действовала непосредственно сама, чуть ли не с рукоприкладством, и с помощью и поощрением «Нового Времени», издававшегося в Белграде Сувориным.
Деятели февральской революции отличались от буржуев и тем, что в большинстве своем не имели денежных мешков, но имели кое-какие международные связи, только не в торговых, а в политических и научных кругах, тоже, конечно, буржуазных.
Деятели искусства – писатели, художники, артисты, так же, как и ученые, по преимуществу, стремились в Париж, Берлин, Прагу.
С бюрократически-дворянскими обломками рухнувшего самодержавия на Балканах осела, по крайней мере, в первые годы эмиграции и главная масса разгромленной в Крыму врангелевской армии – от высшего генералитета до демократических «низов».
Официальным представителем России в Белграде много лет после революции оставался бывший посланник царской России Штрандман. Только после падения кабинета Пашича, когда в июне 1924 года лидером демократической партии Довидовичем было оформлено новое правительство, оно наконец отказалось считать бывшего царского посланника Штрандмана официальным лицом, хотя никаких дипломатических отношений с советской Россией установлено не было.
Официальным военным агентом при посольстве был царский генерал граф Потоцкий, продолжавший представлять разгромленную, несуществующую врангелевскую армию.
Единственной всесильной в среде эмиграции политической организацией был «Русский высший монархический совет», его возглавлял некто Крупенский, не то член Думы, не то высокий бюрократ и бывший крупный помещик.
Очень большую роль, и исключительно реакционную, в эмигрантской среде играло духовенство. На Балканах обосновались самые крайне реакционные его представители. Ведущим в этих делах здесь был митрополит Антоний Храповицкий. Личность весьма заметная, но и мракобес исключительный. Академик Духовной Академии, не лишенный ни ума, ни своеобразной образованности и культуры, он был известен в определенных кругах России, еще до революции, не только как иерарх руководитель и организатор своих церковных дел, но и как теолог, теоретик литератор. В литературных и читательских кругах знали о его книге «Творчество Достоевского».
Сведущие люди в свое время много рассказывали об Антонии забавно-анекдотического и возмутительного, но моя память абсолютно ничего не удержала из этих рассказов, сохранилось только впечатление, что известность Антония всегда носила несколько «скандальный» характер. Видимо, этому способствовал нрав Храповицкого. Крупный, бородатый мужчина, он был резок, самоуверен, груб и циничен в своих крайних высказываниях, будто бы ни с кем и ни с чем не считаясь. Любил соленые анекдоты и крепкие сомнительные слова, чем ставил в весьма неловкое положение богомольных девиц и старух – своих «жен-мироносиц», – окружавших и обожавших своего пастыря.
В Сремских Карловцах, в городке к северу от Белграда, состоялся церковный съезд, вошедший в историю русской церкви как «Карловацкий церковный собор». Я не в курсе церковных дел, но общеизвестно, на этот собор собрались только самые крайние, монархического толка церковные деятели эмиграции, выдвинувшие одним из тезисов, в качестве постулата, не требующего доказательств, что история русского народа зиждилась на двух основных началах: православии и самодержавии. Эти два понятия неотделимы друг от друга, всегда являлись, должны и будут являться основными ценностями русского народа. Естественно, что подобный собор внес раскол и разделение в среду эмигрантов. Естественно, что «здоровое русское национальное сознание» считало главными своими врагами революцию и «безбожную, сатанинскую власть» и вело беспощадную борьбу с ними. Собор выбрал митрополита Антония главой «истинного православия» и стал предавать анафеме всех несогласных, «лишая их благодати», «отлучая их от истинной православной церкви». Карловатцы нашли свою паству среди крайне реакционной части русской эмиграции, обосновавшейся по преимуществу на Балканах. Антоньевцы внесли раскол в эмигрантскую церковную общественность. В Западной Европе, в Париже, глава эмигрантской церкви митрополит Евлогий, отвергнув постановления Карловацкого собора, остался в подчинении Вселенского Константинопольского греческого патриарха, но любопытно, что на левом фланге этого подрясного воинства стояла довольно интересная фигура – бывший врангелевский «златоуст», митрополит Виньямин. Очень тонкий, почти «бесплотный» монах с бледнейшим лицом, окруженным ореолом черных кудрявых волос, с горящими экстатическим огнем глазами. Он действительно был «златоустом» и в проповедях красовался своим красноречием. Этот монах, похоронив свое прошлое, и собрал вокруг себя наиболее «левых» священников, которые тяготели не к музейной, а к современной, новой России и к своей родной матери – Московской патриархии.
На маленькой, тихой улочке Петель, в весьма демократическом 15-м округе Парижа, населенном в большом количестве и русскими скромными тружениками – шоферы такси, рабочие автомобильных заводов Рено и Ситроена, мелкие служащие кстати, писатели и поэты, – словом, теми, кому положение и карман не позволяли селиться в более фешенебельных округах Парижа, была устроена в бывшем полуподземном гараже небольшая церковь. Русские художники расписали ее в простом, но строгом стиле скита XVII века. На улицу Петель потекла и соответствующая паства, состоящая из людей, тоже томящихся тоской по утраченной Родине. Между прочим, Виньямин ввел в свой непосредственный служебный коллектив некую принципиальную «коллегиальность». После службы, когда расходились прихожане, Виньямин собирал всех участников ее на обсуждение прошедшей службы и близких к этому вопросов. Мне, чуждому и далекому от всяких церковных дел, о том, что происходило на Петеле, рассказывал близкий человек, непосредственный участник этих собраний.
Вот что произошло однажды во время службы. Два молодых иподьякона с большими горящими свечами при выходе на амвон столкнулись лбами. На обсуждении долго судили и рядили, видимо, с мистической точки зрения, как это могло произойти? Как и почему? Пока старенький попик мрачно не буркнул, сильно напирая на «о»: «Потому, что ходить не умеете!»
Но я забежал вперед. Однако я еще не кончил с Белградом. Именно в Белграде, единственный раз в моей жизни, в одной семье, на заседании студенческого кружка мне довелось лицом к лицу встретиться с Антонием Храповицким.
Предварительно несколько слов об этой семье и об этом кружке, поскольку оба эти явления в свое время были характерными чертами белградской студенческой эмигрантской среды. Кстати, впоследствии, на протяжении всей эмиграции, члены этой семьи и многие из этого кружка играли весьма заметную роль в эмигрантской общественности, науке и, наконец, в «Сопротивлении» во время оккупации Франции.
Речь пойдет о Зерновых. Московский врач М. Зернов пользовался широкой известностью не только у москвичей. В Ессентуках у него была санатория, где лечились и отдыхали виднейшие представители творческой интеллигенции России. Шаляпин, Станиславский и многие другие любили отдохнуть в какой-нибудь из летних месяцев в Ессентуках у доктора Зернова. Естественно, что эти люди общались и с семьей доктора, а в семье росли дети: Николай и Володя, Маша и Соня. И вполне естественно, что высокий уровень культуры в семье и соприкосновение с верхами творческой интеллигенции весьма благоприятно действовали на интеллектуальное и культурное развитие зерновского молодого поколения. Я не знаю, когда семья Зерновых попала в эмиграцию, но при моем поступлении в Университет все четверо – два брата и две сестры – вероятно, года два уже были студентами Белградского Университета. Я не застал главу семьи: он был уже в Западной Европе, а мать оставалась с детьми до окончания ими высшего образования. Зерновы не соприкасались ни с черносотенными монархическими кругами, ни с военными представителями «белого движения». Но духовенство привечали. В том числе Антония Храповицкого. Это требует предварительных пояснений.
Я уже отмечал, что церковь в эмигрантском быту играла известную роль. Это отнюдь не свидетельствовало о какой-то повышенной религиозности эмиграции. Это была просто национальная бытовая традиция, столь обычная и привычная в дореволюционном быту России.
В Париже на улице Дарю высится бывший посольский собор, а во времена эмиграции – резиденция митрополита Евлогия – главы Западноевропейских православных церквей. За высокой железной оградой большой двор со службами. Этот двор – обычное место «встречи друзей» по субботам и воскресеньям, во время служб. В это время двор переполнен народом. Друзья, встретившись, вовсе не поднимаются в церковь, а идут через улицу, где напротив церкви бойко работают три русских ресторанчика. Ресторанчики не пустуют. Часы церковных служб – часы «пик» для них. Здесь можно получить и русскую, и французскую кухню, усевшись за столиком, а можно постоять и у стойки за рюмкой водки с горячим пирожком, ломтем пирога или с ассортиментом различных закусок. Но главное – это беседы и воспоминания о делах и днях давным-давно минувших «под небом Родины моей». В известный сезон здесь можно застать друзей, усердно трудящихся вокруг большого блюда с горой раков, сверкающих яркими красными панцирями. Друзья запивают их хорошим эльзасским, а то и чешским пивом.
ОТЕЦ
Отец мой жил в беженской колонии Пачир. Несколько раз я к нему ездил. Он жил не один, а дружеской компанией в пять человек. Среди них – бывший юрист, служащий окружного суда, который занимался главным образом живописью. Меня несколько удивляли размеры человеческого тела, которые он изображал: то необычайно длинной была левая рука, элегантно подложенная под голову; то были неестественно коротки ноги у лежащей фигуры натурщика. Так как я сам рисовал, то нелады с масштабом мне бросались в глаза.
Отец, обладавший чувством юмора, тоже мне указывал на это. Все остальные были военные артиллеристы. Когда отца называли полковником, он всегда просил называть его по имени-отчеству: «Какие мы полковники? Мы покойники!» – смеялся он.
Среди артиллеристов были два подполковника, бывших командира батареи, и сослуживец отца по Японской воине, по Дальнему Востоку и по первой мировой войне – царский генерал-лейтенант, старинный приятель отца, Арсений Чаплыгин. Это был в свое время человек довольно любопытный. Человек, изрядно почудивший в жизни.
Служа на Дальнем Востоке, будучи еще сравнительно молодым, Чаплыгин был два раза женат и два раза разведен. Синод не давал ему разрешения на третий брак. В дореволюционной России законным браком считался только церковный. И вот Чаплыгин подает по начальству рапорт, прося довести его до Петербурга. В Петербурге находилось главное артиллерийское начальство, какой-то великий князь – генерал-фельцехмейстер артиллерии. И этот рапорт под общий хохот по дороге доходит до Петербурга, и Чаплыгин получает разрешение жениться третий раз. А рапорт был такой: Чаплыгин докладывал, что он любит женщину и они хотят жениться, но синод не дает разрешения, и он поставлен в безвыходное положение. Для них возможен только законный брак, который сделает женщину полноправной, и он введет ее как свою законную жену в свое общество.
Компрометировать честную, порядочную женщину он не может – тут была ссылка на Тютчева с Денисовой и прочие аргументы, а потому он просит еще раз ходатайствовать перед начальством о разрешении, и если будет получен отказ, то он убедительно просит направить к нему батарейного ветеринарного врача на предмет кастрирования. У него, здорового, нестарого и крепкого человека, остается один только выход…
Отец работал на станции около этого селения – сторожем, оберегал по ночам груз в запломбированных товарных вагонах.
В 1924 году, летом, приехал в Белград, поселился у меня, в нашей комнатке, на нашей голубятне. Мои товарищи очень уважали и любили отца. Это был простой человек, очень скромный, действительно, по-настоящему державший себя демократично с людьми и в обществе. В прошлом службист, любивший свое артиллерийское дело, он заботился о людях и не раз говорил: «У строевого офицера на первом месте должна быть служба и любовь к своему делу, даже семья может быть на втором месте, после службы».
Может быть, слишком наивный в своих принципах, в вере в людей, скрупулезно честный и не делавший никаких подлостей, он всю жизнь держался вдалеке от начальства. Во время первой германской войны проявил большое мужество и храбрость. Заслужил две статутные награды: офицерский Георгиевский крест и Золотое георгиевское оружие, ну и Владимира с бантом и мечами. Получал и очередные награды на войне, как всегда, с мечами и бантом. В сорок лет был полковником, командовал отдельным артиллерийским дивизионом. В 1917 году должен был получить артбригаду и чин генерал-майора. Революцию не понял и потому не принял. Болезненно переживал развал старой армии и еще до Октября ушел в резерв чинов.
Когда отец умер в 1934 году, в одной из его тетрадей я нашел запись: «Все думаю, правильно ли я поступил, что уехал на юг, бросив семью, и что уехал за границу? Нет, не прав! Время показало, что народ был не с нами, а с большевиками. И я обязан был быть с народом».
ВО ФРАНЦИЮ!
Генерал Потоцкий, ставший представителем Врангеля в Белграде, занялся выгодной коммерцией – он связался с рядом французских фирм и стал поставлять им русских рабочих. Среди русских беженцев поднялась безудержная агитация за переезд во Францию. Генерал брал на себя все хлопоты по устройству переезда: доставал разрешение на выезд и на въезд – все брал на себя генерал. Белградские беженцы должны были только собственнолично подписать контракт с такой-то французской фирмой, в которой они обязаны работать целый год.
Я не помню, сколько взимал Потоцкий с рабочих, подписавших контракт, но основной доход у него был от фирмы за доставку рабочих рук.
И в нашей товарищеской среде начался переполох, люди потеряли покой и начали оживленно обсуждать возможность переезда во Францию. В нашей комнате постоянно говорил об этом с моим отцом некто Андрей Войцеховский, студент-юрист, при эвакуации он был юнкером старшего курса артиллерийского училища, и «произвели» их в офицеры уже в Галлиполи, где он поступил к нам в батарею. Это был разумный, очень самоуверенный практический реалист, очень скоро освоившийся в нашей среде. Не все черты характера Андрея мне были по душе. Он был очень волевой человек, но порою заносчивый до наглости. Его положение обязывало его к большой скромности, но ее явно ему недоставало. И что особенно коробило – он был весьма почтителен с начальством и высокомерен с подчиненными, с солдатами. Внешне он выглядел мужественным, хоть его нельзя было назвать Аполлоном Бельведерским. Он был низкого роста, с длинной спиной, на кривых, коротких ножках. Но ему было присуще в достаточной степени чувство юмора, и он сам рассказывал о себе с улыбкой: его мать горевала, что Андрюша не вышел красавцем, сестра его была очень красива, а его отец, председатель окружного суда, утверждал: «Для мужчины много не нужно, если он чуть лучше обезьяны – он уже красавец!»
Физиономия Андрея к тому же носила неправильные еврейские черты, хотя никакой еврейской крови у него не было. Увы! У него даже была некоторая склонность к юдофобству. И по его же рассказам, когда он, переведясь из Варшавской гимназии в Лубянскую, пришел в блестящем мундире в общежитие, то сосед, посмотрев на Андрея, видимо, решил поставить вопрос ребром:
– А скажите, чи вы не из жидив?
В белградские студенческие годы, как и все мы, Андрей ходил «без штанов», скромно жарил на нашей печке немного рубленого мяса, самого дешевого сорта, с помидорами, избегая лишних расходов на обед в студенческой столовой.
Теперь же Андрей все время говорил с моим отцом, убеждая его в том, что нужно ехать во Францию.
Отца он убедил, хотя и убеждать не было особой необходимости, так как отец сам был охвачен этими настроениями.
Они вдвоем принялись за меня. Я всю мою жизнь «был в полной власти странствий и дорог», соблазнить меня путешествием в незнаемые страны было в конце концов не трудно.
Андрей бросал свои государственные экзамены, не кончая университета. «Ничего, – говорил легкомысленно он, – закончим во Франции!» Отцу моя богемная жизнь тоже не нравилась, и он мечтал вырвать меня из богемы и поместить в более нормальное существование. Я, конечно, не собирался всю жизнь сидеть в Сербии, и потому я тоже решил пожертвовать государственными экзаменами. И мы отправились к Потоцкому.
Мне было грустно покидать нашу компанию: Алексея Дуракова, Илью Голенищева-Кутузова, профессора Аничкова, но меня влекли странствия.
На вокзале были шумные проводы, были друзья из «Одиннадцати» и студенты из общежития.
Завтра вечером, поезд скорый.
Завтра, кажется, будет среда.
Встанут в окнах, озера и горы.
И прощание навсегда!
А когда я проснулся рано утром, поезд стоял на австрийской станции в горах. Огромная гора с белой снежной вершиной четко отражалась в небольшом круглом озере. Ярко светило раннее утреннее солнце. По синему небу плыли белые облака. По берегам озера стояли густые горные ели, свежие хвойные леса.
Потом мы проехали через сердце Тироля, через Инсбрук.
«К утру Альпы», – учтиво сказал проводник.
И я видел, как ты засветилась.
И лишь солнечный луч к изголовью проник —
До конца ты окно опустила.
Электрический поезд несется в горах.
И я помню, как ты мне сказала:
«Нумидийские всадники вязли в снегах.
Погибали слоны Ганнибала».
Белизна, белизна этих вечных снегов —
В даль смотрел я восторженным взором!
Знали Альпы сиянье и русских штыков,
Здесь провел их наш старый Суворов.
Целый день мы стояли с тобой у окна
В безмятежном блаженном томленье.
Ты устала. Под вечер ты стала бледна…
Эти стихи я написал по воспоминанию в 1929 году, я был уже год как женат на Ирине Кнорринг, и в воображении она стояла со мной рядом у окна вагона. На самом деле, я не мог накинуть вязаный теплый платок на плечи – так было в моих стихах, – поскольку ничьих «зябких плеч» рядом со мной не было. Я стоял у окна один.
Затем мы пересекли «маленький» Рейн, недалеко от его истоков, потом ехали вдоль Цуриковского озера в Швейцарии и после Базеля переехали во Францию. Нас привезли в Туль, где оформили и вывезли на автомобилях в деревушку на работу.
Я был очень возбужден и, как идиот, очень доволен. В моем воспоминании живо стояла «Моя жизнь» Чехова, которая произвела на меня такое сильное впечатление, когда я был юношей.
Нас определили на довольно тяжелые земляные работы. Компания Шнейдера электрифицировала железные дороги на юге Франции. В горах Оверня рыли туннели, собирали в них воду, подводя к речке, и сбрасывали ее со скалы в сто метров, затем строили гидростанцию.
Нас поместили в бараки, где на нарах спали русские, поляки, чехи, болгары, итальянцы, испанцы и арабы. Конечно, почти не было французов, кроме начальства. Рядом со мной спали матросы коммерческого флота, которые списались на берег и работали. По вечерам они шли в кафе, где происходили дикие драки между «братьями-славянами», с опрокинутыми столами и летящими винными бутылками. Заказывали дешевое местное сухое девятиградусное вино «пинар» и занимались нелепейшим соревнованием, правда, очень оживленно и весело. Они сидели друг против друга и выдумывали самые нелепые и дикие ругательства. Самые дикие, бессмысленные эпитеты и фразы вызывали шумный, бурный восторг. Они как-то затащили и меня с собой в это кафе. Я заказал бутылку Ронского вина. Парни были очень довольны и начали свое соревнование. Я посидел должный отрезок времени, извинился и ушел.
Я познакомился с одним русским интеллигентом. Он повел меня в старинную каменную церквушку – позднего средневековья, так и стоящую в этом селении несколько столетий
Он заявил мне:
– Здесь я играю!
– На чем?
– На органе. – И он мне рассказал следующую историю.
– Видите ли, я был когда-то неплохим пианистом, и как-то, встретившись со старичком-пастором, я его спросил, не позволит ли он мне в свободное от службы время поиграть на органе.
– Пожалуйста, – согласился он, предварительно все же справившись, знаю ли я орган.
Я сказал, что я музыкант, пианист, и что, вероятно, скоро освою и орган, – хотя я и не сказал ему, что уже играл на органе. Он дал мне ключи и захотел послушать меня. Я решил дать несколько душещипательных романсов моего времени: «Ты сидишь у камина и смотришь с тоской…», «Отцвели уж давно хризантемы в саду…» и какой-то печальный старинный вальс. Ну, в общем, старик вдруг пришел в восторг от моей игры, пристал ко мне с просьбой. Он предложил мне играть во время мессы. Я смутился и сказал, что для мессы нужно что-то специальное, а я кроме нескольких пьес Баха ничего не знаю.
– Что вы, какой там Бах! Вот что вы теперь играли – это замечательно подходит: это так грустно, меланхолично, мелодично… Прелестно! Прелестно! Это берет за душу!
Я не стал ему объяснять, что я играл, сказал только, что попробую.
– Ну, вот и чудесно! Конечно, я буду вам платить за работу, меня же нет органиста. Мне даже самому приходится играть во время мессы, но это очень неудобно. Значит, мы с вами сговорились?
И вот я по воскресеньям и выдаю: «Ты сидишь у камина» и прочие вещи. Всем нравится, а мне еще и деньги платят! – И он сказал:
– Пойдем в кафе, выпьем что-нибудь. Я вас угощаю! – Кругом была чудесная природа. Дичь. Горы. Хвойные леса.
На каждый день я получал разные наряды. Но чаще всего я через наклонно стоящую железную сетку просеивал довольно крупную гальку, замешивал ее с цементом. Сетка стояла у входа в туннель, куда уходили рельсы, а на них стояла моя вагонетка. Наполнив раствором, вагонетку гнали по туннелю.
В бараке, где мы жили, располагалась и столовая. Ее держала испанская семья. Муж работал каменщиком, а жена с двумя детьми взрослыми дочками, орудовали в столовой. Они кормили нас три раза в день. Утром, на завтрак, давали кофе с молоком и бутерброды с маслом и сыром. Кто хотел, ел суп. В полдень – обед из двух блюд: жаркое и сладкое. У французов есть народная пословица: вода хороша только для лягушек, и соответственно с этим французы пьют преимущественно очень дешевое девятиградусное вино. В романских странах никто не сядет за стол, если на нем не стоит бутылка «пинара», то есть сухого дешевого легкого вина. За завтраком хозяйка давала нам шопин (пол-литра) этого вина. Его пьют, обычно разбавляя водой. В четыре часа пополудни рабочие обычно в городе забегают в кафе, съедают бутерброд с сыром и стаканом вина. А после работы, вечером, жена подает обед – обычно суп-наполеон, мясной бульон с накрошенными кусками белого хлеба, какое-нибудь мясное блюдо, обязательно отдельно зеленый салат, кусочек сыру и сладкое или фрукты, причем едят все это под шопин «пинара».
Сколько раз впоследствии приходилось мне бывать у приятелей-французов, настоящих рабочих, но по воскресеньям жены их непременно на второе приготавливали кроликов красном вине, а после обеда мы все вместе отправлялись в соседнее «бистро» и заказывали бокальчик черного кофе «арозе маленькой каплей», то есть с влитой в него маленькой рюмочкой рому. Между прочим, французы уверяли меня, что слово «бистро» произошло от русского слова. Когда в 1812 году русские войска были в Париже, «ле казак рюсс» – «русские казаки» (все русские именовались именно казаками) вбегали в кафе, заказывали консомацию и кричали «Быстро, быстро!» Во французском нет звука «ы». Ударение во всех словах стоит на последнем слоге, и получилось «бистро». Может, это и так.
Я приходил к себе в барак, мылся, переодевался и шел в столовую обедать. После работы аппетит был хорошим, и я съедал три блюда, привыкал есть отдельным блюдом зеленый салат, выпивал свой шопин и заказывал чашечку кофе. В столовой стоял большой лакированный ящик, заводили его, ждали, когда начнутся сначала вздохи, потом какие-то грохочущие звуки и, наконец, появлялся вальс и веселые поляки шли приглашать одну из дочерей хозяйки, хорошенькую испанку Аглаю. И мы все потом танцевали с ней.
Было тепло. Стоял сентябрь. Жить и работать здесь в Оверни, было можно. Но ни отца, ни Андрея условия жизни и работы никак не устраивали. Андрей начал наводить справки и недели через две после нашего приезда заявил нам:
– Друзья мои, мы поедем в Монтаржи – это городок на юге от Парижа, в 126 километрах, там каучуковый завод, большая колония русских. На завод принимают рабочих, и жилищные условия там нормальные, не то, что здесь.
– А как же с нашим контрактом? Ведь мы его подписали на год, – спросил я.
– Это все ерунда! Никто и не спросит. В субботу будет зарплата, мы подаем заявление об увольнении, вечером садимся на поезд и укатываем, а можно и ничего не подавать: сесть на поезд и уехать.
Мы так и решили. Действительно, в субботу мы получили зарплату и вечером уехали в Монтаржи. Я сказал грустно: «Прощай Овернь!»
С нами ехал еще один новый знакомый. Это был рабочий, работавший с отцом и живший с ним в одном бараке. Он очень привязался к отцу и все уговаривал взять его с собой. «Отец, – говорил он грустно, – возьми меня с собой в Монтаржи!» – «Ну поедем!» – отвечал ему отец. Это был молодой кубанский казак. Звали мы его Матюша, так он сам представился – уменьшительное от Матвея. С ним произошла забавная история. Во время поездки Андрей узнал, что у нас ночью в Орлеане, вероятно, будет пересадка. Мы дремали, когда Андрей увидел, что мы стоим на большом вокзале, и выскочил узнать, где мы. Прибегает и кричит: «Скорей, скорей вылезайте! Поезд сейчас уходит. Нам нужно пересесть на другую ветку!» Хватает свои вещи и бежит, мы за ним. Действительно, через минуту поезд наш ушел, а недалеко стоял поезд на Монтаржи. «Боже мой! – воскликнул мой отец, – Матюша-то укатил!» Матюша спал в соседнем вагоне, и мы его не успели предупредить. Андрей спокойно сказал: «Ничего, через несколько часов он попадет прямо в Париж и его вернут в Монтаржи». Через несколько минут наш поезд отошел в Монтаржи. Туда мы приехали рано утром. Наняли такси и покатили в Вазине – местечко в четырех километрах от вокзала, где был завод. Мы подъехали прямо к заводу. Ворота были еще закрыты, но у ворот уже стояла небольшая группа, ожидая открытия. К ней присоединились и мы. Вдруг слышим знакомый голос на дороге, и кто-то бежит к нам с сундучком на плече: «Отец что же ты меня оставил!» – «Ну вот, рассказывай, как ты попал сюда? Ну, вставай к нам, сейчас будем наниматься!»
Вот что рассказал нам Матюша: «Я спал. Вижу, подъезжаем к большому городу. Улицы большие, а дома грязные-грязные, каменные, аж черные. Вижу, что весь народ собирается сходить. Я к ним, показываю в окно, спрашиваю: «Что за город?» Они, бусурмане, по-своему болтают, и я только на своем. Мы друг друга ни черта не понимаем. Я ж недавно из Сербии приехал. По-сербски балакать могу, а на ихнем – не. Я побежал в ваш вагон. Смотрю, ваши места пустые. Значит, уехали. Бросили меня отец пропадать! Вышел я, когда остановился поезд. Показываю билет кондуктору, он залопотал, я ему – мотаю головой: ничего, мол, не понимаю. Повел он меня к начальнику. Залопотали тут они друг с другом. Начальник объяснил мне, что они хотят посадить меня в другой поезд. Я говорю: «Нет! Денег я не дам! Кондуктор знает, куда я ехал, он должен был меня разбудить
и предупредить с пересадкой». Повели меня на поезд. Они поговорили с проводником и мне объясняют: «Через час смотри в окно и читай названия станций, как прочитаешь «Монтаржи», значит, приехал, так и слезай. Проводник знает, куда тебе ехать, он подскажет». Так я понял. Через час стал читать, а сразу от Парижа – буквы их я уже немного понимал, хотя читать-то мне, отец, трудно. Вот я смотрю на билет и на название станций сверяю. Не знаю, сколько времени прошло, только голова у меня разболелась. Вдруг смотрю: Монтаргис. Я за вещи, и проводник кивает головой: мол, приехал! Вхожу и спрашиваю, мне, говорю, на «Резин». «Резин», я же знаю, что завод работает на
резине. Сначала не понимали, а потом один говорит: «А, юзин, юзин!» (фабрика). Вот шагай по шоссе, будет деревня Резинэ, там – твой «юзин-резин». Вот я и пришел. Вижу, вы стоите у ворот, я к вам».
– Ну, слава Богу, что нашелся, – сказал отец и стал объяснять Матюше, как все получилось и что мы его не бросили.
Так началась наша жизнь во Франции.








