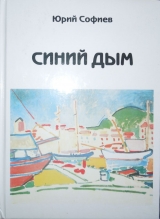
Текст книги "Синий дым"
Автор книги: Юрий Софиев
Жанры:
Поэзия
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 14 страниц)
ЮРИЙ СОФИЕВ. СИНИЙ ДЫМ (Алматы, 2013)
Надежда Чернова. От составителя
Юрий Борисович Софиев (Бек-Софиев) родился 20 февраля 1899 г. в небольшом польском городке Белле, где его отец, Борис Александрович Бек-Софиев, будучи кадровым военным, служил офицером-артиллеристом. Во время русско-японской войны Борис Александрович был на фронте, а семья жила в Нижнем Новгороде, где Юрий Софиев учился в кадетском корпусе. После войны отец остался на Дальнем Востоке, и семья туда переселилась. Юрий продолжил учёбу в Хабаровском кадетском корпусе, потом – в Константиновском артиллерийском училище в Петербурге. Вместе с отцом участвовал в Белом движении – сначала в Ледяном походе, потом в конно-горной кавказской артиллерии, в чине поручика, а отец его занимал должность генерала при Деникине, с которым они были однокашники ещё до I Мировой войны – служили в одной батарее.
В 1920 г. отец и сын Софиевы с армией Врангеля эмигрировали в Галиполи, а семья – мать Лидия Николаевна и двое братьев Юрия, Лев и Максимилиан, остались в России. В тридцатые годы Максимилиан был репрессирован и погиб в одном из лагерей Магадана. Под угрозой была и свобода Льва Бек-Софиева, и тогда он с матерью спешно бежал в Крым, а оттуда – в Германию. Семья воссоединилась только после Великой Отечественной войны. Они встретились во Франции.
В Галиполи Юрий с отцом пробыли недолго и вскоре перебрались в Югославию. В Белграде Юрий стал учиться в университете, посещать литературные кружки, тогда же появилась и первая публикация его стихов, в сборнике «Гамаюн» (1923 г.) Потом он переехал во Францию, где прожил более трёх десятилетий. Был активным участником «Союза русских писателей и поэтов во Франции», печатался в эмигрантских изданиях Парижа, Нью-Йорка, Шанхая, Германии, издал книгу «Годы и камни».
В 1927 г. он женился на известной поэтессе Русского Зарубежья Ирине Кнорринг, которая тоже была эмигранткой, попала во Францию из Туниса, куда с родителями бежала в 20-е гг. Отец её, Николай Николаевич Кнорринг, историк, музыкант, писатель, преподавал в Крыму в Морском корпусе историю и литературу, и вместе с корпусом, вместе с русской эскадрой семья Кноррингов очутилась в Африке, а оттуда переселилась в Париж. Николай Николаевич стал работать в русской Тургеневской библиотеке, а Ирина поступила на учёбу во Франко– Русский институт, где учился и Юрий Софиев. Там они и сблизились, познакомившись впервые на одном из литературных вечеров. Венчали их в русской церкви иконой «Радость странным», написанной в Бизерте одним из гардемаринов и освещённой в корабельной церкви. В 1929 г. родился сын Игорь. Но Ирина Николаевна ещё до замужества заболела тяжёлой формой диабета и рано ушла из жизни – в 37 лет, холодной зимой 1943 г., в оккупированном немцами Париже. Любовь и трагедия до конца жизни не отпускали Юрия Борисовича, пронизали все его стихи.
Во время Великой Отечественной войны Юрий Софиев участвовал во Французском Сопротивлении, помогал бежать в безопасную зону пленным советским гражданам, укрывал у себя евреев, потом и сам попал в руки фашистов – его угнали на принудительные работы в Германию. Возвратился во Францию только после войны.
Он всегда хотел вернуться на родину, жил этой мечтой, не брал французского гражданства. Советские паспорта он и его семья получили в 1946 г., но тогда ещё опасно было ехать в СССР – можно было оказаться в сталинских застенках, в лагерях ГУЛАГа. Вернулась семья только в 1955 г., после смерти вождя.
Обосновались в Казахстане, в тёплой Алма-Ате, где Юрий Борисович тут же устроился научным иллюстратором в Институт Зоологии АН Каз. ССР. Он с детства увлекался рисованием, любил природу, путешествия, и новая его работа пришлась ему по душе. Он гордился ею, тем более что во Франции мыл окна больших парижских магазинов, дышал ядовитыми парами на химическом заводе в Монтаржи, и всегда был человеком второго сорта, как и другие русские эмигранты, жившие в постоянной нищете.
В Алма-Ате возле своего жилья посадил он сад и цветники. У него, наконец-то, после долгого кочевья по чужим углам, появилась собственная крыша над головой. Из окна наблюдал снежные вершины гор, слушал птиц и писал стихи. Писал письма оставшимся на чужбине друзьям. Возобновил дневник. Восстанавливал в памяти годы скитаний, что отразилось в его мемуарах «Разрозненные страницы». Но на родине при жизни у него не вышло ни одной книги. Гранки уже готового к изданию сборника стихов «Парус» были рассыпаны. Советская цензура всё же припомнила ему, что он белоэмигрант. Но в периодической печати, хоть и изредка, публикации появлялись. Активно сотрудничал он и с просоветскими изданиями на Западе. Туда посылал, в основном, очерки о новом своём бытие на родине.
Творческое наследие Юрия Софиева долго было в забвении. И только в 2003 г. сын Юрия Борисовича, Игорь Софиев, выпустил на свои средства сборник отца «Парус», напечатал в журнале «Простор» (Алма-Ата) и его мемуары, и многие стихи. Теперь выпущены в свет и дневники Ю.Софиева («Вечный юноша», Алматы, 2012).
Учёные, литературоведы, писатели пишут о нём исследования, статьи, научные работы, которые выходят не только в Казахстане, но и в России, во Франции, США, Израиле, Польше, Эстонии, Канаде и других странах.
Наша семья благодарна всем, кто хранит память о Юрии Софиеве, кто возвращает русскому читателю его творчество.
Настоящая книга – «Синий дым» – это, по сути, собрание сочинений Юрия Софиева, куда кроме его поэзии включена и мемуарная проза.
«Синий дым» – так назвал он одну из рукописных своих книжек. Он сшивал листки бумаги в книги, вписывал туда свои стихи и прятал в стол, не надеясь, что когда-нибудь они дойдут до читателя. Одна из таких книжек – «Пять сюит», посвящённая пяти женщинам, которых он любил в разные годы, и память о которых трепетно хранил в своём сердце. Часть стихов из «Пяти сюит» вошла в сборники «Годы и камни» и «Парус», потому здесь – под рубрикой «Пять сюит» – даются только те стихотворения, которые не вошли в эти книги.
Рассыпаны записи и по разным тетрадям, блокнотам, обрывкам бумаги, то набранные на плохой машинке, то начертанные от руки, быстрым и неразборчивым почерком, отчего часто приходилось читать с лупой, расшифровывая летящие строки. Некоторые строфы, темы, а иногда и стихи повторяются, но в новом варианте, и они сохранены в книге, дабы видна была работа поэта, движение его мысли. К сожалению, не все стихи датированы.
Даже в неудачных отрывках, в риторических строфах прослеживается драматическая судьба поэта и его поколения, суровый и честный диалог со своей совестью, потому и заведомо слабые в художественном отношении стихи решено было оставить в книге. О лучших – были восхищённые отзывы известных эмигрантских поэтов Владислава Ходасевича и Георгия Адамовича, Виктора Мамченко, Антонина Ладинского, Ильи Голенищева-Кутузова и др. Благоволил к Ю.Софиеву и Иван Алексеевич Бунин, с которым Юрий Борисович дружил.
О них, и о многих других рассказал он в своих «Разрозненных страницах», которые завершают книгу, а предваряет эту публикацию предисловие сына Ю.Софиева, Игоря Юрьевича Софиева (1929–2005).
Умер Ю.Б. Софиев в 1975 г. в Алма-Ате. У него было больное сердце.
Надежда Чернова.
КНИГА «ГОДЫ И КАМНИ» (1927–1935)
Париж, 1936
жене моей
Ирине Бек-Софиевой-Кнорринг
«…Но никогда любить не перестану
Тебя, стихи и молодость мою…»
Ирина Кнорринг
«Мой сын, иль внук, быть может, правнук…»
МОЛОДОСТЬ
Мой сын, иль внук, быть может, правнук,
Должно быть, сохранит в глуши шкафов,
Среди имён значительных и славных,
Мой скромный труд – два томика стихов.
И может быть, в какой-то зимний вечер,
В живой библиотечной тишине
(Осуществится ль трепет нашей встречи?)
Он подойдёт задумчиво ко мне.
И прочитав на рыжем корешке
Написанное золотом: «Софиев»,
Подумает о сгнившем старике:
Писал стихи и жил в года какие!
Мой путь земной сумеет оправдать —
Писал стихи, таков удел поэта.
Но мне-то, мне-то как же сочетать
Два томика стихов и жизнь…
У взмыленных коней и у орудий
Мы верили, по-детски горячо.
В чём, милый друг, уверена ты, в чём?
– С тех пор, как одиночество нас судит.
Ты чувствуешь, как нам предельно трудно
Жить и писать в предельной пустоте.
Уже и мы с тобою в жизни скудной
Уставшие, не прежние, не те.
И вот, не узнаваемой и новой,
Сознаемся, становится для нас
Страна, которую в недобрый час
Мы покидали – в утра час суровый.
И только сердца безнадежный стук
Свидетельствует об огромном горе.
Вглядись, – почти у каждого во взоре
Печаль непоправимейших разлук!
За гордость? За упрямый вызов ей?
Иль просто подошли года такие?
Как трудно нам на совести своей
Нести невыносимую Россию.
1934.
Где и когда мы с тобою встретились?
– Напряжённая бледность лиц.
Нашу дружбу и верность отметили
У окраин горящих станиц.
Под неизбежной угрозой снаряда
Не припадали к тёплой земле.
К стремени стремя скакали рядом,
Ночи и дни напролёт в седле.
Помнишь, как пели сердца: «скорее!»
Шпора спешила коня обжечь.
На дымной и пыльной батарее
Выла, захлёбываясь, картечь.
Помнишь пароль наш короткий: «Россия»,
Сухое и твёрдое: «Назад никогда!»
Эти зловещие, глухонемые
Нами разрушенные города.
Дрогнувший голос – Ты веришь? – Верю!
Крепкая, цепкая хватка рук.
Кто возвратит нам нашу потерю,
Незабываемый друг?
1927.
К лошадке потной липнут овода.
Струится жар над выгоревшей степью.
И медным гудом стонут провода.
Отрадно нам родное благолепье.
Должно быть, так же Николай Ростов
Катил в упругом, ладном тарантасе.
Хвостом хлестала лошадь оводов,
И был мужик лицом вот так же красен…
Спокойно дремлет спутник на сиденье.
Буравит жаворонок синеву, —
Нам снится сон о жизни – наяву
Упорный гул орудий в отдаленье.
А в утро свежее и росяное
Сосед мой, мирно едущий со мной,
Быть может, будет выведен из строя
С простреленною пулей головой.
Дремотой вялой взгляд его погашен,
Качается безвольно голова.
И вдруг – простые, нежные слова
О доме и о синеглазой Глаше…
1927.
Ник. Радецкому
Уже летит в степной рассвет
Мой голос: «Подтяни подпруги!»
Суровой молодости други,
Свидетели жестоких лет.
Ведь нам до смерти будут сниться
– В дыму – горящие станицы,
И ржанье взмыленных коней,
И жаркий грохот батарей…
Труды дневные в стороне —
Разваливаемся на бурке,
Под звёздами и в тишине
Беседуем о Петербурге.
И голосом совсем не тем,
Уже не резким и не громким,
Опять о «Розе и Кресте»,
О кораблях, о «Незнакомке»…
Земля невспаханных полей
Под брюхом лошади упругим…
Жестокой молодости други,
Невольники высоких дней.
1927.
Н. Станюковичу
Тачанка катится. Ночлег уж недалёк.
Подводчик веселей кнутом захлопал.
Налево был недавно городок,
Дремал в пыли и звался Перекопом.
Направо море – свежей синью вздуто.
Изрытый, в ржавой проволоке, вал.
На стыке с морем огибаем круто
Глубокий ров. Взгляд на скелет упал —
Полузасыпанный, не нужный никому,
А жёлтый череп на дороге пыльной.
Попридержи-ка! Череп я возьму
В сентиментальное свидетельство о были.
Здесь карабин в затылок разрядили.
Присыпали землёй. Копать? Тут нужен лом!
Сойдёт и так! Толково закурили —
И некто смех взорвал забористым словцом.
И череп бережно я прячу в свой мешок.
И укоризненно копну волос колышет
Подводчик. За бугром сады и крыши.
Блаженный час! Ночлег уж недалёк.
1927.
Барону Анатолию Дистерло
ПАМЯТИ ОТЦА
О, романтические дали
Уже неповторимых дней.
Мы в восемнадцать лет седлали
Строптивых рыцарских коней.
Мой друг! И ты был легкомыслен.
По хуторам – сирень цвела.
Не убирали со стола
Лафит и кисловатый рислинг.
Уверенно гремели пушки
По Малороссии твоей.
И чернобровые хохлушки
Поили наших лошадей.
А то, забыв дневные беды
И вытянувшись на рядне,
Ведём, не помня о войне,
Ночные долгие беседы.
Теперь от этих трудных дней,
И от того, что после было,
От мёртвых и живых друзей
Освободиться мы не в силах.
И я коплю, как алчный рыцарь,
Богатство этих страшных лет.
А нашей юности стыдиться
У нас с тобой причины нет.
1927.
Осёдланных коней подводят рядом.
Осмотришь тщательно и быстро всё.
Коня огладишь – покосится взглядом.
В галоп! И к батареям конь несёт.
Ещё сентябрь ярок, и вдали
Вся в золоте осенняя долина,
И солнечные шапки георгина
На белых хуторах не отцвели.
Ещё плывёт дымок чужой шрапнели,
Ещё шумит густой российский лес,
И на твоей простреленной шинели
Простой эмалевый белеет крест.
1934.
Медленно падали жёлтые листья дубов.
Южная осень плыла синевою над нами.
Кони хлестали хвостами больших оводов
И головами мотали, стуча мундштуками.
Сзади тянулись орудья твоих батарей,
Жирною пылью солдатские лица серели…
Над непокорною, трудною жизнью твоей
Вечно подковы о камень дорожный звенели.
С маленьким циркулем, в огненном страшном аду,
С Цейсом у глаз и с «трёхверстной» зелёною картой…
Что ты припомнил на койке больничной в бреду:
Гул канонады, семью иль кадетскую парту?
Вот облетают каштаны последней весны.
С этой весною уходишь и ты без возврата.
Горе изгнанья и подвиг высокий солдата
Здесь на земле тебе были судьбою даны.
1934.
И страшный стук земли о крышку гроба,
Рабочие, священник и друзья,
И то, что мы переживали оба…
Я знаю – этого забыть нельзя.
На что теперь тебе моя забота,
Мои цветы, отчаянье и стыд,
И этот взрослый – тайный – плач навзрыд,
Ночные ледяные капли пота.
Осенний запах вянущих цветов.
Всё кончено и всё непоправимо.
Так раскрывает смерть неумолимо
Последний смысл простых и страшных слов.
1934.
Моей матери
«Провожать тебя я выйду,
Ты махнёшь рукой…»
М.Лермонтов
Годы и камни
Так с тех пор до конца, до могилы,
Этот воздух широких полей,
Этот брошенный дом. – Брат мой милый,
Оседлаем скорее коней!
И над вздыбленными городами,
И над горьким костром деревень
Только брезжил, вставая над нами,
Наш высокий, наш трудный день.
Жить иначе нет веры, нет силы.
Не щади себя, не жалей!
Это ты мою жизнь осветила
Колыбельною песней твоей.
Реял сумрак кровавый над нами,
Безнадежно клоня на ущерб.
Умирали за белое знамя.
Умирали за молот и серп.
Илье Голенищеву-Кутузову [1]1
Голенищев-Кутузов Илья Николаевич (1904–1969) – потомок фельдмаршала Кутузова, поэт, переводчик, известный советский учёный. В эмиграции был – с 1920 г. Ю.Софиев познакомился с ним в Югославии, они были активными участниками литературного кружка «Гамаюн», учились в Белградском университете. В 1933 г. Голенищев-Кутузов защитил докторскую диссертацию в аспирантуре Сорбонны (Франция). Во время великой Отечественной войны оказался в немецком концлагере, как заложник. После освобождения примкнул к сербскому движению Сопротивления, воевал в рядах Югославской народной армии. После возвращения на родину И.Голенищев-Кутузов работал старшим научным сотрудником в Институте мировой литературы им. Горького АН СССР (см. подробнее о нём в мемуарах «Разрозненные страницы»).
[Закрыть]
«Весь этот хлам – осадок дней…»
Не знаю где, но это было, было…
И в те отягощённые года
Бежала варварская кровь по жилам,
Соборы строились и города.
И нет, не романтическая шпага,
Не рыцарей блистательный турнир, —
Но ясен образ мастера и мага,
Творящего ещё не бывший мир.
И он, неведомый и безымянный,
Упрямою и крепкою рукой
Преображает хаос первозданный
В геометрически послушный строй…
Ещё пожара потушить не могут,
Не всколыхнулась ночь, метёт метель,
А мы уже выходим на дорогу,
Упрямолобых мастеров артель.
1930.
Алексею Дуракову [2]2
Алексей Петрович Дураков (1900–1944) – поэт, участвовал в Белом движении, в эмиграцию попал в начале 20-х гг., будучи гардемарином на крейсере «Орёл». Ю.Софиев с А.Дураковым подружился в Югославии. А.Дураков – один из авторов сборника «Гамаюн». Во время Великой Отечественной войны А.Дураков ушел в югославские партизаны и геройски погиб. Посмертно награждён правительством СССР орденом Отечественной войны 2-й степени, среди других российских соотечественников за рубежом, которые боролись против гитлеровской Германии.
[Закрыть]
«О, времени внезапный лёт!..»
Весь этот хлам – осадок дней —
Дневник, стихи, листки альбома
Найдёт среди других вещей
Мой любознательный потомок.
Разобранные взяв бумаги,
Он скажет: «Дед мой, эмигрант…»
И собеседника стакан
Весёлою наполнит влагой.
О странствиях и о сраженьях
Речь поведётся за столом.
Расплещется воображенье,
Разгорячённое вином.
Кивком укажет на архив,
Подвинет пепельницу ближе,
И скажет: «Дед писал стихи
И прожил много лет в Париже…»
1928.
«Я с детства странствиями окрылён…»
О, времени внезапный лёт!
Летит, летит за стрелкой медной,
А пастушок свирель берёт
К губам фарфоровым и бледным.
На полках крашеных, добротных,
На этажерке, на столе,
В тяжёлых, прочных переплётах, —
Свидетели давнишних лет.
И пожелтевшая бумага
Благоуханно шелестит.
Вот Нельсон – адмирал со шпагой,
Вот Бонапарт у пирамид.
Единственный во всей вселенной
Пейзаж неповторимых крыш,
И Александр Благословенный
Вступает в трепетный Париж.
А вот мой дед, майор уланский,
Со Скобелевым говорит,
А по дороге Самаркандской
Усталый ослик семенит.
И мёртвых нет. Одни живые.
Там, в бездне отшумевших дней,
Горят огни сторожевые
Несытой памяти моей.
1929.
Встреча
Я с детства странствиями окрылён,
И баловня неволи и свободы
Качали и ритмический вагон,
И палуба большого парохода.
В дни юности и трудной и суровой
Возил, под орудийный лязг и шум,
Истрёпанные книжки Гумилёва
На дне седельных перемётных сум.
И с прежнею неутолимой жаждой
Хочу я слушать, видеть, верить, жить,
И проклинаемую не однажды
Земную нашу теплоту любить.
Прохладный вечер. В синеве долины
Особенно напевны голоса.
И чёток хруст велосипедной шины.
На склонах Галлии шумят леса.
1929.
Альпы [3]3
Семнадцать сжигающих лет.
Вы сетуете: «Неужели».
…Над озером бледный рассвет,
Над озером тёмные ели.
Как почва у наших болот,
Так зыбкое счастье непрочно,
Так к осени клонится год,
И дни холодней и короче.
Редеет наш северный лес,
И за погибающим летом
Застенчивого кадета
Уносит сибирский экспресс…
1929.
Стихи посвящены жене Ю.С., Ирине Кнорринг, хотя он не был ещё с нею знаком в этой поездке, которую воссоздаёт в своей памяти, но перенёс её образ – в воображении – в те времена, о чём пишет в своём Дневнике (Юрий Софиев, «Вечный юноша», дневник, Алматы, 2012).
Ирина Николаевна Кнорринг (1906–1943), поэт, мемуарист, автор книг «Стихи о себе», «Окна на север», «После всего», «Повесть из собственной жизни».
[Закрыть]
Бовэ
«К утру Альпы», – учтиво сказал проводник,
И я видел, как ты засветилась.
И лишь солнечный луч к изголовью проник,
До конца ты окно опустила.
Электрический поезд несётся в горах.
И я помню, как ты мне сказала:
«Нумидийские всадники вязли в снегах,
Погибали слоны Ганнибала».
Целый день мы стояли с тобой у окна,
В безмятежном блаженном томленье.
Ты устала. Под вечер ты стала бледна,
У тебя заболели колени.
Нас застав у окна, распростёрся у ног
Синий незабываемый вечер.
Стало холодно. Вязаный тёплый платок
Я накинул на зябкие плечи.
1929.
Замок Ричарда Львиное Сердце
Помнишь, как мы подходили
Ночью к собору с тобой.
За руки взявшись, бродили
По улице вековой.
Какие-то великаны
Начали строить его,
Страшный, нелепый и странный,
И не сделали ничего.
Хаос дрогнул. Своё виденье
Высекали и день, и ночь.
Но ни вера, ни напряженье
Его не смогли превозмочь…
Снова шуршали шины,
По холмам синели леса.
И дорога, как свиток длинный,
Бежала из-под колеса.
Ни за какое небо
Не отдадим мы с тобой
Корку простого хлеба
Нашей жизни земной.
«Hotel de Sens. Когда-то на исходе…» [4]4
Мы взошли. Вот он, замок-титан.
Вся Нормандия с вышины
Обозрима. И вся залита
Синим светом полной луны.
Мы одни. Синева. Тишина…
Полноводная Сена внизу.
Волшебство этой яви иль сна
Я с собой навсегда увезу.
В год он выстроил замок такой,
Заслуживший названье Gaillard,a.
То-то радостью гордой и злой
Билось сердце Ричарда.
Над Нормандией тишина.
Над Нормандией светит луна.
Загорается матовым блеском
В Андели черепица крыш.
Эта ночь на скале отвесной —
Щедрый дар от древней страны.
А большая летучая мышь
Режет жёлтое поле луны.
1935.
Это стихотворение в рукописях хранится и под заголовком «Сент-Антуанское предместье».
[Закрыть]
Версаль [5]5
Hotel de Sens. Когда-то на исходе
Средневековья обитали здесь
Епископы. И ловкий гид приводит
Все данные. Советует прочесть
Таких-то авторов. А камень чёрен.
Дыхание больших веков хранит.
Уж распадался, не был так упорен,
Как некогда, дух зодчества в те дни.
В невероятных, в узких переулках
Зловоние, еврейский говор, мрак.
А в булочных, на пряниках и булках
Помёт мушиный или тмин и мак.
А я смотреть спокойно не могу
(Чьё сердце не волнуется в Париже?)
На это кладбище, на эту мглу,
По вечерам на этот полог рыжий.
И эти почерневшие гробы,
Что по ночам друг к другу жутко жмутся,
Вздымало разъярённо на дыбы
Святое пламя многих революций.
1929.
Стихов о Версале у Ю.Софиева несколько. Это была незабываемая прогулка с Ириной Кнорринг накануне их свадьбы. Ирина Кнорринг тоже написала стихи о Версале, перекликаясь со строфами Ю. Софиева (Ирина Кнорринг, «После всего», Алма-Ата, 1993).
[Закрыть]
Отдых
Трубит труба над лесом
В осенний ясный день,
И вот у ног принцессы
Затравленный олень.
Принцесса на картине,
А осень наяву.
И мы у тёмных пиний
Садимся на траву.
Сквозь редкий лес осенний
Белеет Трианон.
Теперь и наши тени —
Лишь выдуманный сон.
А здесь, у водоёма,
Частенько поутру
Играли жантильомы
В опасную игру:
Их по местам разводят —
Такой простой сюжет, —
А друг уже наводит
Испанский пистолет.
1930.
«Сквозь шумы автомобилей…»
Земное счастье. Лето. Тишина.
Медлительное облако над садом.
Чуть пламенеющая даль видна.
Ты рядом – больше ничего не надо.
Как будто не было обид и зла,
Все эти годы с радостью приемлю.
В густом овсе кричат перепела.
На что ещё мы променяем землю?
Я большего не жду и не ищу,
Хоть каждый миг всегда сулил разлуку… [6]6
Стихи написаны в Шартре. «Каждый миг сулил разлуку» потому, что Ирина Кнорринг была смертельно больна диабетом.
[Закрыть]
И матовую от загара руку
Роняешь ты в высокую траву.
1932.
«Свод потолка и холоден и крут…» [7]7
Сквозь шумы автомобилей,
Чириканье воробьёв.
Сквозь всё, что мы позабыли,
Мне вспомнилось имя твоё.
Где ты? – в Нью-Йорке, в Шанхае,
В Калифорнии или в Москве?
…Мы любили с тобою в мае
Ходить по свежей траве.
Почти ничего не осталось
От прошлого. Даже сны
Концом своим и началом
Уходят в годы войны.
И как в обречённости некой
У страшных снов мы в плену,
Потому что нельзя человеку
До конца позабыть войну.
А в то безмятежное лето
Мы жили в доме большом.
Стрелял я из пистолета
И ездил с тобой верхом.
1935.
Это стихотворение потом будет переделано и напечатано в 1973 г. в казахстанском журнале «Простор» в новой редакции.
В готическом соборе
Свод потолка, и холоден, и крут.Холсты картин, давным-давно поблёкших.И только той же райской радостью цветутСредневековые цветные стёкла.Заснул Адам под деревом в саду,Склонился змей и искушает Еву.И вот уже архангел, полный гнева,На землю гонит к бедам и труду,А грешников поджаривают бесы,Склонясь над яслями, мычат скоты…Вдруг с башенной, огромной высотыПоплыл удар, густой и полновесный.Перекрестилась женщина, солдаты…Века, века о том же! – о пощаде!И с тою же надеждою во взгляде,И так же исчезают без следа!А приходящих вновь встречают чертиИ каменного ангела рука.Какая это мутная тоска —Как унизительно искать бессмертья!
[Закрыть]
Свод потолка и холоден и крут,
Холсты картин давным-давно поблёклых,
Но той же райской радостью цветут
Средневековые цветные стёкла.
Заснул Адам под деревом в саду.
Склонился змей и искушает Еву.
И вот уже Архангел, полный гнева,
На землю гонит, к бедам и труду.
А грешников поджаривают бесы.
Склонясь над яслями, мычат скоты…
И с башенной огромной высоты
Поплыл удар густой и полновесный.
Перекрестились женщина, солдат…
Века, века о том же – о пощаде.
С такою же надеждою во взгляде…
И так же исчезают без следа.
Как грустно, что не существуют черти,
Как грустно, что не крестится рука.
Какая это мутная тоска,
Так унизительно искать бессмертья.
Вот если б мы уехали с тобой
Сейчас в Италию или в Египет,
Или шумели бы над головой
В Австралии гиганты эвкалипты,
Или волны ленивый, мерный всплёск
Мы слышали, и красных сосен пенье,
Или под стук ритмических колёс
Дремали бы в блаженнейшем томленье…
По улицам весёлых городов,
Мы, крепко взявшись за руки, как дети,
Бродили бы, без мыслей и без слов,
Бродили бы – всё позабыв на свете.
Как стало б на душе у нас светло.
От сердца бы всё горе отлегло.
Но в этой жизни счастье слишком редко.
Мы задохнёмся в нашей душной клетке.
1935.








