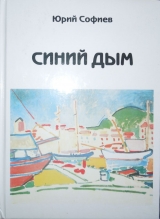
Текст книги "Синий дым"
Автор книги: Юрий Софиев
Жанры:
Поэзия
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 14 страниц)
В субботу я пошел на литературный вечер «Союза русских молодых поэтов и писателей». У кассы сидела красивая блондинка с пышной светлой шевелюрой, с весеннего небесного цвета огромными глазами. Рядом с ней стоял тоже красивый молодой человек с явно украинского типа лицом. Я взял билет и кассирша мне сказала, чтобы я проходил в зал и садился на любой свободный стул. Вдруг молодой человек спросил меня, не поэт ли я? Я ответил, что действительно пишу стихи, был членом двух литературных студенческих кружков в Югославии, теперь переехал во Францию и работаю в Монтаржи. Сегодня в командировке. Я засмеялся и сказал: «Вот все, что я могу сообщить!»
Мы познакомились, он представился: «Виктор Мамченко, поэт, член этого Союза, один из его организаторов. Это наше самоутверждение. Мы должны заявить о себе! «Старики» нас не признают, не хотят пускать нас в журналы. Конечно, они люди большой культуры, мы же – еще случайной и малой, но мы своего добьемся!» – «Такие задачи были и у нас в Белграде. Мы кое-чего добились, выпустили коллективный сборник стихов, о нас заговорили в печати».
Я не стал подробно объяснять наши дела, но Мамченко пришел в восторг и возбужденно сказал: «Вот видите! Молодцы! Молодцы! Вот и мы добьемся признания! Лена, – обратился он к кассирше, – познакомься, пожалуйста, это поэт Юрий Софиев из Белграда, переехал во Францию. Работает в Монтаржи. Переезжайте в Париж, будем вместе работать».
Так завязалась еще одна из дружб на всю жизнь. С Виктором Мамченко и Еленой Майер (Люц).
– Пойдемте, я вас познакомлю с нашими!
– Нет! Виктор Андреевич, сегодня я не буду ни с кем знакомиться, но скоро перееду в Париж, тогда буду у вас.
Мы вошли в зал. Перед вторым отделением был перерыв.
– Вот видите, на председательском месте сидит наш председатель, Юрий Константинович Терапиано. Очень энергичный деятель, это мы с ним и еще с некоторыми людьми создали «Союз». Мы с ним приятели, правда, он принадлежит к правому крылу литературы, близок к Мережковским, к «Зеленой Лампе». Но от политики далек, не высказывает никаких реакционных взглядов. Человек милый.
– Итальянец?
– Нет, армянин, но выдает себя за итальянца. Чудак!
Впоследствии я написал под злую руку нехорошую эпиграмму:
Был предок просто Терапьянц
И персиками торговал.
Потомка Аполлон признал —
Стал Терапьяно итальянц!
Сестра его говорила, что они армяне и вращались в армянском обществе. Но Юрий был культурен, терпим и, зная мои убеждения, относился ко мне доброжелательно, ровно и спокойно. Мы были с ним в приятельских отношениях.
– Вот идет Монашев, поэт, секретарь «Союза». Вон стоят два приятеля: пышная шевелюра, тонкие черты лица – поэт Вадим Андреев, сын Леонида, – между тем объяснял мне Мамченко, – а с ним Владимир Сосинский, прозаик, это левый фланг наш, работает в редакции «Воля России», центральные эсеры, у Виктора Чернова.
– Вот сидит их критик и литературовед Слоним, вон в очках, с шевелюрой, откинутой назад, с таким характерным профилем стоит Дмитрий Кобяков. Алексей Михайлович Ремизов говорит: «Наш Кобяков совсем прозрачный, он ведь от половецкого хана Кобяка». Хоть и от хана, но человек он левых убеждений, вернулся на Родину, живет в Барнауле, что-то читает в каком-то институте, выпустил две книги по языку, печатал воспоминания в «Просторе». Мы были друзьями в Париже, остались ими и здесь. «В жизни он большой оригинал, – говорит Ремизов, – большой шутник, но любит свою Родину и мир, ненавидит войну. Чего же вам еще нужно?»
В это время Терапиано, открывая второе отделение, сказал:
– Сейчас будет читать свои стихи Ирина Кнорринг!
– Сейчас станут читать свои стихи наши поэты. Ну, я пойду, – заторопился Мамченко, – я ведь тоже читаю.
К столу председателя вышла очень милая девушка с большими зелеными глазами, блондинка с густейшими темными ресницами, набрасывающими тень на глаза и даже на верхнюю часть щек. Она читала просто, понятно, спокойно и вместе с тем очень выразительно. Нужно сознаться, мне понравились и поэтесса, и ее стихи. Она читала о Северной Африке, об арабских кострах, о Сфаяте, о какой-то тропинке, которая теперь уже заросла. Через год я с Андреем Войцеховским познакомился с ее отцом. Он, историк, приезжал к нам в Монтаржи читать лекции от Народного Университета. Мы его устроили на ночлег у Войцеховского, вместе с ним поужинали на французский лад с кровавыми бифштексами, зеленым салатом, с сырами, с вином, с черным кофе и рюмкой кальвадоса. Во время беседы я его спросил: «Ирина Кнорринг – это ваша родственница?» – «Это моя дочь, ей двадцать лет, она печатается с Африки с 1925 года».
Андрей, конечно, рассказал, что я тоже пишу стихи, наш гость попросил меня прочитать мои стихи, мне пришлось это сделать. Потом я узнал из его записок, что он нашел нас с Андреем подлинно интеллигентными людьми и провел интересный вечер с нами. На следующий день мы его проводили на вокзал Монтаржи к парижскому поезду.
Через полтора года мы переехали с Андреем в Париж, поселились вместе в маленькой мансарде, в шести километрах от Парижа, в городке Медоне и решили нанести визит Кноррингам. Они жили по соседству с Медоном, в Севре. Вот что записала в своем дневнике Ирина Кнорринг: «…В воскресение были у нас Софиев с Войцеховским, знакомые Папы-Коли по Монтаржи, когда он ездил читать лекцию. Оба они очень симпатичные и производят впечатление именно интеллигентных людей. Войцеховский юрист (бывший, конечно), может быть, поступит в институт. Софиев – филолог и поэт. Ему все-таки пришлось читать стихи, и скажу без преувеличения – они меня ошеломили. Прекрасные стихи. Этот, конечно, в два счета забьет и Ладинского, и Терапиано. И свежее что-то в них, и без модернизации, а просто и тонко так. Мне даже не хотелось читать после него.
Этот вечер оставил след. Мне хотелось подойти к ним (они еще представляются мне одним целым). Все, что было последнее время… институт, студенческие лекции – все отошло куда– то далеко, на первое место выдвинулась опять поэзия во всей ее красоте. Опять потянуло к чему-то старому, к разговорам и стихам, может быть, даже к «Союзу поэтов», к тому, одним словом, с чем я почти порвала…»
Эта встреча 19 сентября 1926 года положила начало большой и настоящей любви, может быть, единственной в жизни – нашей любви с Ириной Кнорринг. Судьба Ирины (что отразилось в ее поэзии) была трагична. Во время студенческих экзаменов она заболела тяжелой формой диабета.
В 1927 году мы поженились. Бывали, конечно, увлечения, но подлинное чувство большой любви вспыхнуло один раз в жизни. Ирина Кнорринг умирала 16 лет! Она поддерживала жизнь ежедневными впрыскиваниями большой дозы инсулина, но исход был предрешен, и в январе 1943 года болезнь свела ее в могилу.
Возникновение этого «Союза», где я встретил Мамченко и Ирину, требует некоторых пояснений. Почти все первое десятилетие эмиграции (1920–1930 гг.) писатели, «маститые старики», весьма немилостиво относились к так называемым «молодым», в большинстве своем по возрасту начавшим только литературную деятельность уже за рубежом.
«Старики» никак не хотели вначале хоть чуточку потесниться, чтобы пустить кое-кого из молодежи на самый краешек стул эмигрантской литературы и, естественно, ее прессы.
И вот этому поколению пришлось употребить немало усилий упорства и настойчивости для своего самоутверждения. В первую половину двадцатых годов по инициативе Виктора Мамченко, Юрия Терапиано и писателя Юлиуса, при поддержке Ант. Ладинского, Вадима Андреева и Вл. Сосинского и был создан «Союз молодых русских поэтов и писателей во Франции». Им удалось создать организацию, которая арендовала довольно большой зал в одном из особняков на улице Данфер-Рошеро в Париже и регулярно, по субботам, устраивала литературные вечера. Отношение «маститых» писателей старшего поколения к этой деятельности «молодых» было различным.
Одним из первых докладчиков, отозвавшихся на приглашение, был профессор М.Л. Гофман, литературовед, известный в эмиграции пушкиновед. Затем Конст. Бальмонт читал о Баратынском.
Принципиально отказался вступать в какой бы то ни было контакт с «молодыми» Ив. Шмелев. И.А. Бунин тоже отнесся высокомерно и враждебно. Позднее он сменил гнев на милость, но об этом ниже. Писатели «среднего» поколения отнеслись к «Союзу» благожелательно и посещали эти вечера. Приходили Вл. Ходасевич, М.И. Цветаева с С.Я. Эфроном (он бывал в ту пору проездом в Париже, так как жил в Праге), Г. Адамович – поэт и ведущий критик «Последних Новостей» и «Звена», Г. Иванов и И. Одоевцева. Мережковский и Гиппиус держались в стороне, но посылали поэта В. Злобина, своего личного секретаря. Бывали Н.А. Тэффи, М.Н. Алданов, М. Цетлин – поэт Амари, один из редакторов и издателей «Современных Записок», он же критик, Н. Берберова, Марк Слоним, один из редакторов и критик «Воли России».
Я в это время не был в Париже, эти сведения мне сообщил инициатор и первый председатель «Союза» поэт Ю. К. Терапиано.
В 1926 году его заменил Ант. Ладинский. В 1927 году я обосновался в Париже. В это время я печатался в журнале «Звено» и в газете «Последние Новости».
В 1928 году я был избран в правление «Союза» в качестве секретаря, а на следующий год, сменив Ант. Ладинского, стал его председателем.
До этого момента, как я уже говорил, «Союз» занимался регулярным устройством литературных вечеров и вечеров чтения и разбора стихов. Теперь первоочередной задачей правление поставило издание коллективных стихотворных сборников, чтобы дать возможность критике заговорить о нас Нам удалось с 1929 по 1932 год выпустить четыре коллективных сборника стихов.
По примеру «Союза», группы «Кочевье», организованная Марком Слонимом, Вадимом Андреевым и Вл. Сосинским при журнале «Воля России», и «Перекресток», возглавляемая поэтами Юрием Терапиано, Юрием Мандельштамом и Ильей Голенищевым-Кутузовым, группировавшимися около Владислава Ходасевича, тоже выпустили коллективные сборники стихов. Нужно отметить, что во всех этих сборниках участвовали почти все те же авторы. Прежде всего, почти все они были членами «Союза молодых…» и на общих основаниях печатались в его сборниках.
«Кочевье» и «Перекресток» по отношению друг к другу стояли на несколько принципиально различных позициях, но и в этих сборниках мы находим несколько общих имен. Явление это было вполне закономерным. Словом, «самоутверждение» наше привело к известному успеху.
К концу двадцатых годов многие «молодые», приблизительно мое литературное поколение, вполне определились и качественно, и количественно. Это поколение фактически, за редким исключением, и стало последним литературным поколением Русского зарубежья.
МАМЧЕНКО
Виктор Андреевич Мамченко родился в городе Николаеве, где жили его родители, видимо, принадлежавшие к мещанскому сословию этого города. Мамченко учился в реальном училище, но, похоже, не кончил его. Во время белого движения пошел матросом в военный флот и был эвакуирован в Бизерту. В Николаеве жила его сестра, с которой он после войны (1946–1947 гг.) стал переписываться. Она ему прислала посылку, но домой не звала. Из Бизерты в начале двадцатых годов Мамченко перебрался Париж и, как и большинство эмигрантов, устроился на физическую работу. Многие годы работал маляром. С этих же пор начинается его литературная деятельность. Мамченко, Юрий Терапиано и Юлиус – три молодых литератора являются инициаторами молодежной литературной организации «Союза молодых поэтов и писателей во Франции». Ант. Ладинский, Вадим Андреев, Вл. Сосинский тоже энергично поддерживали это начинание. Мамченко примыкал к «левой» (литературной) группировке этого объединения, в какой-то мере претендующей на так называемую «заумную поэзию» (В. Хлебников и др.).
Видимо, с этого момента Мамченко резко порывает связи с морской военной средой «белого движения». Но он владел не столько продуманными убеждениями, сколько эмоциональными настроениями. В последующие годы он подпадает под влияние
философа и писателя старшего поколения Льва Шестова. Как известно, Шестов был крупным литератором и значительным человеком, но на Мамченко оказывал скорее отрицательное влияние. Шестов был философ не только идеалистического
толка, но и с сильными религиозно-мистическими тенденциями. Впрочем, по моим наблюдениям, эта дружба (Мамченко считал Шестова своим учителем, слушал его лекции) не только не внесла ясности в мышление Мамченко, но еще большую путаницу.
В начале 30-х годов Мамченко становится завсегдатаем в воскресном салоне Д.С. Мережковского и З. Гиппиус, а также постоянным посетителем, может быть, и членом «Зеленой Лампы».
Мережковские собирали у себя на квартире (они сохранили в Париже, в Пасси, свою старую дореволюционную квартиру), вообще говоря, всех: некоторых старших писателей, писателей среднего поколения (Адамович, Г. Иванов, И. Одоевцева, Н. Оцуп и другие), литературную молодежь различных литературных и политических взглядов, а также политических и общественных деятелей. Явно правых литераторов и монархистов, кажется, у них не бывало, так же, как и деятелей «Общевоинского союза». Бывали главным образом люди право-эсеровского толка – Керенский, Бунаков-Фундаминский, Зензинов и т. д.
Как Мережковский был один из ярых врагов советской власти и любил говорить: «Хоть, с чертом, только против большевиков!» Однако за чайным столом у него молодежь вела ожесточенные споры, и Мамченко тоже мужественно и независимо спорил, часто до скандалов, отстаивая свои взгляды.
После смерти Мережковского, у Мамченко установилась литературная и человеческая дружба с Зинаидой Гиппиус, хотя политически она на него не влияла. В вышедшей после смерти З. Гиппиус книге-дневнике она называла Мамченко «друг».
Несколько слов о характере Мамченко. Он был человеком фантастического склада. Сказывалось и плохое воспитание, полученное в семье. В страстных спорах бывал всегда несдержан, резок, нетерпим, в раздражении переходил на личные выпады и на открытые ссоры. Но позднее всегда раскаивался и старался загладить свою вину. Человек он был прямолинейный, но очень добрый, отзывчивый, может быть, не слишком умный, до известной степени наивный, но всегда верящий в Человека с большой буквы. Всю жизнь живущий напряженной внутренней жизнью, бескорыстно искал он истину. Он был способен искренне возмущаться человеческой низостью и социальной несправедливостью. Однако стоявший вне каких-либо эмигрантских политических группировок и всегда считавший, что его орудием борьбы является литературное слово, всегда веривший, что искусство должно и может преображать жизнь.
Нужно отметить, что в течение многих лет здоровье Мамченко не позволяло ему заниматься физической работой. После войны он перенес операцию, и друзья предполагали, что у него рак прямой кишки. Так как литературный труд в эмиграции никогда не давал материальной возможности существовать, то Мамченко, успевший за 1935–1960 гг. выпустить пять книжек стихов, вынужден был все время искать себе работу по силам. Одно время Мамченко занимался пушуаром – раскрашиванием шелковых женских косынок. Он жил с Еленой Евгеньевной Люц. Эта женщина всю жизнь работала и всю жизнь поддерживала Мамченко. История этой связи очень странная.
Началась она в Бизерте. И началась как обычная любовная связь. У Елены был муж, артиллерийский капитан. В Бизерте они разошлись. Но и с Мамченко официально не считались мужем и женой. В Париже вначале жили в одном отеле, но в разных комнатах. Они никогда не регистрировали брака. Мамченко считал, что вмешательство государства и церкви в личную жизнь оскорбительно для свободного человека. Кстати, Мамченко трудно было в то время назвать неверующим.
У обоих у них была своя личная жизнь, совершенно независимая друг от друга. Но Елена оставалась верным другом больного Мамченко и все время его поддерживала.
Мне кажется, не мешает заметить, что при отношении советских людей к русским, выброшенным и проживающим всю жизнь в Западной Европе (в особенности во Франции) обычно возникают некоторые трудности во взаимопонимании, так как следует учитывать, выражаясь «биологическим языком», среду обитания, которая наложила известный отпечаток на мышление и поступки тамошних людей. Они часто кажутся советским людям странными и чужими. Это явление – результат глубокого различия русского быта и традиций, выработанных веками, с бытом Западной Европы. Многие из тамошних людей, вышедшие из среды старой русской интеллигенции, сохранили или восприняли от нее некоторые взгляды, которые в новой России кажутся чуждыми и непонятными.
ИВАН БУНИН
Мне хочется кратко рассказать не столько о писателе, сколько о Бунине-человеке, с которым мне пришлось встречаться, живя в Париже, на протяжении почти двух десятилетий в русской литературной среде и в домашней обстановке писателя.
В любой нашей библиотеке – общественной и частной – теперь можно найти произведения этого замечательного писателя и книги о нем. За последние годы в России вышло несколько исключительно интересных книг о Бунине (Бабореко, Волкова, Михайлова), но, пожалуй, самые замечательные страницы о Бунине написал Валентин Катаев в «Траве забвения». О Валентине Катаеве в бунинской семье вспоминали нередко. О «Вале Катаеве» говорили с теплотой и признанием его литературных заслуг. Нужно сознаться, что о «литературных заслугах» Ивану Алексеевичу, видимо, всегда было трудненько говорить, достаточно вспомнить его воспоминания о современниках – Брюсове, Бальмонте, Блоке, Соллогубе, Волошине и др., не говоря уже о Горьком, чтобы заметить, с каким удовольствием Бунин макал перо в едкую неразведенную желчь. Уже в 1898 году начинается почти двадцатилетняя дружба Бунина с Горьким. Об этой тесной дружбе двух больших писателей в дореволюционный период знали решительно все мало-мальски соприкасавшиеся с литературными кругами. И когда вышли воспоминания Бунина о Горьком, многие из нас с изумлением прочитали, что сам Бунин называет эту дружбу «странной», «потому что чуть ли не два десятилетия считались мы с ним большими друзьями – пишет Бунин, – а в действительности ими не были», и более того, в 1917 году «вдруг (он) оказался для меня врагом долго вызывавшим во мне ужас, негодование».
Незадолго до смерти Горького Академия Наук выпустила книгу: «Материалы и исследования», посвященную Горькому. Одно из писем Бунина «от 1910 г.» к Горькому очень трудно сочетать с заявлением о «странной» дружбе. «…Жизнь своенравна, изменчива, – пишет Бунин, – но есть в человеческих отношениях минуты, которые не забываются, существуют сами по себе и после всяческих перемен. Мы в отношениях с Вами чувствовали эти минуты – то настоящее, чем люди живы и что дает незабываемую радость. Обнимаю Вас всех и целую крепко поцелуем верности, дружбы и благодарности, которые всегда останутся во мне, и очень прошу верить правде этих плохо сказанных слов».
Что же? Может быть, в разрешение этого «несоответствия» бунинское завещание: «Все мои письма ко мне, ко всем, кому я писал во всю мою жизнь, не печатать, не издавать… Я писал письма почти всегда дурно, небрежно, наспех и не всегда в соответствии с тем, что я чувствовал в силу разных обстоятельств».
Нужно много мужества и прямоты, чтобы написать такое о себе, и все же, думается, не обошлось здесь без беспощаднейшей бунинской «непримиримости», даже, может быть, не в убеждениях, а в жестокой силе человеческих страстей.
«Разные обстоятельства» не помешали Горькому – который с начала знакомства очень ценил могучий талант Бунина: «Вы для меня первейший мастер в литературе русской» – и после разрыва не раз советовать молодым советским писателям учиться блестящему стилистическому мастерству и великолепному русскому языку у Бунина.
В начале эмиграции, может быть, в течение первого десятилетия до начала 30-х годов, многие «старики», «маститые» писатели, в том числе и Иван Алексеевич, не особенно милостиво и внимательно относились к так называемому «молодому поколению» литераторов, которые по возрасту начали свою литературную деятельность по преимуществу за рубежом. Этому поколению пришлось употребить много усилий, упорства и настойчивости для своего самоутверждения в эмигрантской литературной среде. Были созданы с этой целью «молодежные» литературные организации: «Союз молодых русских поэтов и писателей», позднее «Кочевье», «Перекресток». Помимо устройства литературных вечеров и особых вечеров чтения и критического разбора стихов, одной из главных целей этих организаций было издание коллективных, а впоследствии – индивидуальных сборников стихов, чтобы дать возможность критикам заговорить о нас.
Я довольно близко стоял к литературно-организационным и издательским делам, так как в течение четырех лет имел честь быть выборным председателем «Союза молодых поэтов и писателей». За период с 1929 по 1932 годы нам удалось выпустить четыре коллективных сборника стихов членов «Союза», и критика о нас заговорила. Справедливость требует отметить, что в этом деле нам очень помогло весьма доброжелательное отношение литераторов, принадлежащих к так называемому «среднему поколению» – Георгия Адамовича, Николая Оцупа, Г. Иванова, Ирины Одоевцевой. Это были бывшие акмеисты, члены петроградского «Цеха поэтов», затем Владислава Ходасевича и, наконец, Марины Цветаевой.
Георгий Адамович, замечательный поэт, был официальным критиком парижской газеты «Последние Новости». Ту же роль критика выполнял сначала в «Днях», а потом в газете «Возрождение» тоже замечательный поэт Владислав Ходасевич, а страницах враждующих газет скрещивали копья и критики, но оба внимательно и по-своему благожелательно отмечали в печати всякое проявление и рост «молодых».
В эти годы в «Возрождении» печатались под общим заголовком «Записная книжка» критические статьи И. Бунина. Думается, «Записные книжки» славы большому писателю не прибавили. Слишком в них много раздражения, желчи, нехорошего высокомерия. Ивана Алексеевича очень раздражали не только «какие-то Артемы Веселые, Пастернаки, Бабели…» («Возрождение», 1926 г.), но и парижские «молодые» поэты.
Помнится, парижский студенческий литературный журнал напечатал стихи группы молодых парижских поэтов, в том числе и Ант. Ладинского. В «Записной книжке» Иван Алексеевич разделал в пух и прах всех и каждого за бескультурье, за плохой русский язык и прочие грехи. Попало и Ладинскому, причем в обыкновенной, высокомерно-пренебрежительной своей манере Бунин писал: «Какой-то Ладинский…» Самолюбивый Антонин очень обиделся и рассердился на Бунина. Быть «каким-то неизвестным» Ладинским для Бунина он не мог. Они были не только знакомы, но и постоянно встречались на литературных вечерах «Зеленой Лампы», а по воскресеньям и за чайным столом у Мережковских, где собирались многие литераторы решительно всех возрастов. При первой же встрече Антоним свои справедливые обиды Бунину высказал и, рассказывая об этом, прибавлял: «И знаете, Бунин извинился».
Казалось бы, литературная судьба И.А. Бунина с самого начала складывалась блестяще. Вот что сам он пишет о своем начале: «В 1895 году в журнале «Новое Слово» я напечатал рассказ «На край света» – о переселенцах. Рассказ этот критики так единодушно расхвалили, что прочие журналы стали приглашать меня сотрудничать».
В 1896 году вышла первая книга его рассказов, а в 1899 году первый сборник стихов, так как Иван Бунин был не только прозаиком, но и первоклассным поэтом, обе книги весьма благосклонно приняла критика. Забегая вперед, упомяну – весной, как обычно уезжая из Парижа на юг Франции, к себе в Грасс, Бунин, прощаясь, не раз говорил: «До зимы! Буду много работать и прежде всего напишу много стихов». Мы, тогдашние молодые поэты, гораздо больше ценили в Бунине превосходного прозаика, чем стихотворца. Однажды Алексей Эйснер, мой друг, очень одаренный поэт, в то же время писавший критические заметки в прессе «Союза за возвращение на Родину» (потом Эйснер жил в Москве. – И.С.), весьма непочтительно высмеял Бунина, приведя строчку из бунинского стихотворения:
«В кустарниках, трещат коровы…»
С наивным удивлением Эйснер признался – до Бунина думал, что коровы только мычат. И все-таки, бродя по сухому кустарнику, коровы именно трещали, ломая его своей тушей.
Мне нередко приходилось слышать от Веры Николаевны (жены Бунина) произносимые как бы с невольным упреком или с желанием убедить слова: «Какие замечательные стихи писал и пишет Иван Алексеевич!» Между прочим, сам Бунин, казалось, считал себя в первую очередь именно поэтом.
Российская Академия наук не раз присуждала Бунину самую почетную – «пушкинскую» – премию и награждала его золотыми медалями. В 1909 году писатель был избран почетным академиком в области изящных искусств Академии Наук.
И вот в известный момент наступает катастрофический перелом не только в литературной, но и в особенности в жизненной судьбе писателя. Это судьба в конечном счете волей-неволей или по вине самого Бунина становится невероятно сложной, трудной трагичной и противоречивой. Как и многие творческие верхи русской интеллигенции – писатели, художники, артисты, композиторы и ученые – Бунин не смог ни понять, ни принять социальную революцию в России. Даже и часть радикальной интеллигенции, ведшей революционную борьбу с самодержавием, оказалась слишком прочно связанной с социальным укладом старой России и, в конечном счете, Октябрьской революцией была отброшена в лагерь эмиграции.
Так получилось и с Буниным.
В 1919 году писатель покидает Родину и, как впоследствии выяснилось, – навсегда! После кратковременного пребывания в Турции и в славянских странах Балканского полуострова, Бунин оседает во Франции.
На тихой улочке Жак Оффенбах, в нешумном окраинном квартале Пасси, среди старинных особняков с остатками садов-парков с вековечными платанами, каштанами и вязами, по соседству с Булонским лесом, Бунин снял скромную парижскую квартирку в доме № 1, где на том же этаже, на той же лестничной площадке жила семья старинного друга Ивана Алексеевича, художника П.А. Нилуса.
С 1929 года, в том же доме, на той же лестнице, только на самом верху, на чердаке, под крышей, в крохотной комнате для прислуги – кровать, стул, стенной шкаф для белья и одежды будет жить, перебравшись в Париж из Эстонии, молодой талантливый писатель Леонид Федорович Зуров. Бунинский ученик, ставший нечто вроде личного секретаря Ивана Алексеевича, Зуров прочно связал свою жизнь с учителем и по существу стал членом его семьи.
После войны сидел я как-то у Зурова в его комнатке. Мы беседовали о том, о сем, о литературных делах, о людях, как вдруг у очень сдержанного Лени вырвалось: «Знаешь, очень тяжелый характер у старика!» А вместе с тем мы знали, что к творческим способностям Зурова Бунин относился весьма благожелательно.
Любопытны дневниковые записи Галины Кузнецовой, небесталанной поэтессы и прозаика, тоже много лет прожившей в бунинской семье, в Грассе.
Галина Кузнецова появилась на русском литературном горизонте в 1925–1926 гг. Она была очень красивой, очаровательной женщиной, разведенной женой адвоката Петрова и среди «молодых» тотчас было отмечено ее дарование. Среди «стариков» она прежде всего покорила профессора Гофмана, и злые языки утверждали – не столь дарованием, сколь женской прелестью. Однако в берлинской газете «Руль», в статье «о молодых поэтах», Гофман обмолвился: «Отмеченная Богом Галина Кузнецова», на что в газете «Дни» Керенского, где тогда вел литературный отдел Вл. Ходасевич, тотчас же появилась его реплика: «Если не Богом, то во всяком случае проф. Гофманом из “Руля”».
Но тут Галину Кузнецову заметил Ив. Бунин – veni, vidi, vici, этого момента очаровательная поэтесса прочно вошла в бунинскую орбиту. В 1967 году, в издательстве Русского книжного дела в США вышел в свет «Грасский дневник» Г. Кузнецовой, где она пишет: «… В простом, медленно разрушавшемся провансальском доме, на горе над Грассом… Бунины прожили многие годы. Мне выпало на долю прожить с ними все эти годы. Все это время я вела дневник, многие страницы которого теперь печатаю». Отрывки из этой книги появились в нашей периодической печати, но весь дневник, к сожалению, для меня недоступен, а я полагаю, что эта книга не только любопытна, но и весьма интересна и ценна, как свидетельство о повседневной жизни большого и замечательного писателя Ивана Алексеевича Бунина.
Привожу несколько записей из ее дневника, касающихся Зурова.
«23. IX. 1928 г. Некий Леонид Зуров вчера прислал Ивану Алексеевичу книжку «Кадет». Читала первая я. Способный человек. и близко все, о чем он пишет».
«26. XII. 1928 г. Приехал Зуров. Всем понравился. И все мы знали, что в том числе и самому Бунину. И так же все знали – далеко не каждому даровалось благосклонное бунинское признание».
Притчей во языцех ходил по Парижу рассказ: один из наших парижских поэтов презентовал Бунину, с почтительной дарственной надписью, свою новую книгу стихов. Лежа в своей комнате на кровати, Бунин стал ее перелистывать. В бунинской комнате почти всегда горел камин. И вдруг Иван Алексеевич, разразившись самой настоящей русской матерной бранью, швырнул книгу в огонь камина.
В 1923 году, оставив за собой парижскую квартиру на улице Жака Оффенбаха, Бунин переезжает на юг Франции.
Обратимся опять к дневнику Г. Кузнецовой: «Покинув Россию и поселившись окончательно во Франции, Бунин часть года жил в Париже, часть – на юге, в Провансе. В простом, медленно разрушавшемся доме, на горе над Грассом, бедно обставленном, с трещинами в шероховатых желтых стенах, но с великолепным видом с узкой площадки, похожей на палубу океанского парохода, откуда видна была вся окрестность на много километров вокруг, с цепью Эстереля и морем на горизонте, Бунины прожили много лет».
На улицу Оффенбах Бунины возвращались обычно на зимние месяцы, совпадавшие с русским литературным и театральным сезонами в Париже. Бунин выступал с чтением своих произведений на вечерах «Зеленой Лампы», литературного кружка, созданного Мережковскими.
Однако жить литературным трудом, даже для Бунина, в эмиграции было почти невозможно. Тиражи издаваемых книг были смехотворно малы. Молодые поэты обычно издавали свои сборники тиражом в 250 экземпляров. Периодические издания платили мизерные гонорары. Максимальные тиражи бунинских книг были 2500–5000 экз. А обычные тиражи его книг – 500–800 экз.
В судьбе большого писателя наступают черные дни.
В 1924 году Бунин обращается с просьбой к норвежскому профессору-слависту, члену-корреспонденту Российской Академии Наук, порекомендовать какому-нибудь норвежскому издателю, для перевода на норвежский язык, бунинские произведения, «… и заплатил бы мне некоторую сумму денег». Бунин объясняет профессору Брону, что к этой просьбе его побуждает «тяжелое положение эмигранта, все потерявшего в России и лишенного на чужбине почти всех средств к существованию. Живешь в нужде, в постоянной мучительной неуверенности насчет завтрашнего дня». Думается мне, что гордому, самолюбивому, независимому, а подчас и высокомерному почетному академику, замечательному русскому писателю Ивану Бунину было очень нелегко обращаться с подобной просьбой к своему норвежскому коллеге по Российской Академии Наук.








