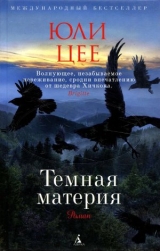
Текст книги "Темная материя"
Автор книги: Юли Цее
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 21 страниц)
4
– Удивительный вы комиссар! Не то чтобы я не хотел поговорить о сущности времени. В конце концов, это – моя профессия. Вы и правда хотите, чтобы я говорил с вами, как с моими первокурсниками? Для меня это будет почти что путешествием в прошлое. Как будто все это давно прошло. Захотели сделать мне приятное? Так что же мне – говорить с вами так, будто ничего не случилось? Сейчас вы смотрите на меня пустыми глазами, как манекен.
Себастьян берет чашку, делает глоток, затем второй, затем третий и только тогда продолжает говорить:
– Мальчиком в школе я хотел как-то написать историю про человека, который вдруг осознал, что вокруг него одни манекены. Теперь уж и не вспомню, что там из этого вышло. Записать я ее не записал. Так что буду говорить с вами, как с манекеном, господин комиссар! Как… с другом.
Вы знаете, что такое материализм? Любовь к деньгам? Нет. Хотя, может, и это. Материализм, о котором я говорю, – это мировоззрение, которое все выводит из одного начала – из материи. Даже идеи и мысли представляют собой с его точки зрения всего лишь проявления материального начала. Например, сны возникают как продукт биохимии.
Весьма популярное мировоззрение. Веру оно не только вытеснило, но заодно и заменило собой. Заповеди материализма триедины и просты. Не подвергай сомнению материальную природу космоса. Слепо веруй в причинно-следственную обусловленность хронологической последовательности событий. Почитай объективность и единственность познаваемой реальности.
Этот символ веры позволяет материалисту утвердиться в действительности так же надежно, как если бы он опирался на Бога. Хотя порой и попадаются феномены, которые противоречат (на первый взгляд!) материалистическим принципам и потому (до поры до времени!) оказываются необъяснимыми. Но против таких сомнительных случаев существует безотказное средство. На пробелы в картине мироздания просто наклеиваются этикетки. Привести пример?
Даже самый гениальный ученый не имеет ни малейшего понятия о том, почему яблоко падает сверху вниз, и заменяет отсутствующее понятие словом «гравитация». Такая же этикетка – «случайность». Или, если угодно, «дежавю», оно же – «интуиция». Непостижимости, закрепленные в терминах. Вы скажете, что девяносто девять процентов всех терминов – такие же этикетки? Возможно, вы правы. Если бы я мог соединить все научные дисциплины в одну, в результате получилось бы то, что давно существует на свете: язык.
Этикетки меня всегда отталкивали. В школе мне трудно было верить учителю, который пишет цифры на доске, но не может объяснить, что такое сила тяжести. Вместо того чтобы слушать его, я переждал, пока не дорос до того, чтобы читать Канта. Я с самого начала подозревал свой разум в тайных происках. Я догадывался, что он что-то добавляет к наблюдениям, что все данные наблюдений он укладывает в уже заданную систему. Таким образом он выстраивает понятный ему мир. И Кант это доказал. Он представил мне время, пространство и причинно-следственные отношения как категории разума. Дело не в том, верю я Канту или нет. Я почувствовалего правоту.
Все пути ведут к познанию, и ни один – обратно! Я очень долго страдал, осознав тот факт, что предметом моих исследований, очевидно, являются не элементарные частицы и их законы, а сам физик, который занимается их исследованием. В какой-то момент я перестал биться над вопросом о том, где находится поле, на котором трудится ученый-физик в поисках истины: в мире объективной реальности или же в мире явлений? Перестав этим терзаться, я начал дразнить своих коллег, утверждая, что вместо физики мы занимаемся психологией. Чистый вопрос дефиниции, не так ли? Разве это повод отчаиваться, покуда существует испытанная основа логики, возводящая надежные мосты над неведомыми безднами! Вероятно, не зря меня называли эзотериком.
Ну что вы! Курите, пожалуйста! Тем самым вы станете одной из двух персон, которым дозволено курить в эти покоях. Вот вам пепельница. Можете верить или не верить в ее вещественность, как хотите! В любом случае она выполнит свое назначение.
То же самое можно сказать и о времени. Оно выполняет свое назначение, и это более или менее все, что нам о нем известно. Согласно общепринятой точке зрения, оно представляет собой подчиняющийся строгим закономерностям процесс, необходимую последовательность причины и следствия. Людям много чего приходится делить между собой, и единственное, что они разделяют мирно, – это общие заблуждения!
Возьмите, например, этот дом. В 1896 году было начато строительство; в 1897-м улицы огласились перестуком плотницких молотков; вскоре стройка была завершена. И что же, по-вашему, было причиной его постройки? Нехватка жилья в начале семидесятых годов девятнадцатого века? Или эстетическая любовь к неоготике и необарокко? Я вам скажу, в чем причина, комиссар Шильф. Причиной строительства было его завершение.
Вы усмехаетесь. Но кое-что говорит в пользу моего тезиса. В какую величину вы оцениваете вероятность того, что план архитектора претворится в готовое здание? Не стесняйтесь сказать наугад! Восемьдесят процентов? Пускай восемьдесят. Вероятность того, что готовому зданию предшествовал архитектурный проект, составляет приблизительно сто процентов. Процесс строительства делает возможнымпоявление дома. Но дом обусловливаетпроцесс строительства. Таким образом, вероятность того, что готовое здание является причиной его же строительства, оказывается несколько больше, чем вероятность обратного предположения.
Вы все еще усмехаетесь. Забудьте этот шуточный пример! Он потребовался только для того, чтобы достучаться до вашего воображения. Пожалуйста, Шильф, не стряхивайте пепел в блюдечко, я же специально принес вам пепельницу! Или вы ее не заметили?
Вернемся к гипотезе о множественных мирах. Надобно сказать, в ее появлении повинен Господь Бог, точнее говоря, его отсутствие. Причиной появления человека на земле, как на грех, послужило чудо. Под чудом я подразумеваю поразительное стечение случайных обстоятельств. В момент Большого взрыва у Вселенной было в запасе бесконечное число вариантов будущего развития. Число вариантов, предполагающих возможность биологической жизни, составляло среди них ничтожно малую долю. И тем не менее был избран тот вариант, который привел к нашему появлению. Все наблюдаемые нами природные константы настроены так, чтобы при них мог существовать жалкий комочек биомассы под названием человек. При самомалейшем отклонении от ныне действующих физических законов нас бы просто не было.
Распробуйте-ка хорошенько, каково это будет на вкус, господин комиссар: вы – невероятность. Я – невероятность. Мы – случайность, вероятность которой равна одному к десяти в пятьдесят девятой степени. Только представьте себе такое число – с пятьюдесятью девятью нулями, Шильф! Сколько раз вам пришлось бы кинуть игральные кости, для того чтобы хоть один раз выпало ваше существование?
Вам становится не по себе от этих чисел? Голова идет кругом? Еще бы! Как же необдуманно было при таком-то положении отправлять в отставку Бога, нарочно изобретенного в качестве часовщика такого прецизионного механизма, как Вселенная! Брошенный на произвол судьбы физик возводит собственное существование в ранг сомнительной случайности и, ведя исследования, работает против себя самого. А что, если бы Большой взрыв породил не один-единственный, а десять в пятьдесят девятой степени миров? И среди них по меньшей мере один с такими условиями, которые требуются для существования человека? Таким образом, комиссар Шильф, вопрос о Боге переходит в разряд статистических проблем.
Где-то вам уже попадалась эта фраза? А я ее написал. Так что у нас с вами, можно сказать, есть нечто общее.
С тех пор как квантовая механика установила, что мельчайшие элементарные частицы до момента, когда они попадают в поле зрения наблюдателя, одновременно существуют в различных состояниях, идея о множественных мирах перестала быть условным философским понятием, превратившись во внутренне непротиворечивую гипотезу. Кроме того, она признает за человеком свободу воли. Ибо с ее точки зрения безразлично, до какой степени в пределах отдельных миров мы подчиняемся законам причинно-следственных связей, поскольку своими действиями мы можем порождать новые и новые вселенные. Вследствие этого за нами остается свобода выбора того или иного решения.
Таковы преимущества множественных миров. Их недостатки превращают даже миролюбивых физиков в холериков, оголтело отстаивающих свое мнение. Все эти выдумки, возмущаются они, есть не что иное, как судорожная попытка каким-то способом обойти идею высшего разума в качестве дизайнера этого мира. «D’ac-cord!» [24]24
Согласен! (фр.)
[Закрыть]– говорю я. Выдвинутое нашими оппонентами богохульное предположение представляет собой такую гипотезу, которая не поддается проверке. Ладно, «D’ac-cord!», принимаю и это. Правы все – критики мультиверсума, равно как и его сторонники, и в то же время они заблуждаются. Как те, так и другие. Причем – обратите на это внимание! – потому что все они материалисты.
Я вижу в ваших глазах удивление. Хочу удивить вас еще больше: спор о множественных вселенных меня совершенно не волнует.
Вы даже бровью не повели, господин комиссар? Крепкий же вы орешек! На допросе… Помню, помню!.. Это – опрос, а не допрос. На допросе полагается рассказать все, ничего не утаивая, так ведь? Я расскажу вам, чем я действительно занимаюсь. При беглом просмотре содержимого моего письменного стола (чай «Йоги» – неплохой предлог) вы не угадали ни одного из тех духовных преступлений, которые совершаются за ним ежедневно.
Итак, занесите в протокол мое признание: я – ученый-естественник, но не материалист. Кто я такой, я сам еще не знаю. Во всяком случае, в моем понимании не только время и пространство, но и сама материя является продуктом производственного товарищества Сознание-и-Разум. Мой мир состоит не из предметов, а из сложных процессов. Все состояния и формы протекания процессов равновременны и потому существуют вне времени. То, что мы видим, – это лишь отдельные картинки. Кадры кинопленки, которая прокручивается проектором времени в нашем мозгу. На этих кадрах действительность предстает перед нами как танец конкретных вещей.
Попробуйте такой эксперимент, Шильф: возьмите фотоаппарат, станьте на крыше высотного дома, установите выдержку в несколько секунд и сфотографируйте уличный перекресток. Что вы увидите на снимке? Огни машин и трамваев, причем в виде прямых или волнообразных линий. Сеть из линий. Чем длительнее будет выдержка, тем гуще окажется сетка линий.
А теперь возьмите эту чашку. Представьте себе, что вы можете с огромной высоты сделать ее снимок с выдержкой в миллион лет. На карточке вы увидите не чашку, а непроницаемо плотную сеть. В середине будет светлое пятно с расплывчатыми краями в том месте, где образуется в земле каолин. Вокруг – следы людей, которые добывают каолин и делают из него фарфор. Появление чашки, ее перемещение, ее использование, ее распад. Возвращение ее составных частей в круговорот веществ. Увидим мы также – поскольку находимся где-то вверху и смотрим вниз с колоссального расстояния – всю историю людей, участвовавших в изготовлении и использовании чашки, от их появления на свет до смерти и распада. Еще туда добавятся филигранные сеточки-связи существ и предметов, так или иначе контактировавших в свое время с людьми, причастными в прошлом, настоящем или будущем к существованию этой чашки. А также предков и потомков этих людей и так далее. Вы увидели бы, что эта чашка, преодолевая границы времени и пространства, связана решительно со всем, поскольку решительно все является частью одного и того же процесса. А если бы вы могли установить на фотоаппарате бесконечную длительность экспозиции и снимать с бесконечного расстояния, вы увидели бы реальность такой, какая она есть в действительности. Полное растворение всего вне времени и пространства. Плотно сотканный прикроватный коврик перед ложем несуществующего Бога. Аминь.
Вы еще тут? Вы слышите меня? Я не хотел вас напугать. У вас болит голова? Дать таблетки?
Конечно, уже отпустило, и все опять стало более или менее ничего. Теперь так все время – накатит и снова отпустит. Одна из тех вещей, которые я узнал за последние несколько дней.
Позвольте мне напоследок еще одно замечание. Несколько слов о случайности, при упоминании о которой у вас так загорелись глаза. Если вы, Шильф, как я предполагаю, тоже не материалист, вам следующие соображения, наверное, придутся кстати.
Предположим, что человек оказывается перед реальной действительностью, как будто он, прогуливаясь, остановился на берегу спокойного озера. На глади отражается знакомый мир, все, что происходит на дне, скрыто под водой. И вот под этой гладью плавает коряга, и только две ветки торчат в разных местах из воды. Наш путник не примет это за случайную странность. В соответствии с действительностью он решит, что под водой обе веточки соединены друг с другом. Так, незаметно для себя, он понял, что такое случайность.
Что ж вы к чаю-то даже не притронулись, господин комиссар? Вы уже уходите?
5
Хотя комиссар ни секунды не смотрел на Себастьяна пустыми глазами, ему уже кажется маловероятным, чтобы тот все это нарассказывал. Однако что-то профессор, вероятно, все же сказал, а остальное Шильф додумал своими силами. Во время лекции он не переставая помешивал в чашке, словно ожидая услышать еще один смертный приговор. Сейчас он поднялся на ноги и стоит, чуть покачиваясь, как манекен, кое-как установленный на полу. Подавляя головную боль, он ждет, когда в сознании проявится один из вопросов, ради которых он сюда, собственно, и пришел.
– Кто называет вас эзотериком? – спрашивает он наконец.
– Оскар, – отвечает Себастьян.
Он глядит на комиссара ясными глазами, цвет лица у него стал уже лучше, а движения пальцев, которыми он у себя на коленях играет сонату, показывают, что возможность выговориться пошла ему на пользу.
– Кто это?
– Замечательный вопрос.
Склонив голову набок, Себастьян вслушивается в пустоту, словно хочет поймать верный ответ в голосах синиц, щебечущих в зарослях глицинии. Лучший из людей, слышится в щебетании. Лучший из людей.
– Великолепный физик. Он работает в Женеве на новом ускорителе частиц. Съездите туда, если интересуетесь физикой. Там заглядывают во внутренности универсума.
– Материалисты заглядывают, как я полагаю.
– Вы попали в самую точку. – Себастьян смеется. – Впрочем, что касается Оскара, то тут я вовсе не уверен. Как раз вчера я думал над тем, что, может быть, мы всю жизнь неверно друг друга понимали.
Комиссар посмотрел на него, задержав взгляд на секунду дольше, чем следовало, и лишь затем кивнул.
– А какая-то практическая польза от такого ускорителя частиц есть? – спрашивает он.
– Оскар сказал бы – в качестве побочных отходов деятельности. В медицине, например, ускоренные частицы используются для облучения опухолей.
– Подумать только!
Пошатывание Шильфа усилилось. Он хватается за кресло, и под руку ему попадается швейцарский перочинный ножик, воткнутый в боковую обивку. Он кладет ножик на журнальный стол. На открытом лезвии – засохшая кровь. Головную боль как рукой сняло. Словно кто-то щелкнул выключателем.
– Вы мне очень помогли, – произносит комиссар.
Себастьян смотрит на ножик задумчивым взглядом, соображая, является ли он вещественным доказательством, а если да, то чего. Из него внезапно словно выкачали всю энергию, и, когда он наконец поднял голову, комиссар уже вышел в переднюю. И отправился он не в сторону входной двери, а вглубь квартиры.
– Выход – через переднюю прямо! – крикнул, догоняя его, Себастьян.
– Прежде чем уйти, я хочу познакомиться с вашим сыном.
– Но он спит.
– Уже нет.
Моргая глазами, как вышедший после дневного сеанса из кинотеатра и попавший на солнечную улицу зритель, Себастьян останавливается в прихожей, провожая глазами Шильфа, который уже взялся за ручку двери, ведущей в детскую комнату.
Лиам сидит в кресле, которое пока еще велико для его роста, в руках у него книга, которую он не читает. В комнате темно. Она так мала, что предметы обстановки трутся в ней друг о дружку боками. Полоска света, проникшая между занавесками, покрывает голову Лиама сплавом золота с серебром. Ангел в солнечном венце. Шильф проглатывает застрявший в горле комок, чтобы окончательно не растрогаться.
– Привет, – говорит он, откашлявшись. – Я из полиции. – Так как Лиам не реагирует, он добавляет: – Настоящий комиссар, как в телевизоре.
Книжка захлопнулась. Лиам оборачивается вместе с креслом.
– Я маленький, но не дурак, – говорит мальчик. – Можете разговаривать со мной по-нормальному.
Глядя на озабоченную мину Лиама, Шильф спрашивает себя, сколько лет может быть мальчику. Мягкие волосы выглядят со сна примятыми, местами сквозь них просвечивает кожа. На лице серьезное и внимательное выражение. Неожиданно Шильф пугается: вдруг чуткий слух ребенка расслышал голос наблюдателя, который в этот момент как раз спрашивает, может ли чуткий детский слух расслышать голос наблюдателя? И не потому ли Лиам так странно на него посмотрел?
– У вас что-то болит? – спрашивает мальчик.
Шильф оглядывается, куда бы присесть, и садится на край неприбранной кровати.
– Нет, – говорит он. – В данный момент ничего.
Лиам откладывает в сторону книгу и сразу становится на три года моложе. Он еще немного поворачивается вместе с креслом, пока они не оказываются так близко, что почти касаются друг друга коленками.
– Что вы тут делаете?
– Расследую твое похищение.
Лиам молча разглядывает свои пальцы, как будто обдумывая, не пора ли подстричь ногти.
– Верно, – произносит он. – Похищение.
– Ты такой недовольный, потому что пришлось раньше времени уезжать из лагеря?
– Почему недовольный?
И тут он принимается так сильно тереть глаза, что Шильф с трудом удерживается, чтобы не остановить его, взяв за запястья.
– Сегодня утром приехал папа и просто забрал меня домой. Он был какой-то странный и ничего не объяснил, в чем дело.
– Мне это знакомо, – говорит Шильф. – Мне тоже никто не говорит, в чем дело. Но и такие, как мы, тоже нужны!
На лице Лиама проступает улыбка, делая его миловидным, а не только умным и не по годам развитым. В его глазах затаилось что-то беспомощное, как у маленького зверька, который видит, что близится катастрофа, но ничего не может поделать.
– Вы все это выясните?
– С очень большой вероятностью.
– Обещаете?
– Обещаю.
Видя, что мальчик опустил глаза, чтобы не показывать их предательского блеска, Шильф кладет ему руку на плечо.
– Лиам, – начинает он спрашивать, – тебя похитили по пути в Гвигген?
– Это мой папа сказал?
– Просто ответь мне.
– Мой папа не лжет. Он больше всего любит правду.
– На первом месте у него ты, – говорит комиссар. – Правда только на втором.
Лиам снова поднимает голову, он опять стал похож на уменьшенного взрослого.
– Если я отвечу, что меня не похищали, а папа скажет наоборот, то может ли оказаться так, что правда то и другое?
– Да, – не задумываясь, отвечает комиссар.
– Тогда я скажу, что ничего не знаю о похищении.
– Кто отвозил тебя в Гвигген?
– Папа.
– Ты уверен?
– Я спал. Когда проснулся, было уже темно и я лежал в незнакомой кровати. Разве не так записано в протоколе?
– Более или менее. – Шильф быстрым движением смахивает с губ и подбородка улыбку. – Но моя работа – расспрашивать о таких вещах, которые я и без того знаю. Не может быть так, что у тебя очень крепкий сон?
– Дети так уж устроены, – совершенно серьезно говорит Лиам. – Кроме того, таблетки, которые принимаешь на дорогу, очень усыпительны.
– Ты мне их покажешь?
– У меня было только две – туда и обратно.
Комиссар кивает и смотрит через голову Лиама на рисунок, который висит у него на стене. На темно-синем фоне в правом нижнем углу изображена Солнечная система. Стрелка, направленная на группу из двадцати звезд, указывает на крошечную точку, которую в этой группе представляет собой Солнце со всеми его планетами. Следующая стрелка сводит эти звезды до едва различимой частицы, затерявшейся в туманности Млечного Пути. Млечный Путь составляет, в свой черед, пятнышко размером с ноготок в скоплении галактик, входящем, наряду с огромным скоплением других галактик, в один суперкластер. Наконец, этот суперкластер представляет собой всего лишь небольшую туманность в общем пространстве известного науке универсума, который в виде туманного диска накрывает сверху всю картину. Над изображениями помещена надпись: «Для астронома галактики то же, что атомы для физика-ядерщика».
Перефокусировав взгляд, Шильф видит в стекле на темном фоне отражение своего лица. У него такое ощущение, словно эта картина – единственное окошко, через которое отсюда можно выглянуть в мир.
– Папа рассказывает тебе о своей работе?
– Папе нравится, что я еще не все понимаю. Когда он объясняет мне, это подталкивает его мысль.
– И тебе интересно то, чем он занимается?
– Я тоже исследую время. Раньше я часто, лежа в постели, пытался уловить миг. Я затаивался, поджидая, и потом вдруг шептал: «Вот». Но получалось, что миг либо еще не настал, либо уже прошел. Сейчас-то я, конечно, знаю, что время – это совсем не то. И что эти штуки, – машет он в сторону тикающего у кровати будильника, – все врут.
– И что же такое время?
Необыкновенно оживившись, Лиам поворачивается к столу и принимается рыться в ящике, пока не находит бумагу и карандаш. Шильф наклоняется над ним, чтобы лучше видеть. Почуяв детский запах чужой головы, он начинает дышать через рот. Лиам рисует на бумаге два красных кружка на расстоянии одной ладони один от другого.
– Что это? – спрашивает он.
– Не имею понятия, – отвечает Шильф.
Лиам нетерпеливо стучит карандашом по листку:
– Между ними есть что-то общее?
– Они похожи. Больше ничего не могу сказать.
– Прекрасно. А теперь?
Он ставит кончик мизинца в один кружок, а большого пальца – в другой.
– Теперь они между собой связаны, – говорит комиссар.
– А теперь представьте себе, что мы – это кружки, а листок – трехмерное пространство, тогда как рука просунулась из следующего, неизвестного измерения…
– Ты говоришь о случайности, – говорит Шильф.
– Нет! – возмущенно возражает Лиам. – Из четвертого измерения. Вы же спрашивали про время!
– Для кружков твоя рука – это случайность. Или чудо.
Лиам задумывается:
– Может быть.
– Ты все это сам придумал?
– Почти что. Немножко помог папа. Он всегда говорит, что, в сущности, занимается решением совсем простых загадок.
– Только мы, к сожалению… – тут Шильф постучал пальцем сначала себе по лбу, затем Лиаму, – всего лишь красненькие кружочки на белой плоскости.
Хотя для улыбки Лиама еще нет готового веера морщинок, по которым она могла бы растекаться, и ей приходится прокладывать себе новые пути, она обнаруживает, как велико его сходство с Себастьяном. В точности как отец, он обеими руками взъерошивает себе волосы. На его руках нет ни одного комариного укуса.
– А вы, когда были маленьким, – спрашивает Лиам, – тоже были исследователем?
– Да, – говорит Шильф. – Я любил разговаривать с насекомыми.
– Это же не имеет никакого отношения к физике!
– Иногда я часами простаивал над бочкой под водосточной трубой и вылавливал из воды упавших туда пчел. Я думал о том, что это значит для пчел.
– Вы хотели стать ветеринаром?
– Для пчел моя рука была вмешательством судьбы. Тоже своего рода четвертым измерением.
– Вы – фрик, – говорит Лиам.
К тому моменту, когда Шильф щелкает его по носу, для обоих стало уже привычным делом смеяться заодно. Шильф направляется к двери. На душе у него легко.
– Не забудьте о своем обещании, – говорит Лиам.
– Ты знаешь Оскара?
– Да, Оскар – он крутой!
– Как думаешь, стоит мне его навестить?
– Еще бы!
На прощанье Шильф поднял ладонь, и Лиам помахал ему в ответ.
Остававшийся в коридоре Себастьян так и стоит там, не двигаясь с места. Он до краев полон смятения; из детской комнаты до него доносятся тихие голоса и смех. Шильф проходит мимо него к выходу.
– До свиданья, – говорит комиссар и снова повторяет: – Вы мне очень помогли.
Едва Шильф ступает на лестницу, чтобы спуститься, над головой у него начинает рассыпаться черепичная крыша. Стропила разваливаются, падает коньковая балка, рушится каркас кровли. Молниеносный распад кирпичной кладки, начавшись с верхнего края, распространяется по периметру здания, как спущенная петля распускаемого свитера. Исчезает фундамент, земля смыкается. Карандаш вбирает линии строительного чертежа, пока от него не остается пустой лист. Из головы архитектора испаряется, превратившись в туманную дымку, идея пятиэтажного дома в стиле семидесятых годов девятнадцатого века. Где-то пронзительно звучит тревожный крик взлетающего какаду.





