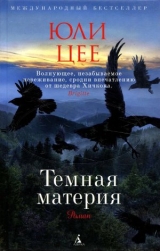
Текст книги "Темная материя"
Автор книги: Юли Цее
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 21 страниц)
Юли Цее
Темная материя
Мало кто из людей владеет искусством бояться того, чего следует
Пролог
Мы не всё видели, зато почти всё слышали, ибо кто-то из нас всегда там присутствовал.
Комиссар, страдающий смертельной головной болью, увлеченный одной физической теорией и не верящий в случайность, расследует последнее дело своей жизни. Происходит похищение ребенка, но ребенок об этом ничего не знает. Один врач делает, чего не следовало. Один человек умирает, два физика ведут спор. Есть влюбленный полицей-обермейстер. В конце выясняется, что все было не так, как считал комиссар, и в то же время именно так. Идеи человека – это партитура, а жизнь – диагональная музыка.
Вот приблизительно так, думается нам, все это было.
Глава первая в семи частях.
Себастьян нарезает кривые. Майка стряпает. Оскар приходит в гости. Физика принадлежит влюбленным
1
При подлете с юго-запада Фрейбург с высоты пятисот метров показывается в складках Шварцвальда в виде светлого пятна с неровными краями. Словно упав однажды с неба, он разбрызгался внизу, доплеснувшись длинными языками до подножия окружающих гор. Усевшиеся в кружок, Бельхен, Шауинсланд и Фельдберг [1]1
Бельхен, Шауинсланд, Фельдберг– названия трех вершин горного массива Шварцвальд в земле Баден-Вюртемберг. Самая высокая из них, Фельдберг, имеет высоту 1495 м. – Здесь и далее примеч. пер.
[Закрыть]глядят сверху на город, который по времяисчислению вековечных гор появился каких-то шесть минут назад, а воображает, будто всегда так и стоял тут над рекой с чудным названием Дрейзам, созвучным одиночеству, но одиночеству втроем [2]2
Нем. drei– три, einsam– одинокий.
[Закрыть].
Вздумай однажды Шауинсланд равнодушно пожать плечами, и погибли бы сразу сотни велосипедистов, пассажиров канатной дороги и ловцов бабочек. Пожелай Фельдберг отвернуться от наскучившего зрелища, пришел бы конец всему, что есть окрест. Глядя на то, как хмуро взирают горы на суетливую жизнь Фрейбурга, там стараются как могут развлечь их внимание. Лес и горы ежедневно засылают в город лазутчиками множество птиц разузнать о новейших происшествиях.
Там, где улицы сужаются и тени сдвигаются плотнее, в качестве основных цветов доживающего Средневековья преобладают желтая охра и серовато-розовая краска. На островерхих крышах повсюду торчат выступы бесчисленных мансардных окон – идеальные, можно сказать, посадочные площадки, если бы только домовладельцы не утыкали их сверху острыми гвоздями. Вот пробегающее облако сметает яркость фасадов. На Леопольд-ринге девочка с косичками покупает мороженое. Пробор на ее голове прям, как сквозная междугородняя автострада.
В нескольких взмахах крыльев отсюда расположилась улица Софии де Ларош, такая зеленая, что сподобилась обзавестись собственной климатической зоной. На ней все время дует легкий ветерок, а без него нельзя: как же иначе шелестели бы кроны каштанов! Деревья на сто лет пережили насадившего их городского архитектора и выросли выше, чем предполагалось по плану. Запуская ветки на балконы, они корнями вспучивают мостовую и подкапываются под одетый камнем Ремесленный ручей, протекающий вплотную к фундаментам. Бонни и Клайд – она с коричневой, он с зеленой головкой, – громко крякая, выгребают лапками против течения, разворачиваются на одном и том же привычном месте и оттуда сплавляются вниз по течению, которое несет их, как лента транспортера. Проплывая мимо и обгоняя прохожих на тротуаре, они выклянчивают хлебных крошек.
Улица Софии де Ларош источает такую благостную умиротворенность, что сторонний наблюдатель, пожалуй, подумает, будто значиться ее постоянным обитателем можно только при условии, что душа твоя живет в полном согласии с мирозданием. Стены домов вдоль Ремесленного ручья страдают от сырости, поэтому двери парадных стоят распахнутые, отчего пешеходные дорожки похожи на высунутые из раскрытых пастей языки. Номер семь, без сомнения, самый красивый дом в своем ряду, весь беленький и украшенный скромной лепниной. По стене ниспадают каскадом цветущие гроздья глицинии; пока не подошло время заступать на ночное дежурство, дремлет рядом старомодный фонарь, облаченный в тогу из плюща, под покровом которого гомонят воробьи. Через час с небольшим возле него остановится вывернувшее из-за угла такси. Пассажир на заднем сиденье, приподняв солнечные очки, расплатится с таксистом, отсчитав ему в ладонь мелочь. Он выйдет из машины и, задрав голову, взглянет на окна третьего этажа. Уже сейчас там по карнизу, семеня лапками, прохаживаются голуби, отвешивают друг дружке поклоны и временами, вспорхнув, заглядывают в квартиру. Каждый месяц в первую пятницу Себастьяну, Майке и Лиаму вечером обеспечено неусыпное наблюдение крылатых наблюдателей.
За одним из окон на полу своего кабинета, склонив голову и подобрав под себя ноги, сидит Себастьян. Вокруг – бумажные обрезки и всевозможные ножницы, словно он занят тем, что мастерит к Рождеству елочные игрушки. Рядом, тоже на коленках, Лиам, такой же белокурый и светлоглазый, как отец, да и по всей повадке – вылитый Себастьян в миниатюре. Он разглядывает лист красного картона, на котором лазерным принтером отпечатана зубчатая кривая, напоминающая альпийскую панораму. Едва Себастьян берется за ножницы, Лиам предостерегающе поднимает указательный палец:
– Осторожно! Ты дрожишь!
– Потому что стараюсь не дрожать, умник, – бросает в ответ Себастьян.
Сказал и тут же при виде удивленных глаз Лиама пожалел, что заговорил в таком тоне.
Себастьян нервничает, как всегда в первую пятницу месяца, и, как всегда, сваливает свою тревожность на то, что у него выдался тяжелый день. В первую пятницу месяца любой пустяк способен испортить ему настроение. Сегодня виновата была сценка, которая попалась ему на глаза на берегу Дрейзама, куда он ходит в обеденный перерыв подышать между лекциями свежим воздухом. А попалась ему группка людей, которые в стороне от дороги по непонятной причине обступили небольшую кучу песка. Из песка торчал хилый саженец, который держался только благодаря деревянным подпоркам, перетянутым резиновыми лентами. Три садовника стояли, опершись на лопаты. Какой-то долговязый дядя в темном костюме с девчушкой, которая цеплялась ему за брючину, взошел на песчаную кучу и начал торжественно вещать. Дерево года [3]3
В Германии, как и в ряде других стран, уже в течение ряда лет ежегодно выбирается дерево года. Цель этого мероприятия – напомнить обществу о необходимости беречь лес и природу вообще.
[Закрыть]. Черное яблоко [4]4
Имеется в виду группа, пародирующая в своих уличных выступлениях символику и стилистику ультраправых (нарукавные повязки с изображением черного яблока, призывы укреплять дух яблочным соком и т. п.); впервые выступила в Лейпциге в 2006 г.
[Закрыть]. Любовь к родине, к природе, ко всему живому. Сбившиеся в полукруг дамы внимали молча. Затем была пущена в ход лопата, поднявшая символический пласт песка, и девочка оросила почву водой из жестяной лейки. Вокруг зааплодировали. Себастьян невольно подумал об Оскаре – что бы тот сказал при виде этой сцены: «Глянь-ка – стадо стопоходящих, собравшихся на поклонение собственной беспомощности!» И Себастьян посмеялся бы, умалчивая о том, что ощущает-таки в себе пугающее сходство с деревом года – саженцем, поддерживаемым непомерно большими подпорками!
– Ты знаешь, что такое дерево года? – спрашивает он сына. Тот в ответ мотает головой, не сводя глаз с неподвижно застывших в руке отца ножниц. – Дерево года – глупость, – продолжает Себастьян. – Такая глупость, что дальше некуда.
– Сегодня ведь придет Оскар, да?
– Ясно, придет.
Себастьян принимается резать ножницами:
– А что?
– Когда приходит Оскар, ты всегда говоришь странные вещи. И еще, – тут Лиам показывает пальцем на картонный лист, – приносишь домой работу.
– Я думал, тебе нравится взвешивать кривые, нет? – возмутился Себастьян.
В свои десять лет Лиам уже достаточно набрался ума, чтобы оставить такой вопрос без ответа. Разумеется, он любит помогать отцу в проведении физических экспериментов. Он знает, что эта зубчатая линия появилась в результате радиометрических измерений, хотя и не мог бы в точности объяснить, что такое «радиометрические». Интеграл по этой кривой можно вычислить, вырезав полученную плоскую фигуру и взвесив картонку [5]5
Это старый способ вычисления интеграла, применявшийся до появления компьютеров. Интеграл численно равен площади между кривой и горизонтальной осью координат. Чтобы найти эту площадь, вырезают и взвешивают соответствующую часть картона, а затем делят ее вес на вес единицы площади картона (квадрат со стороной 1 см).
[Закрыть]. Но Лиам также знает, что в институте стоят компьютеры, которые в состоянии выполнить эту задачу без ручной работы. Да и вообще, это дело наверняка могло бы потерпеть до понедельника. Значит, вырезание затеяно главным образом ради того, чтобы доставить удовольствие Лиаму, то есть ради душевного спокойствия Себастьяна, которому надо чем-то себя занять на пятничный вечер. Хотя, вообще-то, разделочная доска и острые ножи, которыми гораздо сподручнее вырезать крохотные зубчики и впадины, остались на кухне у Майки.
Когда Майка готовит в честь Оскара, все рабочие принадлежности поступают в ее исключительное распоряжение. Всякий раз, как она утром сообщает, какое новое блюдо собирается приготовить, Себастьян спрашивает себя, отчего эти встречи занимают такое важное место в ее жизни. Восторженное преклонение Лиама перед великим женевским физиком, казалось бы, скорее должно было настраивать Майку против его визитов. Да и в разговоре Оскар обращается к ней подчеркнуто иронически. И тем не менее именно Майка десять лет назад придумала традицию совместных застолий и сама же по сей день ее поддерживает. Себастьян догадывается, что она, будь то сознательно или бессознательно, старается что-то там ввести в упорядоченную колею. Что-то, что пускай уж лучше протекает у нее на глазах, чем бесконтрольно развивалось бы в каких-то потаенных сферах. В чем состоит это что-то, они с ней никогда не выясняли. В душе Себастьян восхищался своей женой, наблюдая ее тихое упорство. «Он ведь придет в пятницу?» – спрашивала она обычно, и Себастьян молча кивал в ответ. Вот и все.
К середине кривая упрощалась, в конце снова становилась сложнее. Лиам обеими руками поддерживает картонный лист и издает ликующий возглас, когда из-под ножниц, благополучно преодолевших последний зубец, падает на пол ненужный остаток. Бережно держа удавшееся изделие за края, он первым бежит на кухню, посмотреть, свободны ли кухонные весы.
В белом платье, словно в этот вечер ей сызнова предстоит праздновать собственную свадьбу, Майка нарезает на кухонном столе непослушные листья салата. Она стоит на полу босиком. Задумавшись, Майка большим пальцем правой ноги механически почесывает комариный укус на левой голени. Окно настежь раскрыто. С улицы в него вливается летний воздух, наполненный запахами асфальта, речной воды, временами в кухню задувает ветерок, жонглирующий в небесной вышине ласточками. Под насыщенным светом в Майке более, чем когда-либо, проступает того рода женщина, которую любой мужчина сразу желает подхватить на коня и скакать с ней навстречу закатному солнцу. Ей свойственна изюминка, которая заметна и с первого взгляда, и со второго. Кожа у нее еще светлее, чем у Себастьяна, и углы рта изогнуты не совсем одинаково, отчего при улыбке на ее лице выражается легкое сомнение. Ее Галерея современного искусства, расположенная в центральной части города, в немалой степени обязана своим успехом личному обаянию хозяйки, которая бывает для художников не только деловой посредницей, но порой и моделью. Эстетическое чувство Майки носит почти религиозный оттенок. Вид кое-как обставленного помещения для нее мучителен, и она не может поставить на стол стеклянный бокал, не рассмотрев его сначала на свет.
Когда Себастьян подходит к ней сзади, она разводит в стороны мокрые руки. У нее побритые подмышки. Пальцы Себастьяна легонько пробегают по лесенке позвонков от копчика до шеи.
– Ты что, мерзнешь? – спрашивает она. – Ты же дрожишь!
– А что-нибудь еще, кроме моей вегетативной нервной системы, вас интересует? – нарочито громко восклицает Себастьян.
– Да, – говорит Майка. – Красное вино.
Себастьян целует ее в затылок. Оба знают, что Оскар наверняка прочитал статью в «Шпигеле». Майка не слишком честолюбива и не претендует на глубокое понимание нескончаемого научного спора, который давно ведут мужчины. Но знает, как он протекает. Когда Оскар нападает, его голос становится угрожающе тихим. Себастьян, защищаясь, начинает чаще обычного моргать глазами и опускает плечи.
– Я купила бутылку «Брунелло», – говорит Майка. – Думаю, ему понравится.
Себастьян протягивает руку к графину, и, когда он его поднимает, по груди Майки пробегает красный световой зайчик, словно через открытое окно Майку берет на прицел пьяный снайпер. Плод. Дуб. Земля. Преодолев искушение налить себе вина, Себастьян оборачивается к Лиаму, который ждет возле кухонных весов. Сдвинув головы, они считывают показания на шкале.
– Превосходно, юный профессор! – Себастьян прижимает к себе сына. – Каково будет ваше суждение?
– Наблюдаемое явление соответствует предварительным расчетам, – произносит Лиам, покосившись на мать.
Нож в ее руке отбивает по доске сухую дробь. Она не любит, когда сын с ученым видом щеголяет заученными фразами.
Перед тем как унести кривую в кабинет, Себастьян на секунду задерживается на пороге.
Сейчас Майка скажет, что прикроет ему спину. Она любит это выражение. Оно содержит намек на битву с тем, что называется бытом, из которой она вечер за вечером выходит победительницей. Между тем по своей натуре Майка отнюдь не отличается воинственным нравом. До знакомства с Себастьяном она была ярко выраженной мечтательницей. Проходя ночью по улицам, она в своих фантазиях обживала каждую освещенную квартиру. Поливала мысленно цветы на чужих подоконниках, накрывала к ужину чужие столы и гладила по головкам чужих детей. Каждый мужчина становился в ее воображении потенциальным женихом, рядом с которым она мысленно проживала бурную или мещански добропорядочную жизнь, насыщенную артистическими или политическими интересами, – смотря по тому, что подсказывал цвет глаз и общий облик того, кого она перед собой видела. Склонная к бродяжничеству фантазия Майки мимоходом обживала любое место или человека. Пока не повстречала Себастьяна. С того момента, как она налетела на него и с размаху попала в его объятия на Кайзер-Йозефштрассе (на Соборной площади! – сказал бы Себастьян, поскольку память о первой встрече сохранилась в двух версиях – в одной у него и в другой у нее), агрегатное состояние реальности переменилось, перейдя из газообразного в твердое. Это была любовь с первого взгляда и, следовательно, налагала запрет на альтернативы; бесконечное множество возможностей редуцировалось отныне до единственного «здесь и сейчас». Произошел, как выразил бы это Себастьян в понятиях квантовой механики, квантовый коллапс волновой функции. С тех пор у Майки появился тот, чью спину она должна прикрывать. И она с удовольствием проделывает это при каждом возможном случае.
– Вы можете потом спокойно обо всем поговорить, – говорит Майка и, не касаясь пальцами, убирает рукой упавшую на глаза прядь. – А я уж…
– Знаю, – говорит Себастьян. – Спасибо тебе.
Во рту у смеющейся Майки мелькнула жевательная резинка, и все равно, с этими детскими глазами и белокурыми волосами, она не переставала быть все такой же неотразимой.
– Ну когда же придет Оскар? – ворчит Лиам.
Пока родители заняты собой и не смотрят в его сторону, Лиам, давая выход своему нетерпению, выкладывает на столе узоры из чесночных долек и колечек лука. Шалости, в которых чувствуется присутствие творческого начала, Майка спускает ему с рук.
2
Удивительно все-таки, думает Оскар, что все люди состоят из одних и тех же одинаковых элементов. Что тот же надпочечник, который приносит в его кровеносную систему легкий выброс адреналина, присутствует и в вегетативной нервной системе миниатюрной азиатки с макияжем под Йоко Оно, которая разносит пассажирам кофе и бутерброды. Что ее ногти, волосы, зубы сделаны из того же самого материала, что и ногти, волосы, зубы всех других людей, сидящих в вагоне. Что ее пальцы, когда она разливает кофе, приводятся в движение теми же сухожилиями, что приходят в действие у него, когда он вынимает из кошелька мелочь. Что даже на ее ладони, в которую он, стараясь не прикоснуться, опускает монетки, видны линии, похожие на те, что есть у него самого.
Подавая стакан, азиатка задерживает на нем взгляд дольше, чем это необходимо. Поезд проезжает стрелку; кофе чуть было не выплеснулся ему на брюки. Оскар берет протянутый стакан, опустив глаза, чтобы не встречаться с лучезарной улыбкой, которой на прощанье одарит его азиатка. Если бы его связывало с ней одно только сходство ладоней! Если бы их общность сводилась только к углероду, водороду и кислороду! Но эта общность простирается глубже – до протонов, нейтронов и электронов, из которых составлены и он, и азиатка, из которых состоит также и стол, за которым он сидит, опершись локтями, равно как и стаканчик кофе, согревающий его руки. Это обстоятельство превращает Оскара в случайный сгусток материи, из которой сформировался мир и которая заключает в себе все сущее, потому что от нее никуда не уйдешь. Он знает, что границы его личности размыты: они сливаются с великим вихрем частиц. Порой он даже чувствует, как растекается, смешиваясь с другими людьми. Почти всегда это чувство ему неприятно. Есть только одно исключение. К нему он сейчас и направляется.
Попытайся Себастьян описать своего друга Оскара, он сказал бы, что Оскар кажется человеком, который может ответить на все вопросы. Например, придет ли когда-нибудь теория струн к тому, чтобы объединить в себе все основные физические силы? Или: можно ли к смокингу надевать рубашку от фрачной пары? Или: который час, причем не здесь, а, скажем, в Дубае? Слушает ли Оскар или говорит, его гранитный взгляд неизменно направлен на собеседника. В Оскаре живет огромный запас энергии. Он всегда вознесен над толпой, как полководец. Оскар из тех, у кого нет дурацких уменьшительных имен. В его присутствии женщины сидят, засунув под себя руки, чтобы ненароком не потянуться к нему. В двадцать лет ему давали все тридцать. С тех пор как ему перевалило за тридцать, его называют человеком без возраста. Он высок и строен, у него ясный лоб и тонкие брови, то и дело готовые взлететь вопросительным изгибом. На немного впалых щеках, тщательно побритых, темным налетом проступает щетина. Даже когда он, как сегодня, к черным брюкам надевает простой свитер, он и в этом наряде выглядит элегантным. Оказавшись на нем, любая материя ложится только теми складками, какими ей положено лежать. Его манера держаться по большей части сочетает в себе внешнее спокойствие и внутреннее напряжение, что побуждает людей нахально заглядывать ему в лицо. Случайные встречные за спиной шепотом спрашивают друг друга, кто это был, так как принимают его за актера. Оскар действительно знаменит в определенных кругах, правда не актерскими достижениями, а своими теориями о сущности времени.
Мимо окна зелено-голубой лентой проносится лето. Вдоль полотна тянется шоссе. Автомобили как приклеенные остаются позади поезда; свет заливает асфальт, растекаясь блестящими озерами. Оскар только что вынул солнечные очки, как вдруг какой-то молодой человек обращается к нему с вопросом, свободно ли соседнее место. Оскар отворачивается и укрывается за темными стеклами. Молодой человек проходит дальше. Под кофейным стаканчиком на откидном столике расплывается коричневая лужица.
Некоторые вещи невыносимо раздражают Оскара, и виновато в этом его чувство стиля. Многие люди терпеть не могут других представителей своего вида, но мало кто сумеет так точно, как он, указать на причину. То, что все они сделаны лишь из протонов, нейтронов и электронов, он бы еще как-то мог им простить. Непростительна была для него их неспособность с достоинством вести себя перед лицом этого печального факта. Вспоминая детство, он видит себя, четырнадцатилетнего, окруженного стайкой хохочущих девочек и мальчиков, которые показывают пальцем на его ботинки. В тот раз он без спросу продал свой велосипед и купил на эти деньги первые в своей жизни ботинки на ранту, причем из предусмотрительности взял пару на три размера больше. Презрение, которое вызвал у него этот бестактный хохот, сохранялось у него и теперь. Он не выносит умничанья, зазнайства и злорадничанья дураков. В его глазах нет преступлений страшнее, чем преступление против хорошего стиля. Если когда-нибудь ему (что, разумеется, маловероятно) суждено совершить убийство, то поводом будет, скорее всего, какое-нибудь бесцеремонное высказывание жертвы.
Насмешки одноклассников как отрезало, когда он в шестнадцать лет вдруг вырос до ста девяноста сантиметров. Теперь они наперебой старались обратить на себя его внимание. Разговоры на школьном дворе становились громче, стоило ему остановиться поблизости. Каждая девочка, вызвавшаяся отвечать на уроке, все время поглядывала на него, словно желая убедиться, что он слушает ее ответ. Даже учитель математики, неряха с отросшими до ворота патлами, взял в привычку, с треском ставя в конце длинного ряда чисел жирную мелодробительную точку, обращаться в сторону Оскара с вопросом: «Правильно сошлось?» Но, несмотря на все это, Оскар к моменту окончания гимназии был единственным в классе, кто еще не обзавелся опытом в области прикладной любви к ближнему. Он считал это своей победой. Он был убежден, что на свете нет ни одного человека, чье присутствие он мог бы вынести более десяти минут.
Встретив в университете Себастьяна, он разом осознал всю глубину своего заблуждения, и это стало для него большим потрясением. Заметить друг друга в день открытия первого семестра обоим помог их высокий рост. Их взгляды встретились поверх голов других студентов, и в результате как-то само собой получилось, что в аудитории они очутились рядом, на соседних местах. В молчании они высидели скучную вступительную речь декана. Затем поговорили о том о сем. Прошло десять минут, а Себастьян ни разу не ляпнул ни одной глупости и не рассмеялся дурацким смехом. Оскар не только вытерпел его присутствие, но ощутил желание продолжить начатую беседу. Они отправились в кафетерий и проговорили до вечера. С этого дня Оскар старался чаще видеться с Себастьяном, Себастьян не возражал. Их дружбе не потребовалось времени, чтобы завязаться, ей не нужно было складываться. Она включилась сразу, без разогрева, как лампочка с одного нажатия выключателя.
Любая попытка описать последовавшие за этим месяцы грозит вылиться в нечто высокопарное. Сделав однажды выбор в пользу Фрейбургского университета, Оскар появлялся там не иначе как в визитке с фалдами, брюках в полосочку и с серебристой бабочкой. В скором времени и Себастьян стал приходить на лекции таким же английским денди. Каждое утро в сквере перед Физическим институтом они, словно притянутые за веревочки, устремлялись по зеленой аллее навстречу друг другу мимо студентов всех семестров, которые, казалось, существовали на свете лишь как препятствия на пути, и, наконец сойдясь, здоровались за руку. Все учебники они покупали лишь в одном экземпляре, потому что любили читать, сдвинув головы над раскрытой страницей. В аудиториях никто не пытался занять рядом с ними соседнее место. Странность их наряда обращала на себя внимание, однако никто не смеялся, даже когда они на исходе дня под руку прогуливались на берегу Дрейзама, то и дело останавливаясь, чтобы поделиться какой-то важной мыслью, которую нельзя изложить на ходу. В своих старомодных костюмах они напоминали выцветшую открытку. Казалось, их старательно вклеили в современную действительность, хотя границы картинки оставались вполне различимы. Шум реки вырывал слова из их беседы, деревья взволнованно колыхались на ветру. Никогда предосеннее солнце не являлось в такой красе, как в тот миг, когда один из них, показывая на его диск, произносил что-то относящееся к вопросу о солярных нейтрино.
Вечером они встречались в библиотеке. Оскар прохаживался вдоль стеллажей, время от времени возвращаясь за общий стол с новой книгой. С тех пор как Оскар взял себе в привычку, показывая другу какое-нибудь интересное место в книжке, обнимать его за плечи, на скамьях за стеклянной дверью стали стайками собираться студентки-филологини. Когда на какой-нибудь вечеринке Оскар и Себастьян порознь бродили в толпе гостей, Себастьяну случалось взасос поцеловаться с какой-нибудь девушкой. Подняв голову, он непременно встречал обращенный на себя из другого конца зала улыбающийся взгляд Оскара. В конце вечера, проводив девушку к выходу, ее, словно вещь в гардероб, сдавали на руки подвернувшемуся однокашнику. Затем Оскар и Себастьян провожали друг друга домой по темной улице до развилки, на которой их пути расходились. Там они останавливались под фонарем, его свет окружал их шатром, из которого ни тому ни другому никак не хотелось уходить. Трудно было выбрать подходящий момент для прощанья: этот ли взять или все ж таки следующий? Между тем как проезжающие машины заставляли их общую тень оборачиваться вокруг собственной оси, они давали безмолвный обет, что между ними никогда ничего не изменится. Будущее существовало только в виде равномерно и неторопливо развертывающейся ковровой дорожки совместного бытия. Под робкое чириканье первых утренних пташек они поворачивали к дому, и оба скрывались, каждый на своей половине занимающегося рассвета.
В первую пятницу месяца Оскар несколько минут позволяет себе пофантазировать, воображая, будто интерсити-экспресс уносит его сквозь время назад, в одну из тех ночей, когда они прощались под фрейбургским фонарем. К жарким спорам на берегу Дрейзама или хотя бы к раскрытому учебнику, одному на двоих. Затем, ощутив на губах улыбку, он тотчас же переходит в раздраженное состояние. Конечно же, того Фрейбурга с ночными фонарями давно уже нет. Есть круговой туннель под Швейцарией, в котором Оскар сталкивает частицы, разогнанные до скорости, приближающейся к световой. И есть город, в который он едет по приглашению жены Себастьяна на семейный обед. Однажды в пятницу Оскар впервые увидел маленького, как кукла, Лиама. В пятницу узнал о том, что Себастьяна пригласили на работу в университет. По пятницам они могут взглянуть друг другу в глаза, стараясь не думать о прошлом. По пятницам спорят. Для Оскара Себастьян не только единственный человек, присутствие которого он может выносить. Себастьян, кроме того, существо, которое одним легким движением способно довести его до белого каления.
Пока поезд ждет, остановившись на перегоне, Оскар наклоняется к сумке и вытаскивает оттуда свернутый в трубку номер «Шпигеля», который сам открывается на нужной странице. Ему незачем перечитывать эту статью, он помнит ее почти наизусть. Вместо чтения он принимается разглядывать фотографию. На ней запечатлен сорокалетний белокурый мужчина с белесыми ресницами и глазами как из голубого прозрачного стекла. Мужчина смеется, и его рот принимает от этого форму, близкую к четырехугольнику. Этот смех Оскар знает лучше, чем свой собственный. Осторожно погладив лоб и щеки портрета, он внезапно придавливает его большим пальцем так, словно хочет затушить сигарету. Остановка поезда нервирует его. В соседнем отделении мамаша в цветастом платье кормит свое семейство бутербродами из пластиковых коробочек. В воздухе разливается аромат салями.
– Уже четыре! – восклицает отец семейства, лицо которого покоится на пухлом жировом валике. Рукой с бутербродом он хлопает по газете. – Вот! Четвертая смерть. От потери крови при операции. Главный врач по-прежнему все отрицает.
– Четверо негритят, – запевает звонкий детский голосок, – пошли кататься в лодке…
– Тише! – шикает мамаша и затыкает поющий рот куском яблочного пирога.
– «Не кроются ли за этим эксперименты, проводимые фармакологическими фирмами над пациентами?» – читает вслух папаша.
По-мужичьи вульгарно выпятив губы, он пьет пиво из горла.
– Кругом преступники! – говорит мамаша.
– Да их бы всех…
– Будь моя воля…
Оскар снова засовывает «Шпигель» в сумку, подумав про себя, что авось при встрече с Себастьяном от него не будет разить салями. Он поспешно встает и уходит из этого отделения. Поезд внезапно дергается, и он еле удерживается на ногах.
«На войну бы отправлять это дурачье! – произносит он мысленно, пристраиваясь у стенки в коридоре возле туалетов. – Хоть бы их спалили в дебрях Африки, в азиатских джунглях, да не все ли равно где! Еще пятьдесят лет мира, и народ в этой стране выродится в обезьян».
За окном проносятся первые аккуратные садики пригородов Фрейбурга.





