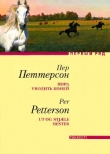Текст книги "Где ты теперь?"
Автор книги: Юхан Харстад
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 27 страниц)
Первые годы нашей совместной жизни мы много ходили. Почти каждый день. Это было почти единственным нашим занятием. Мы обошли весь город вдоль и поперек, так что за лето подошвы кроссовок стирались, мы измерили весь город шагами, а зимой снег покрывался следами от наших ног. Мы гуляли и разговаривали, я лучше узнавал ее, Хелле была самым прекрасным человеком из всех, кого я знал, во всяком случае, я так считал. Она умела чистить апельсины одной рукой и ездить на велосипеде без рук, не умела надувать пузыри из жвачки, у нее не получалось сворачивать язык в трубочку, но зато пальцы гнулись в обратную сторону, она играла на пианино, хотя и не очень хорошо, зато в занятиях балетом преуспела больше. Я ходил на ее выступления, сидел и смотрел, как Хелле движется от одного края сцены к другому, но все же не до конца понимая ее восхищения балетом. Однако в ее исполнении это выглядело очень мило, как она поднималась на носочки, а после выступлений я смазывал ей мазью пальцы на ногах и утирал слезы. По воскресеньям я ходил к Хелле в гости, а ее отец, полицейский, всегда готовил воскресный ужин. Хорошим он был человеком – он получил статус отца-одиночки, после того как развелся с матерью Хелле, та потом уехала в Нидерланды – видно, нашла себе нового полицейского и практически исчезла из виду. Хелле получала лишь рождественские открытки каждый год и ее фотографии в шапочке рождественского ниссе, из-за которых очень расстраивалась каждый адвент.
Лето мы проводили в Серланне, в летнем домике ее родителей. Я сидел на берегу, свесив ноги в воду, а Хелле плавала, периодически ныряя к самому дну. На секунду передо мной мелькали ее загорелые ноги, потом исчезали под водой, а затем она выныривала, держа в руках старое велосипедное колесо или какой-нибудь другой хлам, который достала со дна. Весь мусор Серланна она непременно собиралась вытащить на берег и развесить на стенах в домике. Так мало-помалу у нас в сараюшке на заднем дворе скопилась целая коллекция велосипедных колес, и мы не знали, куда их девать.
Еще я помню подарки, которые она мне дарила. У нее это хорошо получалось – она всегда попадала в самую точку, даже когда я и сам не знал, чего мне надо. Ей с первого взгляда понравились Йорн и Роар, да и у нее самой были подружки, так много, что я всегда путал, кто есть кто. Они любили ее, ту самую Хелле, в которую я был влюблен уже тринадцать лет, которая почти не бывала дома и засыпала до моего прихода, которую гравитация медленно, но верно уносила прочь от меня, а я не знал, что делать.
Только я вошел в дом, как вышла Хелле и обняла меня. Она выглядела веселее обычного. Улыбаясь, она сказала, что разговаривала с Ниной, та как раз недавно звонила и пригласила нас встретиться. В субботу. «В эту субботу?» – спросил я. А она ответила: «Да, в эту».
Итак, в ту субботу я сидел на причале в Ставангере и ждал корабля до Люсефьорда, который должен был пойти через электростанцию Флерли, а потом подняться с обратной стороны до Кьерагболтена. [35]35
Туристическая достопримечательность в Южной Норвегии, недалеко от Ставангера. Небольшой камень, застрявший между двумя скалами.
[Закрыть]Это Йорн придумал, обычно мы так не делали, а вот в этот раз решили проехаться этим путем, я стоял и ждал, когда лодка войдет во фьорд и причалит, а Хелле стояла чуть позади и пыталась дозвониться до кого-то, может, до Клауса: он еще не подошел, и мы беспокоились, он всегда опаздывал, а вдали уже появилась наша лодка. Машинально нагнувшись, я поднял рюкзак, повесил его на плечи и напрягся: я не любил опаздывать, не любил лодки и не любил воду. Я предпочитал быть готовым ко всему. Хорошо бы на лодке прошло все спокойно. Хелле дозвонилась до Клауса, тот уже подходил, вот он уже вывернул из-за угла, и они оба отключили телефоны.
Мы были вшестером. Друзья.Мы ехали на прогулку. Было начало июля, суббота, мне не особо хотелось ехать, но этого хотела Хелле, и я отправился с ней. Я был там. Дул ветер. Нагонял волны. Мне не хотелось, но я согласился. Никогда не сердился.
Волны были все же не сильные, выбраться на свежий воздух – это хорошо, я отметил это, когда мы все стояли на палубе под редким дождиком, застегнув поплотнее куртки. Мы с Хелле обнимались, рядом стоял Клаус, он в тот день взял выходной, обычно приходя домой, он нервничал и суетился вокруг своей беременной девушки и готов был в любую минуту броситься к машине и ехать в роддом, хотя до родов оставалось еще более трех недель Он записывал старой «Нагрой» шум парома, свет лодочных прожекторов и грохот мотора, – собирался все это смикшировать и использовать как фон для одной из песен «Перклейвы». Еще там были Йорн с Ниной. Нина тоже ждала ребенка, срок у нее был в январе, и мне казалось, что они отлично смотрятся вместе. Прямо как на рекламе пленки «Кодак». А вот у нас с Хелле дела шли не так уж замечательно. Мы считали, что у нас все прекрасно, но на самом деле все было не так. Мы не понимали, в чем дело, но где-то между нами будто образовался какой-то пузырь, который никак не лопался, а только разрастался и разрастался, словно опухоль. Я вспоминал Стива Мартина. Мой любимый фильм «Лос-Анджелесская история»: Let us just say I was deeply unhappy, but I didn’t know it, because I was so happy all the time. [36]36
Скажем так, я был глубоко несчастлив, но я не понимал этого, потому что все время чувствовал себя таким счастливым (англ.).
[Закрыть]Вот так было и с нами.
Но тогда мы вели себя как влюбленные, прогуливались вместе по палубе, и я машинально обнимал Хелле за талию, думая о чем-то постороннем. Поиграем. All you need is love. [37]37
Тебе ничего не нужно, кроме любви (англ.).
[Закрыть]
Вообще-то мне всегда нравилось путешествовать, ездить куда-нибудь. Если отец мой цеплялся за кресло, вжимал голову в подушки и ныл «не поеду, не поеду», то мне частенько хотелось поездить по миру. В конце восьмидесятых – начале девяностых мы с Йорном объехали на поездах почти всю Европу. Йорн и поезда. Мы выехали из Дании в Польшу, потом в Западную Германию, Францию, страны Бенилюкса, Италию – мы взяли тогда отпуск на полгода. Весной 1992-го мы стояли на пристани в Бари, на юге Италии, смотрели в направлении Югославии и раздумывали, не съездить ли нам на пароме в Дубровник, Мостар и Сараево. В детстве, в семидесятых, мы оба были в Дубровнике, ездили на море, но вот каково там теперь? Совсем не факт, что мы сможем вернуться, даже если доплывем дотуда. Босния-Герцеговина объявила себя независимой, мир мог в любую минуту начать рушиться, однако Йорн уверенно говорил, что в Сараево ничего не случится. Он разглагольствовал о том, что народ в Сараево самый что ни на есть разномастный – там живут и боснийские мусульмане, и сербы, и хорваты, поэтому он считал, что Сараево станет городом свободы. У меня, однако, такой уверенности не было, и я уговорил его подождать пару дней, поэтому мы бродили по Бари, сидя в ожидании на берегу, выжидали, и время, наконец, поменяло наши планы: корабли до Югославии ходить перестали, и въезд туда закрыли со всех сторон, поэтому мы решили вместо этого проехать через Испанию по Гибралтару до Танжера, в Марокко. Йорну хотелось заехать в Касабланку и найти свою Илсу Лунд, я же мечтал побывать в пустыне. Мы осуществили оба маршрута: сначала блуждали по Марокко – ни карты, ни планов у нас не было, зато был юношеский задор и почти непрерывная обратная дорога на поезде через всю Европу. Мы ехали на ночных поездах и просыпались, только когда приходили в какой-нибудь город и сквозь купейные занавески пробивался свет. Поездов, на которых мы проехали в те полгода, нам на всю оставшуюся жизнь хватит. А в последующие годы мы летали: Азия, Вьетнам, Япония, Токио, США, Нью-Йорк, Лос-Анджелес. Пару раз мы спорили: Йорну во всех этих странах больше всего хотелось изучать людей, стать эдаким дядюшкой Маком, неутомимым путешественником, мне же нужно было всего лишь влиться в толпу, пройтись незамеченным по Пятой авеню или как-нибудь пятничным вечером пробежаться в Токио по Синдзюку, стать одним из миллионов, вести себя не как турист, а как человек, который там родился и вырос. Я хотел стать неотъемлемой частью пейзажа – конечно, в Нью-Йорке это проще, чем в Токио, но попытка – не пытка, для меня важнее было слиться с окружающим миром, не вторгаясь в жизнь, принявшую нас. Планы мои были просты: пришел, увидел, исчез. И, возвращаясь с пляжа в гостиницу, я заметал за собой следы.
Доехать до Флерли было проще: паром причалил там возле электростанции. Она уже не работала: в горах выстроили новую, более современную. На этом причале сошли только мы, все остальные – туристы – поплыли дальше, фотографируясь на фоне вершины Люсеботн. У них деревенели шеи, а они все смотрели наверх, на отвесные горы, высматривая Прекестулен, мимо которого мы уже полтора часа как проплыли, о чем и прошипели микрофоны на своем скрежещущем диалекте.
По горной тропке мы поднялись вверх, идти было тяжело, но мы шли – Хелле с Йорном и Ниной далеко впереди, за ними, тяжело дыша и отдуваясь, – мы с Клаусом, я чувствовал тяжесть, пот ручьем стекал по спине, дождь кончился, сейчас прямо над нами жарило солнце, а позади всех шел Роар, замыкая строй.
Мы поднялись на потрясающее большое плато, нашли подходящее местечко, уселись на камнях и съели бутерброды с сыром и колбасой, которые взяли с собой, запивая их газировкой. Хорошо там было, удивительно хорошо, на многие мили вокруг – ни души, а плато простиралось на сотни метров во все стороны, и нам было видно даже другой берег Люсефьорда, там, где находился Прекестулен. Наверняка там сейчас полно народу, целая толпа стоит вдоль края, это словно бочка с селедкой в горах, которая вот-вот сорвется вниз из-за всей этой толчеи, я так прямо и представлял, как они скользят вниз, по горе, зажав в руках фотоаппараты.
Хелле была разговорчивее, чем в последнее время, больше радовалась и шутила, хотя все еще оставалась далекой, и я думал, что, может, в ее работе появился наконец просвет, что она теперь сможет передохнуть, мы начнем больше времени проводить вместе, будем ездить куда-нибудь, заниматься любовью на столе в гостиной, – если ей захочется, я на все согласен, ко всему готов, абсолютно ко всему. Я сам верил в это и чувствовал себя так, будто все у меня хорошо. Мне действительно было хорошо – я двигался с какой-то необычной легкостью, чувствовал себя сильным, тоже стал более разговорчивым, болтал с Ниной и Клаусом, хотя я не очень хорошо их знал. Со мной всегда было легко, и мне казалось, что, может, у нас с Хелле все не так уж и плохо, просто нам нужно еще немного времени, а ведь впереди целое лето.
С плато было 10–20 минут ходу до Кьерагболтена, того большого камня, застрявшего между скал. Идеальное место, чтобы написать синими чернилами открытку с завитушками: «Привет вам, там, внизу. Сегодня были на Люсефьорде, на Кьерагболтене. Это такой камень, который застрял между скалами. Когда стоишь на нем, под тобой 1100 метров пустоты. А в диаметре камень всего 2–3 метра. Когда-нибудь камень упадет вниз, но сегодня не упал. У нас все хорошо. Всем привет».Первым на камень запрыгнул Клаус, Нина сфотографировала его, а потом мне пришлось фотографировать Йорна с Ниной, которые стояли на камне, прижавшись друг к дружке под сильным ветром. Мне на него лезть не хотелось, он казался скользким, а пока мы шли сюда, у меня ботинки намокли от снега, который все еще лежал кое-где в горах. Но Хелле хотела, чтобы мы забрались на этот камень, ну конечно, Хелле очень хотелось туда, «мы ведь ради этого сюда и поднимались», – сказала она, «пойдем, обязательно нужно на него залезть», – так она сказала. Взяла меня за руку и потянула за собой, а я послушно пошел следом. Она забралась туда первой, залезла на камень, а потом протянула руку мне. Я крепко держал ее, прижимая к себе, а Йорн крикнул, что сейчас он нас сфотографирует, велел смотреть в объектив, и мы повернулись к фотоаппарату. Хелле смотрела чуть в сторону, я поцеловал ее в шею, но она отвела мою руку и неловко засмеялась, а я подумал, что люблю ее, вот уже двенадцать с половиной лет прошло, а я по-прежнему ее люблю, и момент был как раз подходящий. И вот Йорн фотографировал, Нина с Клаусом стояли и смотрели на нас, а я уверенно – даже голос у меня не дрожал – прошептал ей на ухо: «Ты как, выйдешь за меня замуж?» Хелле повернула голову, лицо ее казалось усталым, она посмотрела на меня, прямо в глаза, и, заплакав, сказала: «Нет, Матиас», – и дальше, тихо и спокойно: «Нам надо расстаться». Потом она отвела взгляд, опустила голову, и я понял, что она говорит всерьез.
Emergency lift off.
Game Over. [38]38
Экстренный пуск. Игра закончена (англ.).
[Закрыть]
Ты и глазом моргнуть не успел.
Примерно через десять секунд учащается пульс. Через десять секунд дыхание перехватывает. В желудке появляется ощущение тошноты. Я не знаю, что сказать в ответ. Вообще не знаю. В голове появляется двоичный код, который высчитывает все мыслимые причины, по которым мы должны расстаться, и возможности избежать этого. Мне нехорошо. В глазах щиплет. Мне ужасно жарко. Хочется стянуть свитер, но здесь, на камне, не развернешься, здесь еле-еле умещаются два человека. Я поворачиваюсь, собираясь вернуться на гору. Протискиваюсь мимо Хелле, мы оба машинально отшатываемся, ее нога вдруг соскальзывает с камня, а я хватаю ее за руку, чтобы она не упала, и вот мы вновь стоим на камне. «Никто больше об этом не знает», – говорит она, я поднимаю голову и смотрю на остальных, фальшиво улыбаясь Йорну, который все фотографирует и фотографирует, и эту пленку я ни за что не буду проявлять.
Моей первой мыслью было просто отступить на шаг. Осторожно сойти с камня. Упасть с тысячеметровой высоты, а может, и ее утащить за собой. И все решится само собой, надо только слегка наклониться. Свист ветра в ушах, пока тело достигнет максимального ускорения, а потом я разобьюсь о камни. Меня целую неделю будут оттуда соскребать. Может, и найдут не все. Может, голова оторвется, скатится во фьорд и исчезнет навсегда.
Мы вернулись на твердую поверхность, и Йорн протянул мне фотоаппарат. Я взял его и повесил на шею. Хелле сказала, что ей надо бы найти какое-нибудь местечко и пописать. «Матиас, пойдем вместе поищем?»Я апатично шел следом за ней. Я знал, что ей не хочется в туалет. Я ни о чем не думал.
– Матиас, – сказала она.
– Да, – ответил я отстраненно, – да?
Она вздохнула. Легкие у нее были большие. Я же больше не мог дышать.
Мы были вместе почти тринадцать лет. Шесть с половиной миллионов минут. Сегодняшний день оказался последним. День номер ноль. Она водила сапогом по гравию, звук был неприятным, но я не просил ее прекратить, в страхе, что вместе с этим прекратится и все остальное, все жизненные механизмы остановятся.
– Я собиралась… – начала она, потом вздохнула и огляделась. Я не понимал, как она может что-то видеть. Мне вообще казалось, что все вокруг может отправиться курьерской почтой к чертям. – Я собиралась сказать тебе сегодня вечером или завтра… когда мы вернемся домой, потому что…
– Потому что что?
Скрежет гравия. Дыхание. Слезы. Я не знал, что сказать. Даже зацепиться не за что.
Стив Мартин.
– Потому что хотела, чтобы у нас было последнее счастливое воспоминание, – сказала она. – В последнее время все шло плохо. – У нее был маленький нос, чуточку вздернутый, и большой рот с очень тонкими губами.
Момент для пленки «Кодак». Или нет?
– Нет, – сказал я. Дальше не надо.
– Матиас, я влюбилась.
– Вот как?
Я погладил фотоаппарат. На секунду задумался, стоит ли сейчас сделать снимок на память. Как меня бросили на высоте тысячи метров.
– Он… – Хелле кашлянула, – он курьер, заезжает к нам на работу почти каждый день. – Не понимаю, зачем она сообщила мне именно это.
Я мог бы рассмеяться, но сил у меня не было, а горло забито гравием или, скорее, валунами.
– Ясно, – сказал я, – и сколько уже… сколько уже вы знакомы? То есть…
И тут она расплакалась. Слезы ручейками текли по щекам, падали на гравий, сползали к краю горы и падали во фьорд. Вообще-то плакать надо было мне. Но я не могу плакать, когда на меня кто-нибудь смотрит. И ситуация была абсурдной – я не знал, стоит ли мне обнять ее или просто развернуться и уйти. Или может, мне надо написать сценарий и продать авторские права – получился бы неплохой эпизод дневной мыльной оперы для домохозяек в цветастых фартуках.
Я никак не желал признавать свою гибель.
Я был как Дональд Дак, который свалился с обрыва. Как и он, я не падал, потому что еще не увидел, что оказался в воздухе.
– Полтора года, – всхлипнула она. Посмотрела на меня. – Полтора года, Матиас… я не могу так больше. – Ее речь становились все более невнятной. Я не все разобрал из ее рассказа, но в целом она рассказывала о том, как переживала из-за предстоящих объяснений со мной, как она ждала, постоянно откладывала, какое невероятное облегчение почувствовала, когда решилась наконец все рассказать. Она собиралась сделать это после поездки, нашей последней счастливой совместной поездки. Именно поэтому Хелле в последнее время была более веселой. Она уже решилась, так она сказала, а потом рассказала про курьера, парня, с которым встречалась больше года, а я пытался в растерянности подыскать актрису, которая могла бы сыграть ее в моей мыльной опере, но от этого только больше расстроился. Она спала с ним уже больше года, она позволила ему быть с ней, в ней, водила его в наш дом, может, в наши комнаты, а я даже не знал, кто он такой. Курьер, думал я, не стреляйте в почтальона, думал я, звали его Матс, так она сказала, Хелле рассказывала про Матса, прямо какой-то дьявол на велосипеде, Матс был более открытым, Матс любил ходить куда-нибудь, Матс не боялся мира, Матс высказывал свою точку зрения, и, стоя на горе с сопливым носом, в великоватой ей отцовской куртке, с такими маленькими ручками, Хелле казалась такой крохотной, а я любил ее сильнее, чем следовало. В глубине души я попытался настроиться против неведомого Матса, но у меня ничего не вышло, потому что я даже не был с ним знаком, и – кто знает – он вполне может оказаться самым замечательным человеком на свете. Хелле плакала. Мне хотелось подойти к ней, обнять, но теперь уже было нельзя, потому что она произнесла волшебное заклятие, двери закрываются,и на этом маршруте больше остановок не будет. Моя станция, мне пора выходить, на вершине Норвегии, среди прекраснейших гор во всем мире, обрезанных и отшлифованных на снежных кручах, которые потом соскоблят в бутылки и продадут нам же под видом родниковой воды из чистейших источников. И жизнь моя, которая только недавно наконец наладилась, растаяла под горным июньским солнцем, и я вспомнил одну программу, которую недавно показывали по шведскому телевидению:
В наше время особенно важен оптимистический взгляд на жизнь.
Да, верно, думал я.
Вам самим следует решить: стакан наполовину пуст или наполовину полон.
Да, все верно.
Скажи себе:
Сегодня будет замечательный день.
Сегодня ничто не сможет расстроить меня или выбить из колеи.
Я подумал: Нет.
Я подумал: Нет.
Я подумал: Что же мне теперь делать?
Я подумал: Черт возьми весь этот хренов мир.
Хелле хотелось рассказывать. А мне слушать не хотелось. Но я не смог попросить ее замолчать. Поэтому она рассказала все, что посчитала нужным. О Матсе, о том, что ей не хватает меня, что в последние годы я для нее словно исчез, и я спросил:
– Ты меня видишь сейчас?
– Да, – ответила она.
– Значит, я перестал быть невидимкой, – сказал я.
– Да.
Я собрался. Я решился попытаться. Новый ледниковый период мог наступить в любую минуту.
– Ты абсолютно уверена? Не хочешь чуть-чуть подождать? – спросил я. – Я тоже мог бы подождать.
– Это не пройдет, – тихо ответила она, – это не то же самое, что переболеть чем-то.
Нет уж, именно это: ты заболела и сама этого не замечаешь, –думал я.
– Я так тебя люблю.
Больше, чем следовало бы, тебе никогда и не узнать, насколько сильно.
– Я знаю. Я тебе за это благодарна.
– All I know is, on the day your plane was to leave, if I had the power, I would turn the winds around. I would roll the fog. I would bring in storms. I would change the polarity of the earth so compasses couldn’t work. So your plane couldn’t take off. [39]39
Я знаю лишь то, что когда твой самолет должен был взлететь, если бы это было в моих силах, я повернул бы вспять ветры. Я бы нагнал туману. Я бы вызвал бури. Я бы изменил полюсы земли, чтобы компасы вышли из строя. И тогда твой самолет не улетел бы (англ.).
[Закрыть]
– Но это не в твоих силах.
– Не в моих.
Я спросил, помнит ли она эти слова из «Лос-анджелесской истории», но Хелле не ответила. Она отвела взгляд и вновь стала смотреть на норвежскую природу. Если бы я только мог сейчас запеть, если бы песня могла вернуть ее. Мне хотелось оказаться где-нибудь в другом месте. Где угодно. В Иностранном легионе. На Фарерах. Во Флориде. Кто же, к дьяволу, утешит Малютку?
Никто не утешит.
– Нам было хорошо вместе, – сказал я, глядя на нее.
Потом повернулся. Я прошел по плато, спустился к остальным, поднял рюкзак и повесил его на плечи. За мной по тропинке спустилась и Хелле, глаза у нее покраснели, она сказала, что ей нездоровится. Спускаясь, мы почти все время молчали, три часа до электростанции во Флерли, а потом – пока ждали лодку. На ней мы плыли еще три часа до Ставангера. Домой мы доехали на такси. Мы с Хелле. Она положила рюкзак в коридоре. Переоделась. Собрала вещи. Маленький чемоданчик. Прошла в коридор, обулась. Чемоданчик в руках. Мой маленький Паддингтон. А потом она ушла. Поехала к какой-то подружке. И мне хотелось, чтобы Матс оказался хорошим человеком, чтобы он не знал о том, что вода в море поднимается на один сантиметр в год, а на полюсах постоянно тает снег. О том, что Землю может уничтожить один-единственный метеорит, если выйдет на земную орбиту. И окажется достаточно большим. И если нас никто не будет охранять.
А в другом месте, на юге Калифорнии, в доме, построенном в пятидесятых, Баз Олдрин обнимал свою вторую жену, Дриггз Кэннон, девушку из Феникса, Аризона, которую он наконец повстречал и на которой женился в 1988-м, в День святого Валентина. Вокруг них собрались шестеро его детей от двух браков и единственный пока внук, а дни пробегали, погружаясь в Тихий океан или, если хотите, забираясь на вершины гор в Сан-Вэлли, Айдахо.
А потом, да, потом я начал приходить домой позже. Моя орбита проходила между квартирой Йорна и Нины в Воланне, домом моих родителей на Кампене, и только поздно вечером я возвращался домой в Стурхауг, когда точно знал, что не застану там Хелле. Я не возвращался, пока она не уйдет. Это она так решила. И с каждым разом, поднявшись по лестнице на второй этаж и открыв дверь, я видел, что квартира опустела еще чуть-чуть. Хелле перевезла свои вещи, мебель, и мир мой сделался теснее, а комнаты – просторнее.
Маме с отцом я ничего не рассказывал. Говорил только, что устал. Тогда меня укладывали на диван. Отец сидел рядом в кресле, смотрел новости и пил кофе, ставя с величайшей осторожностью чашку на стол после каждого глотка. Мама переживала, что я мало ем, и все время готовила что-то на кухне. Выпекала булочки, доставала варенье, готовила на ужин потрясающие блюда и стелила на стол самые красивые скатерти, постоянно спрашивая, что со мной такое, но я не отвечал. Аппетита у меня почти не было. Я старался есть как можно больше, хотя мне не хотелось. Меня тошнило, я извинялся, бежал в туалет, склонялся над унитазом и выблевывал все мамины ужины, в горле у меня свербило, каждый день я блевал по пять-шесть раз и думал о Хелле. Она окончательно съехала с квартиры, и я хотел бы стать твоей собакой, нет, не так, – я стал Лайкой, которая вертится в капсуле вокруг Земли со скоростью 6000 километров в час и умирает мучительной смертью от кислородного голодания. Я сидел в ванной на полу, всхлипывая, втягивал воздух, доставал из шкафчика полотенце, умывался и возвращался в гостиную. Я ложился на диван, а отец говорил, что это пройдет, «все пройдет»,так отец говорил, и я сидел у них, а когда им пора было ложиться спать, они провожали меня до двери.
– Ну а Хелле? Давненько она не заходила, – говорила мама, и я отвечал:
– Да.
– Но она как-нибудь обязательно придет, – говорил отец, такое ведь вполне могло произойти, запросто, заранее не предугадаешь.
Иногда по вечерам, когда родители уже ложились спать, я ехал к Йорну. Он ложился поздно, мог до утра провозиться с гитарой и четырьмя синтезаторами. Мы с ним сидели в гостиной. Смотрели телевизор. Не особо разговаривали. Смотрели сериалы, которые крутят всю ночь. «МЭШ», «Джек и толстяк», «Уокер», «Техасские рейнджеры». Я рассказал Йорну, что произошло, да он и сам догадался – когда Хелле начала вывозить вещи. Он спросил, не передумал ли я ехать на Фареры. Я сказал, что нет, я поеду, так я сказал, плыть по морю я боялся, но не говорил об этом. Я вообще почти ничего не говорил. Йорн и «Перклейва» дописывали свой первый альбом, «Трансатлантика» он назывался, у них уже была пробная версия, и Йорн мне ее пару раз ставил. Звучало красиво, мощно, будто гром, и мне казалось, что, вероятно, у них все получится, они прославятся и все такое, я ловил себя на том, что улыбаюсь: ведь вокалист-то у них – не я, не мне придется долгие годы разъезжать по Норвегии с турне, не мне таскать аппаратуру взад-вперед из грузовика, а потом, когда мы прославимся, – постоянная суматоха аэропортов, таможенные досмотры, проверки багажа, опоздания, гостиничные номера, настройка звука – это же бродячий цирк, только звуковой. Почти каждый хочет стать звездой. Но почти никто не хочет быть ей. Ну а я? Даже и говорить не о чем. Кошмарная идея. То, о чем мечтаю я, ты и знать не пожелаешь.
В начале июня мама с отцом отправились наконец в Сен-Ло. У меня тоже начался отпуск в цветочном магазине, наконец-то на лето наняли двоих помощников, я показал им оранжерею и объяснил, что от них потребуется, хотя я все равно не знал, чем заполнить дни, поэтому продолжал ходить на работу. Просыпался. Где-то около шести приезжал в оранжерею. Садился в саду и ждал. Ждал, пока придут остальные. Пару раз развез заказы, когда летние помощники еще осваивались – они слишком туго стягивали букеты, слишком коротко обрезали черенки роз и заворачивали цветы в гофрированную бумагу.
За последние месяцы работы ощутимо поубавилось. Дел становилось все меньше и меньше. В следующем году должно было наступить будущее, поэтому большинство хотело с надежностью прожить то время, которое осталось. Дорогие цветы, которые рано или поздно завянут, стали никому не нужны. А в супермаркетах теперь продавались цветы из ткани и пластмассы всего за 49,90 – вдвое дешевле, до пяти букетов в одни руки, или же дешевые живые цветы, розы и тюльпаны большими партиями. Теперь мы обслуживали почти одни только похороны. Я заметил, что в последнее время с Карстеном что-то неладно: мешки под глазами стали отчетливее, магазин приходил в упадок, но ничего поделать не мог. Я продолжал составлять букеты и собирать венки, но на дворе было лето, и народу умирало мало, все решили подождать до зимы. Венки лежали в комнате отдыха, засыхали и отправлялись на помойку. Карстен приходил на работу все позже и позже. Я приходил все раньше и раньше. Но все без толку. А летние помощники ничего не понимали, они подолгу сидели за обедом, и никто им за это не выговаривал. Они здесь все равно только на три недели. А потом они вернутся к учебе. К займам на обучение. В маленькие квартирки в Ставангере, Бергене, Осло и Трондхейме. А возможно, и в Тромсе. Или может, уедут за границу, потому что планы у них грандиозные, им надо многое успеть, работы мало, а учиться предстоит долго. Не многие уместятся на самой верхушке пирамиды. Им надо набрать баллы, как можно больше баллов. Времени у них в обрез, им уже двадцать или двадцать пять, а они только начали учиться, потому что до этого просто смотрели на жизнь, пытаясь попробовать себя во всем. А сейчас надо быстрее, так они говорили, потому что иначе время уйдет, а вершины достигают к двадцати семи годам. А потом развитие медленно, по спиралям, идет в обратном направлении. После сорока работу уже не поменять. За день до моего отъезда, в понедельник, в магазине остались только мы с Карстеном. Остальные уже ушли, а мы еще оставались, это Карстен попросил меня остаться, а мне торопиться было некуда. Вещи я уже уложил. Много дней назад. Найти мои вещи в квартире было теперь совсем несложно, она наполовину опустела, остался только стул, пара коробок и телевизор. Карстен разлил кофе по чашкам, поровну разделив последние капельки, и выключил кофеварку. Красный огонек погас. По радио передавали, что ожидается дождь.
– Матиас, – сказал он.
– Да?
– Дела идут плохо.
– Знаю, – сказал я, глядя в окно. Машин почти не было.
– Мне так жаль.
– Ты же не виноват.
– Нет, не виноват. Я…
– Не бери в голову.
– Я сегодня подсчетами займусь, а потом выставлю магазин на продажу. Так дальше продолжаться не может.
– Ага, – только и выдохнул я в ответ. Я чувствовал усталость. Мне хотелось поехать домой и лечь спать. Мир вокруг начал по-настоящему рушиться, я отметил это почти с облегчением.
– Да… Я… Ну, с тобой приятно было работать, Матиас. Ты был лучшим сотрудником…
– Спасибо.
– И еще… Ну, я поговорил с Яном, из Аугленда, порекомендовал ему тебя, на случай если ему еще потребуются люди в оранжерее. Но, понимаешь, ему сейчас тоже туго приходится. Хотя все еще вполне может измениться. Может, на следующий год.
– Может, и так. Спасибо тебе за все, Карстен.
– Было бы за что!
– Ну а ты? – сказал я, пытаясь изо всех сил изобразить участие. – Ты сам-то что будешь делать?
– Я? Вообще-то в моем возрасте уже можно на покой уходить, мы поэтому… у нас с Ториль есть домик на Квитсее, мы все обсудили и, может, переедем туда, там очень мило. Ей там очень нравится.
– Да, там замечательно, – тихо подтвердил я, – очень хорошо. Хотя, может, цветы там не особо растут, ну, из-за ветров.
– Это верно. Ну, тогда буду рыбу ловить.
– Угу.
Молчание.
– А у тебя планы на лето какие?
– Я уезжаю завтра… на Фареры, – ответил я.
– Фареры?
– Там почти ничего не растет, – сообщил я, – даже деревья.
– Ни единого деревца?
– Ни единого. Можешь начать дело – цветы и деревья на Фарерах.
– Нет уж, Матиас… И сколько ты там пробудешь?
– Всего неделю. Мы отплываем завтра. Из Бергена.
– Мне казалось, ты не любишь плавать.
– Не люблю, так и есть.
– Ну, удачи тебе тогда, держись.
– И тебе тоже.
Карстен поднялся и на минуту вышел. Мне слышно было, как он распаковывает какой-то ящик, разворачивает бумагу, отрывает липкую ленту. Когда он вновь появился в дверях, я встал и надел куртку.
– Вот, – сказал он, протягивая мне сверток. Что-то мягкое. – Это, пожалуй, единственное, что я могу тебе подарить. На память. Сложно угадать, что в жизни пригодится.
– Спасибо, – ответил я, пожал Карстену руку, порылся в карманах, достал ключи и передал ему. Я вышел и прикрыл за собой дверь. Открывая машину, я видел, как он, надев клеенчатый фартук, перевязывает букет. Он не сдавался. Честно отрабатывал последние часы.