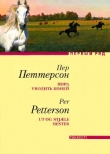Текст книги "Где ты теперь?"
Автор книги: Юхан Харстад
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 27 страниц)

Головная боль. Словно крушение Римской империи. Лежа на палубе, я смотрел на свинцово-серое небо. Корабль качался на воде, а мимо меня вперевалку шагал Палли, перетаскивал ящики с продуктами, которые Анна потом опускала в трюм. Карл закреплял на корме спасательную шлюпку, а Хавстейн что-то быстро говорил по мобильнику, до меня доносились лишь обрывки, наверное, из-за птиц, бесцеремонно гомонивших над нами. По небу, догоняя друг дружку, неровным рядом плыли тучи, а по другую сторону залива пассажиры поднимались на паром «Смирил Лайн». Может, светило солнце, а может, шел дождь – мне оставалось лишь догадываться. А потом надо мной склонилась чья-то фигура, отбросив тень на мое лицо.
– Ну как, проснулся? – спросила Эйдис. – Мы вот-вот отчалим.
– Что произошло?
– Ты сделался буйным, Матиас. Начал драться. Им пришлось тебя вышвырнуть. Но мы тебя не бросили. Похоже, тебя какое-то время туда пускать не будут. Но ты прекрасно поешь. Лучше всех.
Я пробормотал в ответ что-то невразумительное. Она поцеловала меня, и я умолк.
– Держи, – сказала она, бросив мне на колени зеленый дождевик, – Хавстейн хочет, чтобы мы все их надели, когда будем отчаливать.
Она ушла, и чайки улетели. Приподнявшись, я огляделся в поисках Хавстейна, но его нигде не было видно, он, похоже, спустился в трюм, и в тот самый момент я понял, что, не появись я в тот день на Фарерах, ничего этого не случилось бы. Властям не было бы никакого дела до Гьогва, где Хавстейн селил чужаков в пустые фабричные комнаты, чтобы просто заполнить пространство, а может, и свою душу. Фабрику не закрыли бы. Карл наверняка погиб бы в море, а София осталась в живых и, возможно, когда-нибудь уехала бы в Копенгаген. Йорн не потерял бы друга, я не потерял бы опору в жизни, не построив корабль, мы не втянули бы Эйдис в эту гигантскую авантюру, нас бы не заметили и не увидели. Только и всего. А пока я с ними, все будет идти кувырком. Ничего не изменится. И я ничего не могу с этим поделать.
Я поразмыслил, как мне поступить.
Мысли проносились в голове со скоростью света.
Словно глядя на себя со стороны, я поднялся. Встал.
Отбросил дождевик.
И побежал.
Я видел, как несусь к трапу, прыгаю на причал, пробегаю мимо недоумевающего Софуса, который, однако, выглядел расстроенно. Я бежал по причалу и слышал крик Хавстейна, крик Карла, крик Эйдис, но слов я не разбирал, просто бежал. Так быстро я еще никогда не бегал. С парома «Смирил Лайн» раздался гудок, и я помчался к парому, вещей при мне не было, я бежал что было сил, не отрывая взгляда от парома, не оборачиваясь, мимо портовых контейнеров, мимо парковочной площадки, и с каждым шагом во мне росла уверенность, я понимал, что поступаю правильно. Я успел, добежав до пассажирского отсека в последний момент, когда двери уже закрылись и контролер ушел. Со всей силы забарабанив в дверь, я увидел, что в иллюминаторе показалось чье-то лицо, а потом контролер вежливо меня впустил. Проскочив мимо него, я выбежал на палубу, глядя, как паром, отчаливая и разогревая двигатель, берет курс на Шетландские острова и Берген, а корабль наш, стоявший по другую сторону гавани, становится все меньше и меньше, хотя я все еще различал фигуру Хавстейна у штурвала, Карла на носу, Эйдис, Палли, Анны и фарерцев – на берегу. А потом корабль отчалил, я видел, как ветер надувает его парус. И он берет курс на запад. Развернувшись, я спустился в бар, сел на стул и принялся ждать, когда начнется выступление какой-нибудь группы. А может, я ничего и не ждал.
Однако все было по-другому.
Я этого не сделал.
Не в этот раз.
Я не улизну – хотя бы раз в жизни.
И речи быть не может.
С этого момента я в ответе за тех, кто рядом.
Поднявшись на ноги, я подтянул комбинезон с магнолией, застегнул молнию и надел поверх него зеленый дождевик. В этих дождевиках мы были одинаковыми, словно водоросли. Так оно и должно было быть – коли мы решили плыть по морю, то мы и есть зеленые новички, сухопутные крысы, ну, может, за исключением Карла, который на этот раз тоже говорил, что надо лишь найти течение, а уж оно рано или поздно вынесет нас куда следует. Только и всего, так он говорил, но на всякий случай захватил морские карты, компас, гироскоп, ОВЧ, ГЛС и еще бог знает что. Ко всему этому прилагалась целая куча инструкций, а времени у нас будет предостаточно, поэтому можно начитаться вдоволь. Мы остались один на один с ветром – довольно однобокие отношения. А потом пришли они. Всего за пару минут до отправления. Софус, Оули и Сельма. Они пришли убедиться, что у нас все в порядке, что у нас есть все, что нужно. Так оно и было: все на своем месте. Когда Хавстейн с Палли отдали швартовы, корабль заскользил мимо гигантского парома «Норрена», а я мертвой хваткой вцепился в Эйдис, Оули с семейством плыли за нами в новенькой деревянной лодке, и лишь там, где волны вырастают и начинается настоящее море, они развернулись и отправились к берегу. Софус принялся бить в судовой колокол, так что гром разнесся по всему городу. Пытаясь понять, что это за шум, люди на мгновение останавливались, бросали все свои дела и поворачивали головы. А может, мне просто так кажется, может, на самом деле никто и не видел, как мы плывем. Мы исчезли так же неслышно и незаметно, как появились, и уже спустя пару часов, когда я, смертельно напуганный, шагал по палубе, помогая Палли и Карлу ставить паруса, Фареры превратились в крохотную загогулину на морской карте, а мы пропали.
Long Gone Before Daylight [103]103
Ушедший задолго до наступления дня (англ.).
[Закрыть]

1
Луна отдаляется от Земли, и ничего с этим не поделаешь. Отдаляется она совсем незаметно, на четыре сантиметра в год. Говорят, что когда-то расстояние до Луны составляло всего четыре тысячи километров. Сейчас же до нее 384 000 километров. И продолжительность дня растет. Это чистая правда. От Луны зависят приливы и отливы, а это движение воды, в свою очередь, замедляет вращение Земли. Примерно на 0,023 миллисекунды в год. Через миллиарды лет орбиты Луны и Земли станут почти одинаковыми, продолжительность суток составит 1100 часов и жителям некоторых стран будет видно Луну круглосуточно, только она будет меньше, чем сейчас, а потом и вовсе исчезнет. Вот и мы – мы так же исчезаем. Я смотрю на свои старые фотографии, которые привезла мама. Это я – но уже и не я. Старые клетки умерли, их сменили новые, волосы пострижены, а на месте молочных зубов выросли коренные. Я уже не тот, кого ты знал прежде. Я сплю восемь часов в сутки. Я моргаю 17 000 раз в день. Большая часть моей жизни проходит с закрытыми глазами.
Тебе кажется, что первым на Луну прилетел человек. Это неправда, первым туда долетел звуковой сигнал. Случилось это в январе 1946-го, когда американские военные сконструировали передатчик мощностью 3 киловатта и, послав на Луну радиосигнал, уловили эхо. А за десять лет до того, как имя База Олдрина стало известным, в Умбрийской впадине, неподалеку от Кратера Архимеда, сел советский зонд «Луна-2». Людей на борту не было. Зато в зонде находилось два небольших шара с выгравированным советским гербом. Шары нужно было оставить на Луне как вечное доказательство жизни, разума, неукротимой власти, да бог знает чего еще. Однако от зонда остался лишь маленький кратер, почти неотличимый от других. «Луна-2» летел со скоростью десять тысяч километров в час. А на такой скорости не так-то просто затормозить. Однако мне кажется, что попытка эта была в какой-то степени удачной: именно она заставила Советский Союз и США отказаться от идеи провести на Луне испытания термоядерных ракет и понаблюдать с Земли, чья ракета долетит первой. А по тем временам это многое значило.
Но пока Луну еще видно. Она всего лишь в 380 000 километрах от нас. Больше туда никто не летает: с завершением программы «Аполлон» про Луну позабыли. Когда 19 декабря 1972 года двенадцатый побывавший на Луне астронавт вернулся в модуль приземления, люди взялись за поиск других планет и стали готовиться к полету на Марс.
Сама Луна ничего не говорит. Она вообще-то и не приглашала никого.
Луна как воды в рот набрала.

Я не стану долго распространяться о нашей жизни в Гренаде. Расскажу лишь о главном, о том, что приходит на ум прямо сейчас, что не смешалось с другими воспоминаниями. На протяжении многих лет я забывал произошедшее и теперь не могу сказать точно, мол, это случилось там-то и тогда-то, годы слились, а суматоха или размеренность дней и событий вытерлась из памяти. Вспоминая Гренаду, я чувствую необычайную легкость. Неразрешимых, выбивающих из колеи проблем в те годы просто не существовало.
Говорят, что когда 15 августа 1498 года Христофор Колумб открыл Гренаду, он лишь бросил на эту землю унылый взгляд и назвал ее «Concepcion». [104]104
«Начало, идея» (исп.).
[Закрыть]Даже не сойдя на берег, он отправился дальше. Для него она была всего лишь островом – одним из целой гряды островов южной части Карибского моря. Маленький островок, длиной тридцать пять и шириной восемнадцать километров. В четыре раза меньше, чем общая площадь Фарерских островов. И тем не менее население его в два раза больше. С вечными, как на Фарерах, дождями, этот остров также находится под надежной экономической защитой: правителем Гренады является английская королева. Не знаю, правда, бывала ли здесь она сама, пыталась ли хотя бы отыскать на карте этот крошечный островок, известный только тем, кто когда-нибудь здесь побывал, приплыв на каком-нибудь круизном лайнере, возможно, даже норвежском, «Ройал Каррибеан», например. Тем, кто загорал на пляжах в Гранд-Ансе или Сент-Джорджесе или гулял по джунглям Гранд-Этанг у подножия гор, оглядываясь на корабль. Тем, кто возвращается на судно и бежит смывать грязь и переодеваться в смокинг. А потом матросы поднимают якорь и судно отчаливает, а пассажиры спускаются на ужин в зеркальную столовую, откуда уже доносятся звуки легкой фортепианной музыки, исполняемой каким-нибудь Лютером из Украины. Как и полагается, он никогда не сходит на берег, равнодушно, словно Колумб, дожидаясь пассажиров на палубе. И вот от корабля остается лишь рябь на воде.
Мы добирались туда три недели, каждая морская миля, каждый фут воды отдавались во мне морской болезнью и сыростью. Отчаянно цепляясь на перила, я сползал на пол, но наше суденышко все-таки переплыло море. И когда однажды рано утром мы бросили якорь в порту Сент-Джорджеса и, заспанные, сошли на берег, оставляя на песке первые следы, в то утро настало новое время, лучшее время. Такие годы хочется вставить в рамку и отправить друзьям. И лишь спустя ровно девять лет мы уедем оттуда – я, Эйдис и наш сын Якуп, – лишь спустя девять лет мы сядем на последний вечерний автобус до аэропорта в Пойнт-Салинесе, пристегнем ремни и покорно прослушаем правила безопасности. А через несколько минут самолет поднимется над островом, над Карибским морем и перенесет нас сначала в Венесуэлу, затем на юг, в Рио, а оттуда в Амстердам, Осло и, наконец, в Ставангер, где мы и останемся, купим уже через месяц квартиру, вновь сольемся с городом, комнатами, плохой погодой и обычными днями, словно я никогда отсюда не уезжал.
Однако это произойдет только через девять лет.
Чем же мы занимались все это время?
Что с нами стало?
Дела наши шли на поправку, мы выздоравливали, становясь наконец самими собой, и оказалось, что нам придется вновь узнавать друг друга. Выздоровлением мы во многом обязаны Эйдис. Она оказалась нам действительно нужна: она принимала за нас решения, улаживала возникающие сложности, она двигала нашу жизнь, пока не убедилась, что мы сами встали на ноги и что если нам ничего не помешает, наша жизнь будет ровно и размеренно катиться вперед. Ушло на это два года. Мы продали корабль, переехали из большой квартиры в Сент-Джорджесе в старый дом в Гренвилле, доставшийся нам почти бесплатно от довольных соседей, которые были рады уже тому, что там кто-то поселится. Изрядно побегав по инстанциям, мы получили постоянные разрешения на работу и проживание, а Хавстейну, чьи документы проверялись с особой тщательностью, разрешили даже работать по специальности. Взяв в напарники соседей с близлежащих хозяйств, мы открыли собственное предприятие. Все это было неплохо, во всяком случае, нам так казалось. По вечерам мы – одни или с соседями – сидели на берегу, у Эйдис рос живот, Карл вновь занялся фотографией, запечатлевая нас, опьяненных счастьем, на пленке, время шло, а бороды отрастали. Я не мог оторвать взгляда от Эйдис, не мог отойти от нее. Бесконечными вечерами, которые теперь превратились в один долгий вечер на побережье, мы вспоминали Фареры и Софию. Она должна была приехать с нами, ей бы понравилось здесь, тот же вид, а погода лучше. Она, наверное, разъезжала бы на автобусах и жаловалась на дождь, не знаю. Мы вспоминали, а время у нас за спиной отрывало календарные листочки.
Раз в два года ровно на две недели приезжали мама с отцом. Первые два дня после приезда отец нервничал и тревожился, но мало-помалу привык и в последние годы даже начал водить нас в особые рестораны Сент-Джорджеса. Словно самый настоящий старожил, он здоровался с владельцем и вел себя как великий бродяга-путешественник. Мы регулярно звонили друг другу и писали открытки, они ежемесячно присылали мне «Ставангер Афтенблад», поэтому я был в курсе всех новостей. Подключившись к Интернету, мы рассматривали через веб-камеры Фареры, наблюдая, как с годами меняется облик Торсхавна, Клаксвика и Тверэйри. Мы смотрели, как выпадает и тает снег, и видели новогодние фейерверки. Если в поле зрения попадали человеческие фигурки, мы вглядывались в них, пытаясь узнать, но это нам никогда не удавалось, они так и оставались фигурами на экране, нам с ними было не по пути, в их жизнях места для нас не находилось.
Может, благодаря солнцу, тому, что круглый год температура не опускалась ниже тридцати восьми градусов, может, благодаря четырем тысячам гектаров растущего вокруг леса, а возможно, и благодаря чему-то еще, в Гренвилле Хавстейн стал счастливее. Ему больше не приходилось за нами присматривать, мы заботились друг о друге, а когда через четыре года архивы, перевезенные сюда по разбитым лесным дорогам, окончательно уничтожила влага, он, по-моему, испытал облегчение. Ему даже выбрасывать их не пришлось: документы исчезли сами собой, оставалось только сидеть и ждать. И хотя произошло это по чистой случайности, мне нравится мысль, что это неспроста, что все на свете проходит само собой, надо только набраться терпения. В конце концов Хавстейн выкинул остатки архивов и поставил на полки диски и книги как свидетельство здоровья, вещи, о которых не надо заботиться и тревожиться. После того разговора на Фабрике в Гьогве, когда Хавстейн рассказал, зачем собирал архив, мы с ним никогда больше не обсуждали эти бумаги. А после того, как их не стало, вообще никогда их не упоминали.
После того, как мы прожили в Гренаде четыре года, родился Якуп. Мы с Эйдис сидели на заднем сиденье, а Хавстейн на полной скорости вез нас в больницу в Сент-Джорджесе. Помню, я очнулся на полу в родильном отделении, как когда-то мой отец. Я сразу же, посреди ночи, позвонил домой и разбудил его. Мне так и представлялось, как он стоит в пижаме у старой телефонной тумбочки в нашем доме в Ставангере и отмахивается от мамы, которая пытается вырвать у него трубку. С небольшой задержкой, но мы слышали друг друга. Мне хотелось позвонить в НАСА и поинтересоваться, не произошло ли чего в космосе в то утро, но я так и не позвонил. Теперь мне не было никакого дела до космоса, в Гренаде тоже происходило много интересного, и я почти уверен, что в тот момент Земля замедлила скорость вращения, чтобы Якуп мог безопасно ступить на ее поверхность.
И в ту ночь кое-что произошло, верно ведь?
Да, произошло.
Многое произошло.
Я хотел, чтобы Якупа увидел весь мир.
Чтобы все на него посмотрели.
На него, этого удивительного человечка, появившегося на свет в Гренвилле, Гренада, на острове Карибского бассейна.
Тогда я думал об отце. О его словах. Что ему жалко, что я перестал быть ребенком.
Если речь вообще может идти о сожалении. Если это не обычное волнение.
На следующее утро, когда Эйдис с Якупом спали в больничной палате, я рассеянно перебирал компакт-диски в маленьком магазинчике в Сент-Джорджесе. Отсутствующим взглядом я смотрел на музыку растафари и диски с мелодиями на свирели, как вдруг дыхание у меня перехватило, а по коже пробежал мороз. Я словно опять оказался за тысячи километров к востоку отсюда. В руках я держал последний альбом «Кардиганс», «Ушедший задолго до наступления дня». Я огляделся по сторонам, словно ожидая, что все это окажется шуткой, а из-за прилавка появится вдруг улыбающаяся София, посмотрит на меня и рассмеется. Стоя на острове в Карибском море, я держал в руках диск со скандинавской поп-музыкой. Однако ничего такого не произошло. Остальные покупатели не замечали меня, уткнувшись носами в старые виниловые пластинки и кассеты, а у хозяина были свои дела. Без интереса взглянув на обложку, он принес со склада диск. Съездив в больницу, я просидел потом всю ночь с наушниками, которые когда-то взял у Карла. Я сидел в гостиной и раз за разом слушал этот альбом, вчитываясь в тексты песен, напечатанные на обложке, и отыскивая нас самих между строк. Нина Перссон перекрасила волосы, теперь они были черными. Ей шло. Думаю, Софии понравилось бы – и волосы и музыка. Если бы она могла, она бы все стены исписала этими текстами. Ей бы и Эйдис очень понравилась, она бы взяла на руки Якупа и принялась танцевать с ним в большой гостиной, распевая, как она нас всех любит, каждого из нас, ведь мы того заслуживаем. Сидя у нее в комнате, мы по ее требованию старательно прислушивались бы к каждому слову и каждому аккорду, доносящемуся из колонок.
Гренада. Девять лет. Первые два года мы находили какую-то мелкую работу, Палли с Анной работали на круизном судне, в баре, их неделями не было дома. Остальные после работы в Сент-Джорджесе отправлялись вместе на пляж, купаться. Эйдис попыталась выучить патуа, чтобы было проще общаться с самыми старыми и несговорчивыми местными жителями, не знавшими английского. До конца она его так и не освоила, но и мы, и местные крестьяне с интересом слушали эту растаманско-эйдийскую тарабарщину, смесь всех языков острова, мы шутили, что ей нужно бы запатентовать этот патуа-фарерский и издать учебники, чтобы получился новый бесполезный эсперанто. Позже, переехав на восточное побережье, в Гренвиль, и перестав общаться с маленькой группой американских и европейских иммигрантов, мы занялись производством какао, скооперировавшись с соседями. Выращивали мы не очень много, но на плаву держались, регулярно отвозили продукцию в столицу, где с нами расплачивались наличными, и мы возвращались домой, а какао погружали на корабли и везли на другие острова, в Тринидад и Тобаго, например, или в Великобританию, Германию и Нидерланды. Мы еще подумывали об овцеводстве, такая возможность тоже была, но, обсудив все, мы сообща отказались от этой идеи. Ведь, в конце концов, мы специализировались на деревянных овцах, к тому же там, откуда мы приехали, мы уже вдоволь насмотрелись на овец.
Так мы стали выращивать какао, подозрительно оглядывая небо, в страхе, что в любой момент может налететь тропический ураган и погубить весь урожай. Однако ураганов мы так и не дождались. Еще я помню, как мы отправлялись на прогулки, когда надоедало сидеть на берегу, мы бродили по влажным лесам между тиковыми и красными деревьями, и я чувствовал себя Колумбом или Робинзоном Крузо. Я отыскивал новые дорожки, неизвестные места, мы забирались к вулканическому озеру Гранд-Этанг и, опустив ноги в нагревшуюся воду, смотрели вдаль, совсем как в то далекое утро на горе Скелингсфьялл, обсуждая дальнейшие планы и нововведения, благодаря которым работа наша станет проще и эффективнее.
А еще я помню тот день, когда мы решили вернуться домой.
Она болела уже давно, и отец хотел, чтобы оставшуюся часть ее жизни мы провели с ней. Спустя несколько дней мы вместе сидели в гостиной и смотрели по телевизору синхронное плавание. Помню, узор был похож на распускающийся цветок, а потом пловцы начали образовывать другие узоры, сложнее, чем когда-то делала мама. Теперь даже синхронное плавание было не для нее. И однажды ночью, пролежав четыре или пять дней в центральной больнице, она тихо умерла. В тот момент рядом с ней был только отец, мы навещали ее перед этим, днем, мы принесли тогда конфеты – вечный больничный шоколад, который сами и съели, она отказалась. Она тогда много дней не ела.
Вот так мы и остались в Ставангере. Эйдис объявила о нашем переезде за несколько дней до отлета. Пора бы, мол, возвращаться домой, но обратно на Фареры ей не хотелось, во всяком случае, не сразу. Она хотела пожить в Ставангере, ведь она и не собиралась до старости сидеть в Гренаде. А я как на это смотрю? Да. Что-то я давно не бывал дома. Якупа мы тоже спросили. Мы боялись, что он будет против, ведь в этом полушарии оставались все его друзья, но он на удивление легко согласился. Якуп был ко всему готов, хотя потом он долго дрожал от холодной дождливой погоды. Я водил его по Ставангеру, показывал Бюхаугскуген и озеро Стоккаваннет, мы вместе спускались от Кампена через усадьбы в Эйганесе по Фарейгата до театра, а потом поднимались к Воланну, где когда-то жил Йорн.
Хавстейн, Анна, Палли и Карл решили остаться в Гренаде. В последние дни мы подумывали, не переехать ли нам в Ставангер всемером, но мне в такое с самого начала не верилось. Хавстейн не смог бы еще раз начать все сначала, да и климат сыграл свою роль. Температура воздуха. Годами нажитое добро. Стабильный достаток на всю жизнь. Против этого мне было нечего возразить. И тем не менее во мне жила какая-то детская надежда, что в последний день они передумают, все бросят и уедут с нами. Однако этого не произошло. Мы уехали втроем, а после нашего отъезда оставшихся на острове не покидало смутное чувство разочарования, словно мы поступили нечестно, бросив их на произвол судьбы. Может, так оно и было, да еще из-за расстояния между нашими странами телефонные разговоры со временем становились все короче и короче, созванивались мы все реже, а спустя несколько лет и вовсе перестали.
В скором времени у нас – у меня, Эйдис и Якупа – вошло в привычку каждое лето ездить на Фареры, в гости к родителям Эйдис. Заезжали мы и к Оули, Сельме и Софусу. Малышу Софусу исполнилось двадцать пять, он жил на улице Доктор Якобсенсгета, занимался рыболовством, женился, но не на Оулуве (она так и не вернулась) и не на Аннике. А на другой девушке, через четыре месяца после знакомства. Приезжая на Фареры, мы обязательно в первый же день заходили к ним в гости и ели вяленое мясо или гринду, ведь, когда во фьорд заходили гринды, Софус был одним из первых забойщиков, он часами мог простаивать в воде с гарпуном наготове, а жена его стояла на берегу и любовалась. Дела у Софуса шли хорошо, и где-то в глубине души я тешил себя мыслью, что, может, все это благодаря нашей с ним встрече, машинке с пультом управления, которую мы водили по улицам Гьогва, конструкторам и нашим разговорам. Но все же я сознаю, что это здесь ни при чем.
Пару раз бы брали с собой отца. Мне же, когда я приезжал в Торсхавн и прохаживался по давно знакомым улочкам, вдалеке чудились фигуры Хавстейна и всех остальных, словно я верил, что они вернутся и продолжат начатое когда-то. Но мне это просто чудилось. Еще мы ездили в Саксун, тогда я брал с собой садовые ножницы и аккуратно подрезал траву на могиле Софии. Тогда во мне вновь просыпался садовник, я мог просиживать там долго, на корточках, кропотливо обрабатывая почву, сажая новые цветы и заставляя землю вздохнуть поглубже. И конечно, в Гьогв, туда – обязательно, на месте разрушенной Фабрики остались лишь мешки с цементом – не знаю уж, что там собирались выстроить. А сам Гьогв словно проснулся после зимней спячки: в покрашенных и отремонтированных домах вновь стали жить люди, лужайки выглядели ухоженными, а в ясные летние деньки у бухты было на удивление многолюдно. Как и многие другие маленькие деревеньки на Фарерах, Гьогв вновь расцвел, год от года становясь сильнее, местные жители так просто не сдавались. Медленно, но верно деревеньки начали расти, вставать на ноги, и когда мы приезжали туда в прошлом году, проходя мимо маленького магазинчика, который был так долго закрыт, я заметил, что его вновь открыли. Я зашел, купил мороженого и, взяв его с собой на берег, уселся в траве. Сидя там, я просто осматривал окрестности, когда вдали увидел ее, потемневшую деревянную лодку. Я подошел поближе. Да, это была она самая – лодка Оули, на которой в канун Нового года мы плавали спасать Карла. Одна банка была сломана, наверное, мы слишком сильно на нее надавили, когда возвращались на берег, ведь мы тогда так испугались, а может, обрадовались, даже не знаю.
Эйдис с Якупом, забравшись на поросший травой склон и держась за изгородь над самым обрывом, наблюдали за тупиками, которые, распростерши крылья, летели по своим птичьим делам. Потом они тоже спустились к лодке. Обняв Эйдис и сына, я старался не слышать возгласов туристов, которые высовывались из автобуса и размахивали панамками и фотоаппаратами. И тогда я подумал, что мне тоже стоило бы захватить фотоаппарат и заснять нас троих на этом самом месте. А потом, проявив и напечатав снимок, я мог бы показывать пальцем и говорить:
Это мать.
Это отец.
Это мы.
Это Семья.
Момент для снимка на пленку «Кодак».
Последний. Больше не будет.

Апрель. Мне сорок девять лет. А это наша квартира, на втором этаже. Мы живем в Ставангере. Подойдя вплотную к окну и немного наклонившись влево, можно увидеть почти весь центр города. Суббота, небо затянуто тучами. Неделями не прекращается дождь. Ты незнаком со мной, тебе неизвестно, кто я. Я могу оказаться кем угодно. Однако я тоже существую, тоже подписываюсь на газеты, летом еженедельно кошу траву на лужайке, использую правильную технику для мытья машины и в телемагазине заказываю американские моющие средства для чистки садовой мебели. Я хожу в кино, переливаю пиво в стаканы и никогда не пью прямо из бутылки, с половины пятого до пяти двадцати пяти я смотрю серии передач по телевизору, и у меня есть «Домашнее собрание доктора Фила» на ди-ви-ди. По утрам я просыпаюсь, одеваюсь и в восемь выхожу на работу. Где я работаю – совсем не важно. Но лучше меня эту работу выполняет лишь один человек. Случается, меня, как и прежде, мучает бессонница, иногда я вообще не ложусь по ночам, а в семь встаю из-за письменного стола и иду в душ. Иногда я ложусь рано, ставлю у постели старый метроном и через час засыпаю под ровное тиканье. Я – тот, кто стоит перед тобой в очереди в магазине и кого ты почти не замечаешь, о ком сразу же забываешь, начав раскладывать по пакетам продукты и беспокоясь о том, что сегодня – твоя очередь готовить ужин. Я – тот, кто на концертах стоит посредине зала и, вызывая группу на бис, хлопает не слишком громко, но и не слишком тихо. Я тоже голосую. Вовремя подаю тщательно заполненную налоговую декларацию. Отмечаю на календаре время родительских собраний. Когда ты едешь на работу по велосипедной дорожке мимо стоящих машин, моя будет сорок третьей.
Стоя на кухне, я переливаю кофе сначала из кофеварки в термос, а потом – из термоса в чашку. На подоконнике неизменно пылятся четыре диска. «Первая группа на Луне», «Жизнь», «Гран туризмо», «Ушедший задолго до наступления дня». Я смотрю на часы. Время пока раннее. На восточном побережье США сейчас только пять утра, во Флориде спит Баз Олдрин, и снится ему Вселенная, а может, смерть. В гостиничном номере в Огайо спит Йорн, а возможно, и не спит, а только что закончил выступление и не может уснуть. Они уехали три недели назад, еще одно пятимесячное турне, потом они направляются в Европу, затем – в Японию, Австралию, их группа входит в историю. На холодильнике у меня висит расписание их концертов, я слежу за их разъездами, указывая стрелочками передвижения с одного континента на другой и отмечая крестиком города, где они выступают.
Перед их отъездом мы часто встречались с Йорном, по меньшей мере пару раз в неделю. Снег еще не сошел, и как-то вечером мы отправились на гладкие скалы, где не были лет двадцать пять, а ведь летом и осенью 1986-го почти каждый день туда ездили. Через некоторое время после того, как мы начали встречаться с Хелле, мы перестали там бывать, не знаю точно почему, может, Йорн чувствовал себя третьим лишним, а может, Хелле словно присвоила себе это место. Возможно, и то и другое. Но несколько недель назад мы с Йорном опять туда съездили, подстелили куртки, уселись и стали смотреть на психиатрическую лечебницу Дале, расположенную по другую сторону Грандфьорда. Свет в окнах не горел, хотя вечер только начинался. Йорн сказал, что когда-то там сделали приемник-распределитель для беженцев, может, он и сейчас еще существует. И тогда Йорн вновь заговорил о своем брате, я не понимал, почему он мне раньше этого не рассказывал, ни слова не проронил. Брат его тоже исчез, случилось это весной 2001-го, просто однажды, когда родители Йорна вернулись с работы, комната его брата оказалась пустой, а постель – убранной. Принялись искать, был объявлен международный розыск, но его никто не видел, на расстоянии ста метров от дома следы обрывались, и поэтому все казалось возможным и необъяснимым. А еще Йорн рассказал про Роара. Тот теперь работает в одной компании, которая выпускает автомобильные воздушные подушки нового вида, он устроился туда через год после моего отъезда. Йорн потом почти потерял с ним связь, в основном читал про него в газетах: эти подушки оказались ненадежными и опасными для жизни, вокруг них было поднято много шума. Йорн встречался с Роаром лишь случайно – в магазинах, ресторанах, и я сказал, что, мол, и такое бывает, и спросил, не встречал ли он за эти годы Хелле. Да, встречал, у нее дети, двое.
– Они красивые?
– Кто, ее дети?
– Ну да.
– Нет.
Я ничего не сказал, но я и сам ее видел, всего четыре дня назад, в центре. И детей тоже видел, они красивые, она шла прямо навстречу, и мне захотелось подойти к ней и поздороваться. Однако в последний момент я передумал, столько времени прошло, бессмысленно как-то, поэтому я натянул шапку на лоб и потупился, а подняв глаза, понял, что она все равно не узнала бы меня, ведь я совсем изменился. И последнее, что я видел, – это как она переходит улицу и заходит с детьми в магазин.
Мы с Йорном много говорили о прошлом. Он сказал, что любить кого-то – это все равно что плыть в одной большой лодке, и если один разлюбил, то надо подождать, пока лодка пристанет к берегу, чтобы другой мог добраться до суши. Он сказал: