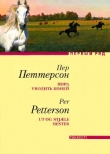Текст книги "Где ты теперь?"
Автор книги: Юхан Харстад
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 27 страниц)
– Ну, так можно мне с вами? – снова спросила она.
– Можно. Но тебе надо сперва доказать, что ты чокнутая. А то не получишь спасательный жилет.
– Летом я живу в доме без электричества. Еще я всю зиму, когда жила в Финляндии, проходила в легких кроссовках. К тому же на Фарерах больше нет девушек с такими короткими волосами. Вот, потрогай.
Я провел рукой по ее голове.
– Психически нормальные на Фарерах не стригутся так коротко.
– Нет?
– Когда дует ветер, очень холодно.
– Ага, знаю. Чокнутая.
Вот так мы и взяли с собой Эйдис. Она переехала к нам с Карлом. Через месяц, в середине февраля, к нам присоединились Хавстейн, Анна и Палли. Чтобы быть поближе к кораблю и продолжать работу ежедневно. Мы потихоньку начали перевозить с Фабрики в Торсхавн вещи, которые решили взять с собой. Их было довольно мало: книги, одежда, чемоданы, магнитофон и диски. И вдруг в один прекрасный день Хавстейн попросил нас с Карлом арендовать грузовик и подъехать в Гьогв. И вот, стоя в его кабинете, мы пялились на двенадцать огромных шкафов с архивами.
– Ты это серьезно? – спросил Карл.
– Ты действительно хочешь все это взять с собой?
– Да.
– Хавстейн, – начал я, – они весят тонну. По меньшей мере. Да мы же сразу ко дну пойдем.
– Нет. Мы возьмем их с собой.
Карл бодро подошел к одному из шкафов и попытался сдвинуть его. Шкаф оказался тяжелым. Тяжелым, как сто чертей.
– Ни хрена, – сказал я, – ничего не выйдет. Забудь о них.
– Либо мы берем их с собой, либо никуда не едем.
– Они слишком тяжелые.
– Может, взять только бумаги, а сами шкафы оставить? – предложил Карл.
– Все равно тяжело получается, – упорствовал я, – ну на что они тебе? Там ты тоже собираешься клинику открывать? Может, расскажешь, на черта тебе полторы тонны мертвого груза на борту?
– Это никого не касается, – Хавстейн тяжело посмотрел на меня, – и по-моему, тебе это известно.
– Но…
– Ребята, вы о чем это?
Карл посмотрел на меня. Я посмотрел на него. Мы посмотрели на Хавстейна.
– Можно тебя на минутку? – Мы с Хавстейном вышли в коридор. – Слушай, они, во-первых, весят больше тонны, а во-вторых, ты еще и размеры учти! Они же не поместятся на корабле! Ну зачем тебе все эти бумажки? Объясни, будь так добр, если уж ты считаешь, что я всенепременно должен погрузить их на борт!
– Не такие уж они и тяжелые, – пытался возразить Хавстейн, – я все рассчитал.
– Почему ты не можешь мне по-человечески ответить, а?
– Это вас не касается.
– Ты хочешь погрузить это на наш корабль. Это нас еще как касается!
– Каждый может найти свое объяснение.
– Знаю. И каково же твое объяснение?
– Матиас, позволь задать тебе один вопрос. Почему ты стал садовником?
– Нет, это я задам тебе вопрос, Хавстейн: почему ты стал психиатром? А? Почему бы тебе просто не рассказать мне правду?
– Ты о чем это?
– Тебе небось казалось, что это такая хорошая профессия, верно? Что все будут тебя уважать? Но все обернулось совсем иначе, так?
– Я вообще не понимаю, о чем ты…
– Так что пошло не так, а? У тебя ведь были какие-то проблемы, верно? Это еще в Дании началось? Ведь это оттуда жизнь твою отправили курьерской почтой прямо к черту? Ты что, издевался над пациентами? Может, ты обманом тянул с них деньги, заставляя их лечиться, когда на то не было необходимости? Или нарушил клятву о неразглашении? Или может, просто-напросто перестал являться на работу трезвым? Так было, я угадал? Ты запил и не мог успокоиться, пока не допьешь до дна, только дна этого не было видно, всегда ведь можно сбегать в магазин за добавкой, можно сходить в бар или…
– Да о чем ты, я…
– И это вовсе не ты придумал открыть на Фабрике реабилитационный центр, так? И отец твой не вкладывал в его постройку никаких денег! Идея эта принадлежала государству, и государство это тебя самого отправило на реабилитацию, подальше от людей, потому что ты спятил еще в Копенгагене и никому не хотелось, чтобы невменяемый шастал по городской больнице, а в Гьогве от тебя не было никакого вреда. Почему только тебя не уволили? Почему они не отпустили тебя на все четыре стороны, а вместо этого разрешили руководить Фабрикой? Может, ты был опасен? Может, на совести у тебя какой-то проступок?
– Мой дед…
– Итак, ты бросил пить, ты завязал и переехал сюда, в ссылку, и к тебе потянулись больные. Они приезжали и уезжали, но никто ничего не заметил, никто не понял, что ты так и не поправился до конца, что ты лечишь не по книгам, а по настроению. Потом ты вообще перестал лечить, ты же боялся, что, выздоровев, они уедут и бросят тебя, верно? Ты просто боишься остаться в одиночестве. Но ты скрываешь это ото всех: от тех, кто здесь живет, и от тех, кто платит тебе за ведение архивов, а архивы твои день ото дня растут. Впрочем, об архивах тоже никто не знает, кроме нас – мы-то видели все эти записи, но нам тоже мало чего известно, потому что ты напускаешь такую таинственность, и правильно, потому что вести такие записи – это же незаконно, да? Тебя же в тюрьму можно упечь за такое, это же секретные документы, неужели тебе не ясно, что это ты выжил из ума, Хавстейн, разум твой покинул тебя много лет назад!
Я словно выплевывал слова прямо ему в лицо, выплескивая накопившееся разочарование от того, что он лгал нам, или даже хуже – не только лгал, а скрывал правду, заставляя нас наивно полагать, что все его поступки не случайны, а являются частью продуманного плана. Я чуть не плакал от злости: мне казалось, что не удерживай он здесь Софию, разреши он ей уехать в Торсхавн или Копенгаген, она была бы сейчас жива. Однако я быстро понял, что она вряд ли выжила бы в одиночестве, и как только такая мысль пришла мне в голову, я замолчал, просто безмолвно уставившись на него. Реакции Хавстейна я предугадать я не мог.
– Все сказал?
– Да.
– Хорошо. Теперь постарайся забыть про все эти глупости.
– Ну, это если только ты поможешь.
– Кто тебе это наговорил?
– Ты же знаешь, что я тебе не скажу.
Тишина. Словно после взрыва. У меня звенело в ушах, я слышал, как Карл деликатно покашливает за дверью кабинета. Решив не обращать на него внимания, я посмотрел на Хавстейна. Посмотрел выжидающе. Бежали секунды.
– Ладно. Хорошо. Я стал психиатром благодаря деду, – начал он, – да будет тебе известно, дед мой был представителем легтинга, [100]100
Парламент, высший законодательный орган на Фарерских островах.
[Закрыть]и ему принадлежало множество фабрик и рыболовных судов на Фарерах. Он платил зарплату сотне рыбаков, а то и больше. К концу тридцатых годов дед был одним из богатейших людей в Торсхавне. Относились к нему хорошо, он был справедлив и щедр с работниками, выделял им деньги на жилье и несколько раз в году устраивал большие праздники, куда приглашались и их семьи. Однако пришла война, которая нарушила его спокойствие, как и многих других. На Фарерах высадились англичане, пытавшиеся, подобно датчанам, уберечь североатлантические судоходные маршруты и спасти острова от лап немцев. Деду приходилось жить в постоянном страхе за своих рыбаков и лодки, из-за которого он все чаще запрещал им выходить в море, боясь, что их потопят, что они напорются на мину, что их заденет подводная лодка или что в море им грозит какая-нибудь другая опасность. Ему казалось, что лучше выждать на берегу, а иначе немцы непременно увидят фарерские лодки и осознают всю важность маленьких островов. Поэтому рыбаки сидели по домам, и страна словно вымерла, дед же старался облегчить своим работникам жизнь и обеспечить им безбедное существование. Тем не менее деньги начали иссякать, дед понял, что обеднел, и вот тут-то дело приняло серьезный оборот. Тогда он кое-что придумал.
Хавстейн рассказывал осторожно, будто боясь, что воспоминания нарушат ход повествования и он собьется. Пока он рассказывал, я, кажется, все больше смотрел на его руки, прислушиваясь к рассказу лишь вполуха, и начинал раздражаться из-за того, что он, похоже, не собирался давать мне внятных объяснений. Я взглянул на дверь в комнату Софии. Она была заперта. В замочной скважине торчал обломок ключа. А Хавстейн все рассказывал.
– Деду стукнуло в голову, что пришла пора вложить деньги в железные дороги. Железная дорога – вот что нужно стране, она облегчит и ускорит перевозки, превратит Фареры в индустриальную державу и придет на смену рыболовству. Железные дороги на Фарерах! На крошечных островках, сплошь покрытых горами! Ведь в этой стране от самой северной точки до самой южной едва будет десять миль?!
Хавстейн словно задавал этот вопрос мне, будто ждал от меня подтверждения того, что дед был идиотом и безнадежным фантазером. Однако я его горячности не поддержал, я просто молча ждал продолжения и более удобного момента, чтобы прервать рассказ о жизни дедушки.
– Ну так вот. Сперва ему никто не поверил, и дед ограничивался словами. Однако когда стало ясно, что говорит он всерьез, люди забеспокоились. Но остановить его было невозможно: он заказал чертежи и написал прошение на патент. Ему отказали, но он не сдавался, продолжая выбирать подходящие типы шпал, и осенью 1942-го, когда в Торсхавн приехали строители, притащившие с собой тонны оборудования, и первые сто двадцать метров рельсов у Блауберга были уложены, дед принялся расхаживать по городу с торжествующим видом победителя. Его пытались вразумить, однако он лишь сердился: пришло время железных дорог, вы что, не понимаете? Но кроме деда так никто не считал, поэтому его отвезли в больницу, где он спустя двенадцать лет умер и откуда не выходил даже на прогулки. Дед стал самым знаменитым сумасшедшим на Фарерах. Дети, приезжающие в больницу, непременно хотели посмотреть на него: выстраиваясь под его окном, они надеялись хоть одним глазком взглянуть на прославленного психа. О нем ходили легенды, поговаривали, что он всегда был чокнутым, что он плевать хотел на все свои фабрики, лодки и рыбаков. Но это все неправда, дед спятил, только когда началась эта история с железной дорогой. И тут уж помочь ему было нельзя. Его лечили все усерднее и усерднее, а он сходил с ума окончательно. Его негласно выгнали из легтинга, который во время войны, когда страна отделилась от Дании, расширился и взял на себя законодательную функцию. Война закончилась, а дед лежал на больничной койке. Наступила весна 48-го, и Фареры стали независимой самоуправляемой частью Дании, а дед по-прежнему лежал в больнице. Так он и пролежал там до самой смерти, оставив после себя лишь слухи. Слухи живут дольше всего, и после смерти деда бабушке пришлось трудно. Она и дети старались жить совсем незаметно, тихо поселившись в Торсхавне, отец нашел работу на рыболовецком судне, а его сестры стали заниматься шитьем или устроились на рыбообрабатывающие фабрики. К сожалению, несчастье наложило на семью тяжелый отпечаток, и когда много лет спустя отец впал в депрессию, его на три месяца отправили в Швейцарию лечиться, тихо, чтобы никто не узнал. Однако шила в мешке не утаишь и в самый неподходящий момент оно обязательно вылезет, поэтому с самого моего рождения за мной внимательно следили, были в постоянном страхе за мое душевное состояние. Но я рос нормальным. Здоровым, как огурчик. А когда я сказал родителям, что хочу заниматься психиатрией, они чуть не запрыгали от радости. Отцу казалось, что так я положу конец кружившимся вокруг нашей семьи слухам. Ему казалось, что так мы начнем все сначала, вроде как возьмем быка за рога. Самого его избрали представителем Государственного управления, где у него со временем даже появились хорошие друзья.
Дольше я сдерживаться не мог. Я сказал:
– Мы, кажется, говорили про твой архив, нет?
Именно так и сказал, хотя его история уже заинтересовала меня и я начал невольно прислушиваться к его словам, просто чтобы узнать, чем же все закончится. И где-то в глубине души я боялся, что, оскорбившись, он тут же прервет рассказ. Однако мои слова Хавстейна не остановили. История набирала обороты, ему непременно хотелось ее закончить.
– Нет, тебя вовсе не архив интересовал. Тебя все интересовало, Матиас. Подожди немного, сейчас все узнаешь. Потерпи. В этой истории все в какой-то степени взаимосвязано. Так вот, я отправился в Копенгаген изучать психиатрию, начал работать, и у меня неплохо получалось, отец забрасывал меня письмами, спрашивая, как дела. Ответы мои всегда были одинаковыми: «все в порядке, дела идут хорошо», и долгое время так оно и было, точнее, до марта 1979-го, когда в моем кабинете появился ХХХХХХХХХХ. В тот день жизнь моя оборвалась. Всего за пару минут привычная для меня жизнь перевернулась. Это я понял сразу же. Взяв на несколько дней отпуск, я решил немного передохнуть: мне сообщили, что одна из моих пациенток, о которой я очень беспокоился, покончила с собой. Произошло это через несколько дней после того, как я порекомендовал выписать ее из больницы. Так вот, я сидел перед горой документов, когда этот человек вдруг вошел в кабинет. В тот день он не был записан на прием. Он пришел на двое суток раньше. Тем не менее он пришел. До этого в течение двух месяцев он приходил на прием раз в неделю. Его мучила бессонница и внезапная тревога, а в последнее время такое случалось все чаше. Я объяснил этому человеку, что, по моему мнению, с ним происходило, и попросил его делать записи о приступах, их длительности, симптомах и мерах пресечения. Он принимал таблетки. Я был убежден, что мы движемся в правильном направлении. И вот он сидит в моем кабинете в неурочное время. Говорить он не хотел. К тому же ему не хотелось, чтобы говорил я. Когда я пытался открыть рот, он предостерегающе протягивал руку, останавливая меня. Мы просто сидели молча. Прошло десять минут. Пятнадцать минут, двадцать. Я взглянул на часы. В приемной меня дожидались больные, я представлял, как они беспокойно ерзают на стульях, на стенах за ними висят веселенькие пейзажи в мягких светлых тонах, а сами пациенты недоумевают, почему я не выхожу и никого не вызываю. В конце концов мне надоело дожидаться, пока он заговорит, я медленно встал и, обойдя стол, подошел к нему. Положил руку ему на плечо, и в тот самый момент произошло это. Я даже не успел понять, что случилось. Он опередил меня. Опустив руку в карман, ХХХХХХХХХХвытащил пистолет и всего за несколько мгновений засунул дуло себе в рот и спустил курок. Прямо в моем кабинете. Знаю, это странно – но выстрела я не слышал. Помню лишь, как он упал и голова его со стуком ударилась об пол. Тело его лежало на полу, а я молча стоял рядом, продолжалось это всего несколько секунд – потом в кабинет вбежала медсестра. Она так и окаменела, разинув рот и опустив руки. Это мне больше всего запомнилось. Ее руки, повисшие плетьми. Я спокойно подошел к столу, взял куртку и, пройдя мимо медсестры, вышел в приемную, даже не глядя на пациентов, молча вышел из больницы и исчез на много дней. Я не позвонил, никого не предупредил и не сказался больным. Днем я бродил по Копенгагену, а вечера просиживал в ресторанах или барах, пытаясь понять, зачем он это сделал как раз в тот момент, когда я дотронулся до него. Я думал, что не подойди я к нему – он был бы жив, мне достаточно было сидеть за столом и не класть руку ему на плечо. Почти неделю спустя я вернулся на работу. Никто не расспрашивал, куда я пропал, никто меня не ругал за прогулы, беседуя со мной, все так и излучали сочувствие, заламывали руки и склоняли головы, голоса их были тихими, а слова – добрыми. У меня появилась привычка выпивать после работы пива или чего-нибудь покрепче: выпивка должна была удерживать меня от постоянных раздумий, почему вдруг двое моих пациентов один за другим наложили на себя руки, ведь оба, как мне казалось, уже выздоравливали. Выпивка не помогала, и я стал бояться ходить на работу. Боялся, что подобное повторится. Я просил, чтобы больные, заходя ко мне в кабинет, снимали куртки, и больше следил за их руками, чем за тем, что они говорили. Под конец страх настолько усилился, что по утрам, еще до начала приема, я успевал выпить изрядную порцию спиртного. Так продолжаться больше не могло. Не могло. Я брал больничные, надолго. Заперев двери, сидел дома и разговаривал только с Марией – я тебе о ней рассказывал. Тогда мы жили вместе, и она видела, что дела мои идут все хуже и хуже. Она предлагала, чтобы я сам обратился к психиатру, но мне этого не хотелось: хорошо же это будет выглядеть – один психиатр лечится у другого, и думать нечего! Отца это известие сломает, надо же такому случиться как раз в тот момент, когда ему казалось, что фамильная честь восстановлена! К декабрю я был измотан настолько, что дни были словно затянуты пеленой, я будто бродил в тумане, однако я потихоньку вновь принялся за работу. И вот в один из таких дней я зашел в книжный магазин и купил «Путеводитель Филдинга по островам Карибского бассейна». После этого Мария ушла от меня, и в начале января 81-го я позвонил отцу и сказал, что у меня неприятности. Отец тут же примчался в Копенгаген. Несколько месяцев, пока я пытался прийти в себя и собраться с мыслями, он прожил вместе со мной. Это отец настоял на моем возвращении на Фареры, когда дела у меня пошли на лад. Тем летом я вернулся. Я по большей части сидел дома, изредка подменяя кого-нибудь в больнице. И вот однажды ко мне пришел отец, который кое-что для меня придумал. Государственное управление решило учредить два реабилитационных центра для больных, которые уже выписались, но еще не готовы к самостоятельной жизни, или тех, кто настолько привык к больнице, что был не в состоянии жить отдельно. Не хочу ли я взять на себя управление такими организациями? По мнению отца, он мог бы оказать мне содействие: отзывы о моей работе в Копенгагене были на удивление хорошими. Отцу казалось, что такая работа пойдет мне на пользу, постепенно втянувшись, я успокоюсь и ко мне вернется уверенность. Уж не знаю, кто его волновал больше – я или больные. И я согласился. Принялся за работу. И вот тут появились личные дела, архив. Эта мысль пришла мне в голову летом 1983-го, вечером, я только что закончил сеанс групповой терапии, и тут меня осенило: мне показалось, что существуют связи, о которых мы и не догадывались, вроде кубика Рубика для психиатров, нужно лишь понять принцип их действия, и тогда мы сможем лучше лечить людей. Заботиться о них.
– То есть?
– Подожди. Ладно, существуют два вида психических заболеваний…
– Какие?
– Предсказуемые и непредсказуемые. Пожалуйста, не перебивай.
– Извини.
– Ладно, ничего. В конце осени я связался с бывшими коллегами из больницы в Торсхавне, позвонил психиатрам в Королевскую больницу в Копенгагене, объяснил, что мне нужно, постепенно убеждая их, пока они не поверили мне и не начали тщательно переписывать все личные дела, скопившиеся за много лет в больничных архивах. Потребовались деньги, много времени и кропотливой работы, ото всех скрывали, что в строго охраняемых больничных подвалах остались лишь рукописные и четко выверенные копии, оригиналы же отправлялись сюда, ко мне, и мой архив постоянно пополнялся новыми делами. Пока у меня не оказались все личные дела больных Дании и Фарер с 1900 до 2000 года, где два последних дела – это твое и Карла.
– Так теперь у тебя все дела?
– Ничего подобного.
Следующую фразу Хавстейн произнес улыбаясь, торжественно, выделяя каждое слово, словно он наконец завершил важнейший труд всей своей жизни:
– Только предсказуемый тип.
Я не знал, что сказать. А потом спросил:
– И как… то есть… ты что-нибудь выяснил?
На минуту воцарилось молчание, Хавстейн надолго задумался, будто решая, надо ли мне это знать, или ему проще развернуться и уйти. Однако затем он улыбнулся – той улыбки мне никогда не забыть – и, наклонившись ко мне, прошептал на ухо несколько фраз. Я понимал, о чем он говорит, ведь я и сам всегда знал об этом. Я слушал, уши мои будто впитывали его слова, а когда он закончил, я молча вышел к Карлу, нетерпеливо ожидающему в кабинете.
– Мы возьмем архив с собой, – сказал я.
– Ты серьезно?
– Да, серьезно.
– Ну если ты считаешь, что так надо, ладно. А можно поинтересоваться почему?
– This is a need to know basis only.
– And I don’t need to know, right? [101]101
– Необходимо знать основу.
– А мне ее знать не надо, верно? (англ.)
[Закрыть]
– Верно.

Архивные шкафы отвезли в порт, где их поставили на складе вместе с другими необходимыми в поездке вещами, и я никому не сказал ни слова о том, что в куче бумаг недостает одного-единственного личного дела, принадлежавшего безымянной больной, влюбленной в автобусы и самостоятельно выписавшейся из жизни. Последний месяц у нас ушел на завершение строительства, большую часть мебели, усердно выбранной Анной, Палли и Эйдис и прикрученной в каютах, мы отвинтили, чтобы не перегружать судно, освобождая место для архива, мы избавились от лишних предметов, мы взвешивали и высчитывали килограммы, пока наконец не убедились, что перегрузки не будет. Оставили мы лишь туалеты и камбуз. Мы вытащили записи из шкафчиков, завернули в полиэтилен и уложили на дно вроде покрытия. Вывезенный с Фабрики старый диван мы поставили на палубе, среди груд личных дел, выглядело это довольно убого, но нам нравилось. Сверху на записи мы положили еще три тонких матраса, чтобы уберечь бумаги от воды и чтобы те, кто несет палубную вахту, могли прилечь. Да и если нам всем вдруг придется одновременно оказаться на палубе, мы хоть присесть сможем. К нашему сожалению, на кормовое машинное отделение денег не хватило, но, как оказалось, оно и к лучшему: пустое помещение стало складом для запасов воды и продуктов, а у одного парня из Клаксвика мы купили подержанный подвесной мотор, так что в затишье мы сможем заводить двигатель и избежим проблем, отчаливая из порта. Потом мы вновь отлаживали и снова красили и грунтовали, работая круглые сутки, по очереди, мы с Карлом сменяли друг дружку по ночам. Мы ушли с работы, поэтому днем могли спать, а к десяти вечера отправлялись в порт вместе с Эйдис, Хавстейном или Оули, которые тоже чередовались. И вот той ночью, когда корпус корабля вытащили из мастерской и начали оснастку мачты, – той ночью я осознал всю серьезность нашего дела, по-моему, именно тогда до меня дошло, что мы покидаем Фареры навсегда и не собираемся возвращаться. Тогда ко мне опять вернулась бессонница. Заснуть я не мог, вставал и сидел в гостиной на первом этаже, прислушиваясь к похрапыванию остальных. По ночам я начинал действовать машинально, мозг отключался, а днем вешал паруса, сгибаясь под тяжестью всех этих тросов и ваеров, я запутывался в них и злился, на мои крики о помощи прибегал Карл, я несколько раз прерывал работу, а через полчаса опять принимался за дело, Эйдис изо всех сил старалась мне помочь, но все без толку, хотя ее вины в этом не было. Позже она начала во время работы держаться от меня подальше, и мы виделись, лишь когда я к шести утра возвращался домой. Я ничего ей не рассказывал, укорять ее было не в чем, а сказать, что все скоро закончится, я не мог, ведь я и сам не был в этом уверен. Почему со мной творится такое, я не понимал, может, из-за страха, что мы не успеем доделать корабль вовремя? Я удвоил старания, отправляясь работать в десять вечера и возвращаясь домой в одиночестве к двум часам дня, доползал до постели и засыпал. Хавстейн опять смотрел на меня с тем же беспокойством, что и два года назад, но из-за усталости он и сам не знал, как мне помочь. Хотя вслух об этом не говорили, было ясно, что именно Хавстейн взял на себя ответственность за постройку судна, а кроме того, мы же отправлялись в Карибское море только благодаря ему, поэтому если ожидания наши не оправдаются и жизнь не станет проще и понятней, то и виноват тоже будет он.
Один из последних мартовских дней. Вернувшись к двум часам домой, я разбудил растрепанную Эйдис, свернувшуюся под одеялом.
– Нам сегодня надо съездить в Саксун, – сказал я.
Зевнув, она посмотрела на часы:
– Ты же только что вернулся?
Я кивнул.
– Матиас, тебе нужно выспаться. Ты совсем измотался. Ты и меня вымотал, разве не ясно?
– Мы вот-вот закончим корабль. Может, уже завтра.
– А в Саксуне мы чего забыли?
– Мне надо отвезти туда подарок.
– У тебя что, знакомые там?
– Вроде того.
Вздохнув, она протерла глаза и обняла меня.
– Ладно, Матиас, хорошо. Дай мне полчасика, я поеду с тобой.
– Я тебя внизу подожду.
Я прикрыл за собой дверь и, спускаясь по лестнице, натолкнулся на Хавстейна, который как раз собирался пойти спать. В этом доме никто больше не ориентировался во времени.
– Я положил ее на полочку, рядом с телефоном. Это очень мило с твоей стороны, Матиас.
– Спасибо.
Спустившись вниз и одевшись, я взял сверток и вышел к машине, где просидел полчаса в ожидании Эйдис.
Через тридцать пять минут меня разбудила Эйдис, она сама села за руль, а я, усевшись рядом и закрыв глаза, успел лишь заметить, как мы тронулись с места и, выехав по узким улочкам на Хойвиксвегур, покатили на север.
Где-то между Хаксвиком и Саксуном меня разбудили солнечные лучи. Открыв глаза, я увидел, что Эйдис мчится на скорости сто десять в час и вроде как скучает.
– С добрым утром, – сказала она.
– Что-то ты разогналась, – промычал я, потуже затягивая ремень безопасности.
– Ты не хочешь рассказать, зачем тебе приспичило туда ехать? И непременно сегодня?
– Мне надо отдать книгу.
– Книгу?
– Ага.
– Whatever. [102]102
Как угодно (англ.).
[Закрыть]
Возле маленькой белой церкви с поросшей травой крышей я попросил Эйдис притормозить. Идиллия. Каким и должен быть один из последних дней в этой стране. Совсем как в последнюю неделю каникул перед новым учебным годом – помнишь? Помнишь, каким ясным был воздух? И небо почти без туч. Достав из машины сверток, я попросил Эйдис подержать его, а сам открыл багажник и вынул оттуда лопату. Открыв ворота, я вошел на церковное кладбище. Эйдис шла следом.
– Ты что, хочешь выкопать покойника? Так, что ли?
– Я не буду никого выкапывать. Я буду закапывать.
Мы подошли к плите над могилой Софии и остановились.
– Матиас, мне это все не нравится. Очень не нравится.
– Все в порядке.
– Ты ее знал?
– Да, знал. Но, как оказалось, совсем плохо знал.
Склонившись над плитой, Эйдис вгляделась в надпись:
– Она умерла совсем молодой. Что с ней произошло?
– Ее сбил автобус.
– Мне жаль, Матиас.
– Ничего. Она очень любила автобусы. Могло и что похуже случиться.
Воткнув лопату в землю, я с силой копнул несколько раз, отбрасывая землю в сторону и озираясь, ведь местные жители вполне могут подумать, что я тут занимаюсь осквернением могил.
– Давай сверток, – быстро сказал я.
Эйдис протянула мне сверток, я развернул бумагу и вытащил «Путеводитель Филдинга по островам Карибского бассейна и Багамам». Это Хавстейн предложил отвезти книгу сюда, тогда мы будто забирали с собой и Софию. Я положил книгу в ямку – со всеми отметками, подчеркиваниями, вклеенными листочками и сведениями, на сбор которых ушел не один год. Мне даже было немного не по себе, хотя в глубине души я понимал, что совершаю благой поступок. Вроде как подвожу черту. Я уложил сверху землю и утрамбовал ее лопатой.
– Это чтобы она вроде как знала, куда мы уезжаем?
– Это Хавстейн попросил.
– Думаешь, она найдет нас? То есть по книге?
Я улыбнулся: вот уж не знаю, сработает ли это.
– Ну, может, она заблудится и очутится на Багамах. Она иногда бывала слегка рассеянной.
Мы посмеялись, но смех был каким-то картонным, ненастоящим.
Оставив лопату в машине, мы спустились вниз, к маленькому озеру Поллур. Было время отлива, обнажившего песчаный берег, мы шагали к заливу Вестманн, а я рассказывал Эйдис о Филдинге с его Карибским бассейном и о Софии, которую я, сам того не осознавая, так сильно любил.
На обратном пути я опять заснул прямо в машине, успев лишь почувствовать, как Эйдис похлопывает меня по голове, будто маленького ребенка, поздно вернувшегося домой. Я не помню, как приехал домой, не помню, чтобы я разговаривал с кем-то или делал что-то особенное, а когда я окончательно проснулся, уже наступил наш последний вечер на Фарерах. В дверном проеме стоит Палли, он прямо-таки подпрыгивает от воодушевления. Они с Хавстейном разговаривают о корабле, и Хавстейн говорит, что судно готово и нам пора собираться, потому что на следующее утро мы пораньше отправимся в путь. Он говорит, что пора вставать, мы через пару часов собираемся в «Кафе Натюр», корабль готов, разве не чудесно, мы отправляемся в Карибское море,они уже спускают судно на воду, Анна привязывает веревку к бутылке шампанского, которую всего через полчаса мы разобьем о борт корабля и окрестим судно, а мне надо вставать и одеваться, а потом я вдруг замечаю, что они куда-то пропали и я стою в одиночестве на холодном полу. Вещи мои уже давно собраны, на дворе последний мартовский вечер, а завтра в это время нас тут уже не будет.
Мы окрестили корабль. Спустили его на воду, и он держался на плаву. Поставив его на якорь, мы отправились в «Кафе Натюр». Настроение у всех было приподнятое, но я чувствовал такую усталость, что с трудом держался на ногах, реальное и воображаемое начали медленно перемешиваться, и чем усерднее я пытался взять себя в руки, тем дальше меня уносило от действительности. Таким этот вечер мне и запомнился: я сижу за столиком прямо посреди кафе, суббота, поэтому ступить негде, я сижу, ухватившись за пивную кружку, все бодры, ведь через пару часов мы отчалим. Эйдис уходит попрощаться с друзьями, она им уже рассказала, что мы уезжаем, родителям она тоже сообщила, поэтому теперь всем известно, что мы отправляемся в путь. Родственники Хавстейна, Анны и Палли тоже знают, один я соврал: пообещал позвонить домой, но так и не позвонил, мне кажется, что лучше будет, если я позвоню, когда мы доберемся, так я думал. А посреди всей этой суматохи, полускрытая за головами и спинами, выступает какая-то группа. Играют они громко, разговаривать почти невозможно, поэтому мы по большей части просто улыбаемся друг другу, то есть мне кажется, что я улыбаюсь, но я не уверен. Может, я просто сижу разинув рот. Поднеся к губам кружку, я пью, по-моему, я пьян, озираясь, я вижу, как Карл закуривает. Поймав мой взгляд, он поднимает большой палец, одновременно затягиваясь, и я думаю: вот он, один из самых лучших друзей, каких только можно придумать, хорошо, если у него все наладится. Потом я смотрю на Хавстейна, который не смог меня вылечить, хотя и пытался изо всех сил, я смотрю на Анну, которая со дня смерти Софии ходила сама не своя и тем не менее работала круглосуточно месяцы напролет ради нашей поездки. Смотрю на Палли, который уже скучает по Фарерам, как, впрочем, и я. Я понимаю, зачем он осматривается: он хочет запечатлеть в памяти эту комнату, это место, запомнить каждую мелочь. Мне тоже стоило бы так сделать, но у меня как будто пленка закончилась, пленка в моей голове засвечена, и тут я замечаю, что поднимаюсь из-за стола. Опершись о столешницу, я наклоняюсь к Хавстейну, тяну к нему руки, а он что-то говорит мне, но я не улавливаю смысла и лишь фыркаю в ответ. Отдать швартовы! – и вот я, расталкивая толпу, уже направляюсь к бару, раз-два! – и вот я уже по ту сторону стойки, отсюда мне моих друзей не видно и не слышно, однако я знаю – они там. Я сталкиваюсь лицом к лицу с вокалистом незнакомой мне группы, стою я совсем рядом с микрофоном и даже собственных мыслей не слышу, если у меня вообще есть хоть какие-то мысли. В перерыве между песнями я наклоняюсь к вокалисту, пол качается, я хватаюсь за певца и валюсь на пол прямо возле ударной установки. Со всех сторон ноги в ботинках, а на грязном скользком полу, всего в сантиметре от меня, лежит микрофон, выпавший из рук вокалиста. Я хватаю микрофон и начинаю что-то выкрикивать. Мой голос разносится по кафе, и на мгновение я вновь слышу собственные мысли. А потом закрываю глаза и начинаю петь. Я пою первое, что приходит в голову, не знаю только, откуда оно приходит, сперва это просто слова. Группа ждет – то ли когда я уберусь со сцены, то ли когда поймаю мелодию, вокалист смотрит на меня – сердито или растерянно, скорее последнее. Я спрашиваю его, готов ли он к моему удару, но ответить он не может, и я начинаю петь. Не знаю почему, но это «Forever Young», я пою ее, хотя сам вечно жить не хочу, ни за что – так я кричу. Кто хочет жить вечно? Я пою без сопровождения, слова я помню, хотя уже лет двадцать не слышал этой песни, именно поэтому я и пою ее, а не что-то другое. Я слышу, что где-то позади, далеко позади меня, группа начала подыгрывать, ведь эту песню они знают. Словно тринадцатилетний мальчишка, я лежу на полу и пою песню «Альфавилль», и я не хочу жить вечно, но останься я здесь, на Фарерах, так и получится, в этой влажной стране я буду летать от звезды к звезде, а дождь будет лить и горы будут все зеленее с каждым днем, и мне кажется, будто моим словам верят. В кафе воцаряется тишина, и теперь слышно только песню. Проползая по полу, она поднимается вверх, пробирается сквозь толпу, оставляя позади локти, головы и пивные кружки, голос мой крепчает – таким сильным он еще никогда не был, – и я замечаю, как посетители вдруг застывают и забывают обо всем на свете, бармены оставляют краны открытыми и пиво течет рекой, стекает по барной стойке на пол и течет ко мне. Я залит водой или пивом, не знаю точно, кто-то пытается оттащить меня, но уходить я не хочу, мне вообще не хочется двигаться, ни на метр, группа прекращает играть, однако я все лежу, не поднимаюсь, тогда вокалист пытается вырвать у меня микрофон, а группа начинает играть «Мою любимую игру», я крепко держу микрофон, ведь теперь я могу перейти к «Кардиганс», а их репертуар я знаю наизусть, хотя группа об этом и не подозревает. Схватив вокалиста за ноги, я рывком тяну его вниз, и он мешком валится рядом со мной, он больше не сердится, на лице его изумление, я кричу ему что-то, но не знаю, что именно. Он говорит что-то про караоке, хотя мне ясно, что он, тыча микрофоном мне в лицо, вовсе не приглашает меня спеть вместе. Я начинаю бормотать текст «Моей любимой игры», встаю на ноги, и слова начинают литься, а группа со всем усердием пытается за ними поспеть. Я стараюсь изо всех сил, так что потолок дрожит и стена трясется от моего голоса, я перестаю слышать себя, однако точно помню, как петь, ведь эту песню я назубок знаю. Пение мое становится все громче и громче, я вспоминаю о книге, вчера или когда-то еще закопанной на могиле Софии, мне и диски ее тоже надо было там похоронить, но сейчас уже поздно, уже не получится, мы же скоро уплываем и навряд ли вернемся. Какая-то часть меня уезжать не хочет, мне кажется, что Фареры – лучшее из всего, что со мной приключилось, я вспоминаю морское побережье в Гьогве, дом на Торсгета и горы. Горы мне никак нельзя забывать, как и всех живущих здесь людей, о чьем существовании я даже не подозревал. Не хочу уезжать, хочу остаться, но остаться никак нельзя, я – словно гринда, пойманная в Хвалвике или Мидвагуре. Не хочу уезжать, хочу ездить по этим дорогам, ночью – по горам, а утром – сквозь густой туман, я же почти выучил фарерский, я хочу остаться со своими новыми знакомыми, но вместо этого я должен уехать, всего через пару часов мы погрузим на корабль оставшиеся ящики, и мне кажется, это я навсегда запомню, я никогда вас не забуду, хотя вы обо мне уже забыли. Я машу рукой группе, чтобы они сыграли еще раз. Теперь они послушно выполняют мои указания, вокалист сидит на полу возле меня, а я еще раз пою первый куплет. Я пытаюсь петь громче, если это возможно, ведь опера не окончена, пока не спела толстая певица, а она еще даже не доехала до «Кафе Натюр», поэтому я продолжаю, пою все быстрее и быстрее, оконное стекло трескается, ножки стульев подламываются, не выдерживая собственной тяжести, и я умолкаю. Гитарист вновь проигрывает тему, но его почти никто не слышит, теперь гремят овации, и я вижу, что Хавстейн с Карлом стоят на столе, радости на их лицах нет, они не смеются, они обеспокоены, по крайней мере, мне так кажется, а потом я падаю из окна, опускаюсь на асфальт и звуки исчезают.