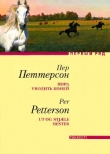Текст книги "Где ты теперь?"
Автор книги: Юхан Харстад
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 27 страниц)
4
НН умерла через четыре дня. У меня был выходной. Мы с НН и Карлом собирались на автобусе в Хвитанес. Я хотел показать им посаженные мной деревья, к тому же, когда я начал работать, мы с НН прекратили прогулки по крошечному лесу. В последнее время она почти не выезжала из Гьогва и редко выходила с Фабрики. Мы решили, что потом выпьем пива, а вечером к нам присоединятся Хавстейн с остальными. Однако в последний момент Карл передумал и решил еще пару часов поработать и приехать вечерним автобусом. Он придумал новую поделку, поэтому нам с НН предстояло ехать вдвоем. Она вышла первой, а я искал куртку полегче. Подойдя к автобусной остановке, она села и стала ждать. Выходя, я услышал шум мотора и бросился к остановке, высматривая съезжающий с холма автобус. Я заворачиваю за поворот и окликаю НН, сначала не вижу ее, а потом она вдруг резко шагает на дорогу, водитель давит на тормоза. Толчок в спину, она падает и исчезает под колесами.
Гидравлика.
Визг тормозов, автобус наконец останавливается.
Ее руки не двигаются.
Водитель смотрит прямо перед собой.
Пассажиры застыли на местах.
Мои ботинки стучат по асфальту, когда я бегу к ней.
Первые капли дождя падают мне на лицо, а я тщетно пытаюсь вытащить НН из-под автобуса. Ее руку придавило передним колесом, и водитель набирается мужества, заводит двигатель, и автобус сдвигается на пару сантиметров вперед.
Когда автобус двигается, она кричит.
Из ее живота и почти оторванной руки течет кровь.
Паника. Тошнота. Паника. Тошнота.
Плача, водитель отрывает от своей куртки рукава и перевязывает ей руку.
Пассажиры неподвижно сидят на сиденьях, уставившись в пол.
НН кричит, а потом внезапно затихает. Обнимая ее, я говорю: все хорошо, все будет хорошо, сейчас тебя спасут, только подожди немного, просто нужно немного терпения.
Я кричу, и из Фабрики выбегает Карл, с шерстью в руках. Мы везем НН в Торсхавн, в больницу на улице Й. С. Свабосгета, потому что у нас нет времени дожидаться «скорую помощь». Я не отрываясь смотрю на нее в зеркало заднего вида, Карл обнимает ее, пытаясь привести в сознание, утешает и обматывает ее руку и живот одеждой.
Еще до приезда в больницу НН уходит в зыбкие сады комы, потом мы сидим в больничном коридоре и ждем, когда ее прооперируют, звоним Хавстейну, просим его приехать, сидим и ждем, НН оперируют, и мы думаем, что все будет хорошо и мы успели вовремя.
В тот день НН не умерла, хотя кажется, что произошло это именно тогда. Она пролежала в больнице еще почти полтора месяца, а сейчас все уже позади, многое изменилось, деревья выросли, и я еду домой.

НН не стало, и на Фабрике воцарилась тишина.
Мы бродили по дому, и у нас все валилось из рук, нам едва удавались самые простые дела. Мы по-прежнему просыпались, ехали на работу, если нужно было, приезжали домой, как и раньше. Но самые обычные действия – приготовить ужин или заняться чем-нибудь по вечерам – от нас ускользали. Говорить об этом мы не могли, у каждого было свое отношение, и никто не знал, с чего начать. Карл в основном сидел на Фабрике, продолжая начатое в тот день, когда НН сбил автобус, словно он сможет что-нибудь изменить, если будет вести себя как ни в чем не бывало. Я проводил с ним много времени, но он редко заговаривал о ней, а каждый раз, когда заводил разговор я, он менял тему.
– Ну, что ты об этом скажешь? – спрашивал он, держа в руках свою новую поделку.
– А это как тебе? – интересовался Карл, показывая мне вырезанных из дерева лошадей или коров с пятнами коричневой краски на боках.
– Может, стоило бы побольше таких наделать? – спрашивал он про овец.
А иногда он просил:
– Можно я вечером возьму твою машину? Хочу в больницу съездить.
– Ну конечно, – отвечал я. Я никогда не просил взять меня с собой, не спрашивал, что он там делал и что говорил ей, если вообще говорил. Избегая таких разговоров, я заводил беседы о другом, надеясь, что однажды, когда ему захочется, он сам расскажет, а пока надо подождать.
Анна и Хавстейн вели себя иначе. Анне было тяжело, она почти перестала есть, плохо спала и раздражалась по пустякам, из-за хлебных крошек на кухне, оторванной подставки для душа, беспорядка в шкафу или неухоженных вазонов с цветами. Цепляясь за пустяки, она пыталась не сорваться. Хавстейн же, наоборот, много размышлял над тем, что произошло, над страшной лотереей случайности. Я вновь и вновь пересказывал ему случившееся, секунду за секундой, сцену за сценой, как кино. Я отвечал на его вопросы, он спрашивал, о чем мы разговаривали, когда сидели у нее в комнате, спрашивал, как Карл себя чувствует и как дела у меня, на последний из этих вопросов ответить было сложнее всего, и отвечал я довольно однообразно:
– Я понимаю, что это произошло не по моей вине. Я не виню себя.
– Хорошо, – говорил он тогда, – хорошо. – И на этом разговор прекращался.
В те дни даже Палли изменился: он стал чаще проводить вечера с нами, помогал, звал нас с Карлом на рыбалку. Мы почти каждый вечер ходили с ним к морю ловить рыбу, разговаривали мало, Палли помогал мне со снастями и насаживал блесну, а когда крючок цеплялся за камни, забирал у меня удочку. Он объяснял, как правильно опускать блесну в воду, когда вытягивать и как подматывать леску. Он показал мне лучшие рыбные места. Мы тогда ловили помногу рыбы. А в хорошую погоду мы надевали теплые шерстяные свитера и жарили рыбу на улице. Три придурка на пригорке. Даже вся рыба на свете не могла ничегошеньки изменить.
НН лежала в больнице в Торсхавне. Она ничего не видела, ничего не слышала и ничего не говорила. Мы навещали ее. Карл. Хавстейн. Палли с Анной, они ездили к ней два раза в неделю, по вечерам. И я. Сперва я ездил туда почти каждый день, после работы. Брал с собой чего-нибудь перекусить и почитать. В те дни я помногу с ней разговаривал. Обо всем. Говорил, что в голову приходило. О том, что прочитал в газете. Рассказывал, что с ней произошло, и говорил, что мы ждем ее пробуждения. Что в кино чем дольше красавица лежит в коме, тем больше уверенности в том, что она проснется. Я говорил, что прекраснее ее никого не знал. Говорил, что когда она проснется, мы все вместе поедем куда-нибудь, в Данию, например. Почему бы нет. Или в Англию, в Лондон. Или в Нью-Йорк. Мы можем поехать на автобусе. Если она захочет. На автобусе можно доехать до любой страны. Я обещал ей зеленые леса, где растут прекрасные цветы, зреют свежие фрукты и бродят добрые звери с мягкой плюшевой шерстью. Говорил и говорил. По вечерам я уходил, а слова мои словно оставались там, прилипая к стенам, потолку, целые кучи слов лежали на полу. Потом я прекратил. Болтовню. Просто сидел и слушал. Прислушивался к ее дыханию. Ждал, что она вот-вот проснется. Но в основном я просто сидел и читал. Или слушал радио. Как-то так.
Однажды к ней пришла ее мать.
Когда она солнечным вечером зашла в палату, был обычный среднестатистический понедельник, а воздух наполнился апрельским теплом. Она была худощавой, с длинными темными волосами и огромной сумкой в руках. К тому моменту я пробыл у НН уже час, а может, и полтора. Сидя в палате и читая книгу Хавстейна про острова Карибского моря, я сначала попутешествовал по архипелагу, а затем, остановившись почему-то на Гренаде, попытался запомнить количество жителей, отзывы о гостиницах двадцатилетней давности, достопримечательности, которых, возможно, уже не существует, и длину плавательного бассейна, может давно засыпанного песком. Коротко кивнув, она повесила куртку на крючок у двери и, присев возле меня на стул, посмотрела на дочь. Мы немного помолчали.
– Уезжаешь? – Она показала на книгу, лежавшую у меня на коленях.
– Нет-нет, – ответил я, – мне просто нравится читать о местах, где я не был.
Молчание.
– Как по-твоему, о чем она сейчас думает? – спросила она, глядя в пустоту.
– Не знаю. Может, ни о чем.
– Правда ведь, она красивая?
– Да, – ответил я, – красивее я не встречал.
– Ты знал, что она каталась на автобусах по Фарерам? Просто так? Они ее и свели с ума, автобусы.
– Да, я слышал об этом.
– Тебя Матиас зовут, так ведь?
– Да.
Она представилась и протянула мне руку.
– Она много о тебе рассказывала.
Вот как? Что рассказывала?
– П-правда? – спросил я, запинаясь.
– Когда приезжала ко мне на Рождество. Показывала мне твои фотографии. Наверное, она уже начала выздоравливать и могла уехать из Гьогва. Она об этом говорила?
– Иногда. Не часто, но иногда говорила.
– Вот только не знаю, куда она собиралась ехать. А ты знаешь? Может, в Данию?
– Может быть.
Она поднялась со стула и, подойдя к кровати, взяла НН за руку и погладила по голове. НН, накрытая простынкой, казалась такой маленькой, почти незаметной. Теперь в палате слышен был лишь монотонный писк электрокардиограммы, отсчитывающей удары ее сердца.
Жужжание кондиционера.
Шум машин.
Весна.
Ее мать повернулась ко мне:
– Они были вместе с этим… Карлом?
– Когда это произошло?
– Нет. Они были вместе? – Она слегка зарделась. – Ну, то есть они встречались? Понимаешь, о чем я?
Я кивнул:
– Да. По-моему. Вы не знали?
– Она мало о нем говорила. Разве только что есть такой Карл и что он из Штатов.
– Нам тоже известно не больше, – сказал я.
– Знаешь, она только о тебе и говорила. Господи, столько разговоров было, – она тихонько засмеялась, – она как будто тебя изучала. Ты и только ты – с утра до вечера, будто ей вновь четырнадцать лет.
– Я не знал.
– Ты действительно ничего не знал?
Я помолчал.
– Да, – ответил я.
– Она ничего не говорила тебе?
– Напрямую – нет.
– А ты?
– Я?
– Ты ее любил? – Она быстро исправилась: – Любишь ты ее?
– Да, – прошептал я.
– Хорошо.
– Не уверен только, что это поможет.
– Скорее только это и поможет.
– Чему же?
– Всему.
Мы немного помолчали. Просто сидели и обдумывали, и ни один из нас не знал, правда это или просто принято говорить, что любовь может помочь. НН дышала ровно, а стрелки на часах плавно, секунда за секундой, двигались вперед. Я думал о Вселенной, что если я прямо сейчас отправлюсь со скоростью света в центр Млечного Пути, например, то доберусь туда за двадцать один год, а НН придется лежать тут и дожидаться меня 30 000 лет.
Но так быстро никто не летает.
В плохом настроении я часто про такое думал.
Благодаря Эйнштейну слишком далеко мы друг от друга не убежим.
В палату зашла медсестра, кивнула нам и начала снимать показания: нажала на кнопку, повернула рычажок, сделала отметку в журнале и опять ушла.
Мать НН посмотрела на настенные часы и сверилась с наручными:
– Мне, пожалуй, пора.
И тут меня осенило. Если не сейчас, то, возможно, я никогда этого не узнаю.
– Можно вас кое о чем спросить?
– Ну конечно.
– Как ее зовут?
Она посмотрела на меня так, словно не поняла вопроса:
– Ты не знаешь ее имени? Как это? Она разве не говорила, как ее зовут?
– Никто на Фабрике не знает, – ответил я, – кроме Хавстейна. Может, только он и знает. Наверное, она из-за автобусов не хотела, чтобы люди знали ее имя. Поэтому мы называли ее НН.
– No Name?
– Да.
Она посмотрела на лежащую в кровати дочь. Хорошо бы за окном пролетела птица или лицо НН озарилось слабой улыбкой. Это бы так много значило для нас. Но ничего не произошло.
– София. Ее зовут София.
Поднявшись, ее мать сняла с крючка куртку, оделась, застегнулась и опять повернулась ко мне:
– Ты как думаешь, она поправится?
Я задумался. Я понимал, что ей хочется услышать. Но мой ответ был другим.
– Нет, – сказал я.
Я старался навещать Софию как можно чаще, несколько раз в неделю, но никогда больше не встречался с ее матерью. Может, она больше не приходила, а может, просто бывала в другое время и в другие дни. Наши пути больше не пересекались, и когда я заходил в палату, ее присутствия там не ощущалось.
После трагедии лес у въезда на Хвитансвегур словно изменился. Сколько мы ни сажали, он становился все меньше и меньше, и в конце концов от него осталась только нелепая кучка деревьев, у которых никто не останавливался. Теперь работали мы всего два дня в неделю, и то если нам звонили из регионального управления, поэтому я сидел на Фабрике и ждал звонка. Иногда я помогал Палли, разгружал корабли, носил ящики с рыбой, водители подбрасывали меня до Торсхавна, а оттуда я добирался на автобусе домой.
Еще я читал.
«Путеводитель Филдинга по островам Карибского бассейна и Багамам».
790 страниц и ни единой фотографии.
Бесчисленные заметки, сделанные Хавстейном, подчеркнутые строки и вложенные листочки.
Понимал ли он, что почти все сведения уже устарели?
Понимал ли он, что Монтсеррат еще в девяностых был полностью разрушен при извержении вулкана?
Что на Гаити больше не правит Док-младший? [86]86
«Док-младший» или «бейби-Док» – Жан-Клод Дювалье-младший (р. 1951), президент Гаити с 1971 по 1986 гг.
[Закрыть]
А может, это не имело для него никакого значения?
Совершенно никакого.
После того, как София ушла, на Фабрике воцарилась удивительная тишина. Не то чтобы там прежде было как-то особенно шумно, нет. Однако теперь мы двигались медленнее, осторожно ступая по полу, и по лестнице ходили так, чтобы ступеньки не скрипели, словно каждый громкий звук повлечет за собой ужасные последствия. Мы не по иголкам ходили, нет – мы ходили по минному полю, как будто были наряжены в воображаемые саперские костюмы, маски, шлемы и бронированные жилеты. Разговаривали мы неохотно, все наши беседы были в основном о повседневных мелочах: погода, машина, которую надо отвезти в ремонт, короткие фразы о Софии. Никто не предлагал убрать вещи из ее комнаты. Никто не произносил вслух то, о чем все знали и постоянно думали: что бы с ней дальше ни произошло, сюда она больше не вернется. И что бы ни случилось, Фабрика никогда не станет прежней. И хотя никто не говорил об этом, Хавстейна неотступно мучила одна мысль: день, когда ему позвонят из управления и попросят поместить здесь еще одного человека, станет днем больших неприятностей. Здесь больше не место кому-то еще. Различия между домом и лечебным учреждением медленно и незаметно стирались, пока наконец и вовсе не исчезли. От того реабилитационного центра, где Хавстейн по-отцовски за нами присматривал и куда я попал прошлым летом, не осталось почти ничего. Вместо него появился обыкновенный – пусть даже слишком большой – дом, где мы жили на подачки государства, по-прежнему полагающего, что оно поддерживает реабилитационный центр с постоянно меняющимся составом пациентов. Хавстейн теперь часто бывал в Мули, выезжал по утрам, а возвращался вечером, усталый и неразговорчивый. Я опять начал готовить ужин к приходу всех остальных, а Карл обычно помогал мне накрывать на стол, доставал тарелки, приборы, стаканы и воду, а потом приходили остальные, садились за стол, пили и ели.

Дни бежали, словно ничего не произошло, и так продолжалось до середины июня, когда я отправился на пустошь у Хвитанесвегура и начал подготавливать почву к посадке деревьев, я рылся в сырой земле, а солнце обжигало мне спину. Херлуф с Йоугваном уехали в управление договариваться об отпуске, который они собирались взять через месяц. В отличие от меня, они работали полный рабочий день, занятия у них могли быть разные – сажать деревья, ремонтировать дороги и выполнять разные другие поручения. В тот вечер я был на пустоши один, и одиночество мое нарушал лишь ровный гул машин, проезжающих по трассе, да пара овец, топчущихся в поисках травы повкуснее. Во время работы Херлуф с Йоугваном часто уезжали по делам, поэтому я привык работать подолгу один и радовался, когда они говорили, что им надо съездить в центр, – тогда я мог работать, не подстраиваясь ни под кого, полностью сосредоточившись на деле, так что видел только свои руки и пальцы, погружающиеся в почву. Маленький клочок земли передо мной с каждой секундой менялся, а окружавший меня пейзаж превращался в неясную декорацию на заднем плане. Даже звуки сливались в монотонное жужжание машин, пение или крики птиц и шум ветра или дождя.
Вдруг ровный гул резко прервался, и, наверное, поэтому я явственно услышал, что позади меня, на повороте, остановилась машина. Обычно здесь никто не останавливался. Со щелчком открылась дверца. Крышка багажника. У меня под руками влажная земля. Я даже не успел повернуться, но уже понял, кто это.
Ведь я же знал, что рано или поздно он приедет.
Развернувшись, я увидел, что по склону ко мне с огромным чемоданом спускается отец. Такси развернулось и уехало. Он шел ко мне по полю, осторожно огибая наполненные дождевой водой лунки и прижимая к себе чемодан, как единственную вещь, напоминавшую ему о доме и оттого надежную.
Господи, как же отец ненавидел путешествия.
Именно в тот момент, поймав его обеспокоенный взгляд и увидев нахмуренный лоб, я проникся любовью. Дорого же ему это обошлось – сесть на самолет, прилететь сюда, позвонить Хавстейну, чтобы узнать, где я сейчас нахожусь, договориться с водителем и приехать на это место! А мысли о том, что он выйдет из машины, а меня здесь не окажется!
Выпрямившись, я смотрел на него. На руках у меня были садовые рукавицы. Навстречу я не пошел. Да и не нужно было: отец ровно и спокойно шагал по пустоши, энергично переставляя ноги и озираясь по сторонам.
Мне кажется, он улыбался.
Я почти уверен.
И когда он приблизился и поставил чемодан на траву, я обнял его. Просто молча и крепко обнял. В тот момент я вспомнил о Софии, которая спит и ни о чем не думает, о Йорне, которого не слышал уже почти год, о Хелле, которая неизвестно где находится и неизвестно с кем проводит свои ночи, обо всех людях, от которых я прятался на протяжении нескольких лет.
Передо мной стоял отец.
– Ты все-таки приехал, – сказал я.
– Естественно, приехал. Я же собирался приехать, рано или поздно.
Мне так много хотелось сказать, но я растерялся.
– Хорошо долетел? – спросил я.
Отец покачал головой:
– Ужасно. Я уж и не думал, что мы приземлимся.
– Обратно можешь доплыть на корабле. До Бергена. Это займет сутки, но поездка очень приятная. Ты ведь корабли любишь больше самолетов.
– Да. Матиас?
– Что?
– А чем все-таки ты тут занимаешься?
– Деревья сажаю, – сказал я, осознавая, что он не об этом спрашивал.
– Почему ты не вернешься домой? Мама ужасно соскучилась.
– А ты?
– И я тоже.
– Может, я вернусь летом, – сказал я.
– Обещаешь? Не скажешь опять, что опоздал на самолет, как в прошлый раз?
– Я действительно опоздал тогда на самолет!
– Угу.
– Я скоро вернусь. Летом самолеты часто летают.
Отцу хотелось, чтобы мы вернулись вместе, через несколько дней, поплыли на корабле, ему хотелось обезопасить себя. Я объяснил, что пока мне еще рано возвращаться, рассказал о том, что София в больнице, о том, что произошло с момента нашего последнего разговора, и обо всем, о чем не написал в открытках.
– Я… мы… Матиас, мы расторгли договор аренды на твою квартиру. Ты же не звонил… – сказал отец извиняющимся голосом, – ты же все равно там больше не живешь, зачем зря платить, правда? А вещи твои перевезли к нам. И машина твоя теперь у нас.
– Все правильно. Я в любом случае собирался съезжать. – Я попытался обратить слова в шутку, но особо смешным это никому из нас не показалось. Я вновь стал серьезным. – Не уверен, что смогу опять поселиться дома. Мне кажется, я уже для этого староват.
– Мы подумали и решили, что, может, ты пока поживешь в летнем домике? А потом подыщешь себе новое жилье.
– В Йерене?
– Да. Я поговорил с соседями, и если захочешь, летом тебе там и работа найдется.
Отец подумал обо всем.
Я же почти ни о чем не думал.
Когда через полчаса вернулись Херлуф с Йоугваном, мы с отцом в отличном настроении сидели, прислонившись к дереву, и щурились на солнце. Я все объяснил Херлуфу, а тот сказал, что это чудесно. Он был добрым и разрешил мне уехать пораньше. Мы с отцом дошли до машины, положили его чемодан в багажник и поехали сначала в Торсхавн, зашли там в супермаркет за едой, а отец купил кое-каких сувениров для мамы, брошюру по вязанию и бело-синюю футболку с надписью «I Love Foroyar» [87]87
«Я люблю Фареры» (англ.).
[Закрыть]и нарисованным козлом. Футболку отец тотчас же надел на себя, мы сели в машину и поехали в Гьогв, на Фабрику, а по дороге я раздумывал, как мне получше описать свою тамошнюю жизнь, рассказать, что все изменилось после того, как мы вытащили из воды Карла, и после трагедии с Софией, объяснить, почему я пока не могу вернуться домой.
Постепенно выяснилось, что мама с отцом знали о моей жизни больше, чем мне казалось, и что объяснять придется не так уж много. Еще год назад, в конце лета, во время первой беседы с моими родителями, Хавстейн рассказал им, что это за место, и убедил, что мне, наверное, будет полезно пожить там какое-то время. Поэтому они не звонили. Больше того – Хавстейн всю осень и весну примерно раз в месяц звонил им сам и рассказывал про мою жизнь. Поэтому я и не чувствовал, что они беспокоятся.
Итак, приезд отца – это что-то вроде родительского собрания.
Мы сидели на пригорке над бухтой – я, он и Хавстейн.
Разговаривали.
Что называется, перетряхивали грязное белье.
– Тебя, Матиас, уязвило, что я разговаривал с твоими родителями, а тебе не сказал? – спросил Хавстейн.
– Да нет, не особенно, – ответил я, – хотя я такого не ожидал, да ладно уж.
– Мне не хотелось, чтобы ты еще и об этом думал, – пояснил Хавстейн.
– Это ты попросил отца приехать?
– Нет, – не без гордости ответил отец, – я сам придумал.
– Ты хорошо придумал.
Порывшись в невидимом руководстве для психиатров, Хавстейн предложил:
– Я, пожалуй, оставлю вас наедине.
– Спасибо, – сказал отец, крепко пожимая Хавстейну руку.
– Quality time, [88]88
Время пообщаться с родными (англ.).
[Закрыть]– сказал я.
Мы остались вдвоем. Отец и сын, сидящие на травке над бухтой, откуда видно Северный полюс, а тем, кто сможет заглянуть на другую сторону, – и Южный тоже.
Никогда не думал, что мы когда-нибудь будем сидеть здесь вот так и я вновь почувствую отцовскую заботу.
– Не хочешь рассказать про Софию? – поинтересовался он.
– Про Софию?
– Насколько я понимаю, она сейчас в больнице. Несчастный случай?
– Да. Она может умереть в любой момент. Давай лучше молча посидим.
– Почему?
– Эффект бабочки, – сказал я. – Бабочка взмахнет крыльями – и погода изменится.
– Ты ведь влюблен в эту девушку, правда? В Софию?
– Отец, не надо. Пойми, мне уже не четырнадцать.
– Нет, конечно нет. Верно. Извини.
Мы немного помолчали. Потом он спросил:
– Матиас, что же с тобой на самом деле произошло?
Странно было услышать от него эти слова. Что со мной произошло.Я забеспокоился. Почувствовал, что сердце начало биться быстрее. Испугался, что он это заметит.
– А знаешь, ведь уровень воды в море постоянно растет. На один сантиметр в год. Это чистая правда. А ежегодный подъем почвы составляет в среднем всего четыре миллиметра в год. Не больше. Тебя это не пугает?
– Матиас…
– А Исландия находится на стыке двух материковых плит. И поэтому там высокая вулканическая активность. Страна может расколоться надвое в любой момент. Ты об этом никогда не задумывался?
– Матиас, что с тобой случилось? Зачем ты об этом рассказываешь?
И тогда я сказал:
– По-моему, во мне что-то сломалось.
– Из-за Хелле?
Я пожал плечами:
– Не только. Из-за всего, наверное. Слишком многое произошло. Карстену пришлось закрыть цветочный магазин, потом Хелле ушла, а Йорн пригласил меня поехать сюда, ему хотелось, чтобы я пел в их группе. Ты, кстати, знал, что больницы начали закупать цветы в основном в супермаркетах? Вот, теперь знай. Все не так просто. – Посмотрев на отца, я добавил. – Я опять становился заметным, разве не ясно? Как раз когда почти смог стать невидимым. Но сейчас мне уже лучше. Спасибо за заботу.
На лице у отца отразилось замешательство. Он потер затылок и тяжело вздохнул:
– Матиас, пойми, невозможно жить, не оставляя следов. Для кого-то ты никогда не станешь невидимкой. Кто-нибудь будет помнить о тебе всегда. И всегда найдутся те, кто тебя любит. Почти всегда. Вот так-то оно.
– Я не об этом. Не то чтобы я хотел жить, не оставляя следов. Просто пусть их будет поменьше. Не хочу оставлять отпечатков рук на цементе. Не нужны мне эти интервью. Неужели это совсем невозможно? Что, если кому-то не хочется высовываться? Не всем же быть первыми! Кому-то хочется быть вторым.
– Но почему именно тебе?
– Потому что все в мире устроено именно так, а не иначе.
Покачав головой, отец взял меня за руку.
– Ты слышал об Ольге Омельченко? – спросил я, зная, что он не слышал. – Она была полевым врачом в 37-й дежурной дивизии Советского Союза. В 1943 году она спасла одному человеку жизнь. Это была самая крупная битва в том году, но она выжила, а когда закончились бомбардировки, нашла поблизости раненого с покалеченной рукой. Чтобы он выжил, руку ему надо было срочно ампутировать. Но наркоза, скальпеля и ножниц у нее не было. У нее вообще ничего не было, – я помолчал, – поэтому она отгрызла ему руку, отгрызла зубами, а потом перебинтовала. И он выжил и дожил до старости.
– Матиас!
– Так оно и было.
И я рассказал обо всех остальных, кого помнил, о ком узнал еще в детстве. Об Эммануэль де Бове и Нино Рота. О Марии Октябрьской, которая в сорокатрехлетнем возрасте, после того, как ее муж погиб на фронте, купила на все свои сбережения танк и воевала против Германии. О шерпе Тенцинге Норгее, который в 1953 году взобрался на Эверест вместе с сэром Эдмундом Хилари, но о котором почти все забыли. Я рассказал об эксцентричном джазовом музыканте Джеке Первисе, который со своей группой отправился в Европу, но в первый же вечер сбежал от них по крыше парижской гостиницы в одних носках. Потом он выступал вместе с великими – с Колеманом Хокинсом и Хиггинботэмом, а затем уехал в Калифорнию, где работал поваром. По заказу «Уорнер Бразерс» он написал музыку для оркестра в 110 исполнителей, а потом опять вернулся в Нью-Йорк и там выступал по маленьким клубам. Опять исчез, а потом вступил в американскую армию. Позже его посадили в тюрьму за вооруженное ограбление в Эль-Пасо, и его концерты транслировали прямо оттуда. Освободившись, он не сообщил в органы по надзору за освобожденными, и его опять посадили, а вновь освободился он только в 1947-м, когда война уже давно закончилась. Что с ним было дальше – неясно, но предполагают, что он работал летчиком на торговых рейсах. Многие утверждают, будто видели, как человек, внешне похожий на Первиса, сидел на Королевской площади в Гонолулу, играя «Полет шмеля» то на тромбоне, то на трубе. Позже его также видели в Балтиморе, где он работал плотником и поваром на международных кораблях. Не желая быть узнанным, он жил под разными именами. А потом уехал в Сан-Франциско и занялся там починкой радио.
В таком духе я и продолжал – говорил много, вспоминая старые книги, переполненные забытыми биографиями. Чем больше я рассказывал, тем больше вспоминал, и слова лились рекой. Забытые, но все равно волнующие жизни. Я сказал, что Армстронг, Олдрин и Коллинз решили, что на «Аполлоне-11» таблички с их именами не будет, потому что их миссия важнее их самих. Я говорил о тех, кто на Олимпиаде в Лос-Анджелесе в 1984-м занял вторые места, когда Карл Льюис завоевал четыре золотых медали, и о втором человеке в «Майкрософте» после Билла Гейтса. И еще о Пауле фон Хинденбурге, который до смерти устал и, прекратив цепляться за власть, подал в 1933 году в отставку и исчез, провозгласив канцлером своего преемника, который был на сорок два года моложе и которого звали Адольф Гитлер.
– Но почему ты постоянно сдаешься? – спросил отец. – Почему упускаешь все шансы? Почему отказываешься верить, что ты просто можешь нравиться людям, что окружающие тебя любят? Что страшного в том, что ты привлечешь немного внимания? Ты же не станешь от этого мировой знаменитостью. Я просто не понимаю, почему именно ты должен взвалить на себя все грехи человечества и нести наказание за других?
– Ты не понимаешь. Никаких шансов не существует, – сказал я, – я ничего не теряю и не упускаю. Подумай о тех, кто убирает мусор у тебя перед домом. О машинистах поездов, на которых ездишь. О киномеханике, который стоит в кинобудке и следит за порядком, когда вы с мамой смотрите кино. О водителях «скорой помощи». Об уборщице в гостинице, которая прибирается после твоего отъезда. Ты не видишь их. Ты незнаком с ними. Но ты же ценишь их работу, правда? Они заботятся о тебе. Может, именно это мне и нужно. Заботиться о ком-то. Я просто хочу стараться.
Отец вздохнул:
– Я понимаю, но…
– Моя работа – она же важна, разве нет?
– Да, но…
– Я ведь тоже способствую росту валового национального продукта, так? И занятие у меня такое же важное, как и у других. Я просто-напросто не хочу, чтобы вокруг него было много шума. Я хочу, чтобы меня оставили в покое. Тебе не нравится сознавать, что ты – один из многих винтиков в огромной машине и что твоя работа тоже важна, хотя никто ее не замечает?
– Но ты не в японской корпорации работаешь. Матиас, ты не машина.
– Нет. Я не машина. Знаешь, чего я больше всего боюсь?
– И чего же?
– Что я выйду из строя. Фильм недели по каналу, который закрыли. Что я сломаюсь и ничего не смогу делать. Вот этого я до смерти боюсь, – прошептал я.
Я видел, что отец расстроен. Придвинувшись ближе, он положил руку мне на плечо.
– Ты никогда не выйдешь из строя, – сказал он, подчеркивая каждое слово, – у меня нет ничего дороже тебя. Ты – самая большая ценность в моей жизни. Ты и мама. Но тебе просто надо немного отдохнуть. Просто немного успокойся, и все наладится.
И я поверил ему.
– Дело в том, что все это слишком далеко зашло, – продолжал отец, – в последние годы ты все больше и больше перегружал себя, разве ты сам не заметил? И под конец тебе стало совсем невыносимо. А сейчас – разве ты не видишь, ведь некоторые мечтают о том, чтобы быть рядом с тобой. София, например. Неужели ты этого не понимаешь?
Я ничего не ответил. Стиснул зубы. Запер рот на замок.
– Просто винтик твой надо починить, Матиас, только и всего. Ты просто опять заболел, и ничего страшного в этом нет, все наладится. Насколько я понял, ты здесь в надежных руках и…
– Опять?Ты о чем это? – перебил я. – Что значит – опять заболел?
Вот оно как, оказывается. Сделанное отцом признание. Словно снежная лавина. Должно быть, я всегда это осознавал, только позабыл с возрастом, намеренно или случайно вытеснив это событие из памяти, будто положив его в коробку и заклеив коричневым скотчем. Произошло это в 83-м. Мне было четырнадцать. Однажды, вернувшись с работы, мама с отцом обнаружили, что дверь в мою комнату заперта. Я отказывался выходить. Как они ни пытались – я не выходил. Им было слышно, что я заставил дверь и окна мебелью. Неделю я не ел. Выползал только по ночам, в ванную, убедившись, что они спят. Потом ко мне пришел какой-то человек, поставив под дверью стул, он разговаривал со мной, и я слышал его незнакомый голос. Он спрашивал, как я себя чувствую. Я не отвечал. Сдался я, лишь когда он просидел там почти два дня. Я отодвинул от двери стол и впустил его в комнату. Это был врач, которого нашла мама. О чем мы говорили, я не помню. Помню только, что не хотел больше выходить из комнаты. Тем не менее я вышел. Или не вышел. Меня вытащили. Я кричал. Я ругался, но они вытащили меня оттуда, а потом я сидел скрючившись в машине, чтобы меня никто не видел.