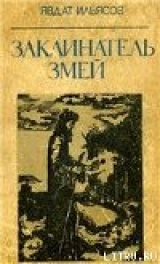
Текст книги "Заклинатель змей"
Автор книги: Явдат Ильясов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 21 страниц)
– Виноватых много, – тихо сказал визирь. – Но прежде всего – календарь.
– Календарь? – Удивлен Меликшах! Вот уж не думал новый султан, что благополучие огромной страны может зависить от каких-то ничтожных бумажек. Но, хвала всевышнему, он, в отличие от своих предшественников, если и не ахти как учен, то хоть грамотен. Что само по себе уже немало. Для тех, кто сидит на троне. И ему захотелось узнать:– Почему?
– Вот, государь, – визирь положил на книгу ладонь, – «Кудатгу-билиг», сочинение Юсуфа Хас-хаджиба Баласагунского. Он пишет о земледельцах: "Они – нужные люди, это ясно. С ними ты общайся и хорошо обходись. Пользу от них видит всякий".
Просвещенному правителю, о государь, должно быть известно: жизнь траве, хлебному злаку – и, значит, скоту, дает, по милости божьей, не луна, а солнце. И крестьяне Ирана и Турана издревле привыкли рассчитывать полевые работы по старому, давно проверенному, солнечному календарю. Ибо каждое растение знает свое время, – и пахарь должен знать время каждого растения. Ячмень не заставишь зеленеть в стужу, вишня цветет по весне, а сорго созревает лишь осенью.
Однако теперь, – продолжал визирь, – календарь у нас лунный, чужой, который сюда занесли мусульмане. Я не спорю, – может, он весьма удобен в горячих песках, где живут племена кочевых бедуинов, – он хорошо приспособлен к их сонному быту. Но у нас, в стране земледельцев, где, как говорится, летний день год кормит, видит бог, непригоден лунный календарь. Ибо лунный год не совпадает с истинным, солнечным. Он гораздо короче. Между ними разница в одиннадцать с чем-то дней. Повелитель может представить, какой разрыв нарастает в календаре за долгие годы! Отсюда и раздоры при сборе податей: урожай-то еще на корню, скот далеко от хлебных полей, а по новому календарю уже пора взимать налоги. Не все новое, как видите, полезно…
Султан – весь внимание:
– И что же из этого следует?
Уж теперь-то, кажется, уразумел правитель, что ничтожные листы, составляющие календарь, да и любой клочок исписанной бумаги, способны отразить, как медные щиты – ночной небосвод с луной и звездами, весь сложный век с его победами и поражениями, несчастьем ошибок и заблуждений, успехами, неудачами, невероятной смесью правильных и ложных представлений. Отразить и даже – преобразить.
– Нужен другой календарь. Подлинно новый. Потому что и в солнечный, старый, всякий, кто мог из царей, вносил ералаш, то запрещая, то отменяя високосы. Короче, следует год вернуть на место. Лишь тогда в стране наступит мир. Не будет восстаний. Будет прибыль и земледельцу, и царскому дому, и войску.
– Да, войско надо кормить, – вздохнул Меликшах озабоченно. – А кормить нечем. Что станет с нашими владениями далеко на восходе и на закате? Новый календарь. Кто в силах оный создать?
– Астрономы, ученые люди.
– Где они? Я их что-то не вижу в нашей стране.
– Были! Но ваш покойный родитель, да освятит аллах его могилу…
Царь – строго:
– То совершалось ради истинной веры.
Визирь – смиренно:
– Кто знает ее, кроме бога? У людей: что вчера считалось ложью, нынче правда, что сегодня правда, то завтра – ложь. Ежели государь дозволит, я расскажу старую притчу. Она поучительна. Можно? Так вот, некий весьма благочестивый шах решил истребить всех смутьянов, дабы они не сбивали с толку правоверный народ.
– Всех?
– До одного.
– Хорошо сделал.
– Послушные слуги шаха разбрелись по стране, хватали смутьянов и тут же рубили им голову. Шах доволен: уж теперь-то в его державе наступит век благоденствия! Он торопил уставших слуг и наказывал нерадивых. И вот однажды они, заляпанные кровью, донесли: "Повеление ваше исполнено, о государь!" – "Хорошо! – воскликнул шах. – Я награжу вас за верную службу. Но где же народ, почему я не слышу ликующих кликов?" – "Некому ликовать, государь. У нас больше нет народа". – "То есть как?" – "Все обезглавлены"…
– Хм. Злая притча! Но это… похоже на нас?
– Тем хуже для нас! Где это видано, государь, чтобы тридцать-сорок или все пятьдесят миллионов людей, живующих в огромной стране, – людей разных обычаев и преданий, языков, происхождения, навыков и способностей, – думали все, как один, до мелочей, совершенно одинаково? Это невозможно. Не бывало и никогда не будет. Тогда бы зачем они все? Их бы надо и впрямь истребить и оставить в живых лишь одного законника, который может всех заменить. Ибо он непогрешим. Пусть сидит один, любуется самим собою и радуется своему единомыслию… Нет, повелитель! Сколько людей, столько характеров. Сколько характеров, столько и судеб. Сколько судеб, столько мировоззрений. Лишь бы они не нарушали общих правил поведения. А думать всяк волен, что хочет…
Ученых найдем, государь. Хвала всевышнему, они народ живучий. В Бухаре, я слыхал, служит хакану некий Омар Хайям. Наш, нишапурский. Большого ума человек. И к тому же – блестящий поэт. Не чета Абдаллаху, сыну Бурхани, пустослову (простите), пригретому вами, – подкинул приманку визирь, который сам терпеть не мог ни бойких рифмоплетов, ни всяких суфиев с имамами, считая их дармоедами, но хорошо знал, что новый царь, как и все из рода Сельджукидов, весьма охоч до хвалебных касыд.
– Наш? Поэт? Служит хакану? Почему он оказался в Бухаре, у чужих?
– Но, государь, – да не сочтет его августейшее мнение речь мою за глупую дерзость, – это всякому ясно! Уж коль человек, умный и честный, бежит от своих к чужим, то значит свои – хуже чужих. О повелитель! Верхом на коне можно взять страну, править ею с коня – невозможно. Хватит набегов и грабежей! Власть надо ставить на мудрую основу. Иначе ее – не дай господь! – так легко потерять. Вместе с жизнью. Пусть повелитель вспомнит: его родитель, грозный Алп-Арслан, храбро, как лев, одолев (я, как видите – хе! – тоже поэт) железных румийцев и благополучно, со славой, вернувшись домой, пал, едва перейдя через мутный Джейхун, от случайной стрелы.
– В Исфахан? – встрепенулся Омар. – Строить обсерваторию? О боже! Это… по мне. Низам аль-Мульк… О, мы поймем с ним друг друга!
Хакан – угрюмо:
– Нам самим тут нужны астрономы. Разве мы тоже не заблудились меж двух календарей? – И с горькой обидой:– Высокомерен Меликшах! Заносчив. Нет отправить в качестве посла вельможу, видного человека, – прислал, в насмешку, какого-то голодранца. О небо! До чего мы докатились.
– Да не будет огорчено сердце хакана моими словами, но… об этом надо было думать раньше.
"Такой нигде не приживется, – подумал хакан раздраженно. – Ни в Туране, ни в Иране, ни в Исфахане, ни в Хамадане. Слишком прям. Как линейка, с которой он не расстается. И дерзок. Но ведь я сам, – смутился, вспомнив, хакан, – просил его наедине со мной честно говорить, что он думает обо мне".
– Начинали вы хорошо, государь. Возводили крупные строения. Отражали врагов. Ограждали селян и горожан от притеснений со стороны ваших буйных сородичей. Но, простите за горькую правду, шайка крикливых славословов, угодников, неучей вскружила вам голову: «великий», "солнцеликий", «бесподобный», и вы – не в обиду будь сказано – обленились. И не заметили, как попали под Меликшахову пяту…
Хакан, тяжело сгорбившись над своими толстыми ногами, скрещенными на ковре, и отрешенно постукивая указательным пальцем правой руки по кривому носку левого сапога, уныло глядел из-под завернутой полы шатра на летний стан. Человек уже немолодой, суровый, с лицом, дочерна обветренным в степях, он, к удивлению Омара, сегодня по-юношески тих, задумчив, печален.
Невдалеке, за песчаной ложбиной, поросшей верблюжьей колючкой, тянулся пологий холм с остатками старых башен и стен. Варахша – так называлась эта местность.
– У Меликшаха, – глухо сказал Шамс аль-Мульк, – хороший визирь. Человек государственного ума. А мои угодники… терзают страну, губят меня! Меликшах недолго будет довольствоваться данью. Он придет и разграбит державу. Семиреченский Тогрул Карахан Юсуф отобрал у меня Фергану. Еще дальше, в Туркестане, появились какие-то каракитаи.[8]8
Туркестаном в ту пору называли Кашгар, Алтай и Монголию
[Закрыть] О боже! Что будет с нами? Я чую, грядут неисчислимые беды… – Он повернулся к Омару, схватил его за ворот, крикнул с тюркской горячей яростью:– Оставайся! Будешь при мне визирем. Как твой земляк – при Меликшахе. Разве ты не сможешь?
– Я? – Омар осторожно оторвал от себя его толстую руку, отвел ее в сторону. – Опыта нет, но, оглядевшись, смог бы, пожалуй. Смог бы… если б захотел. Но я, – не гневайтесь, государь, – не хочу.
– Это почему же?
– Ну, не… по душе. Я математик. И поэт. Каждый должен служить своему призванию. Только ему. И только так, как он умеет, – он, и никто другой.
– "Хочу, не хочу!" Привередлив. Надо жить не так, как хочешь…
– А как?
– Как велит аллах!
– Я и живу, как велит аллах! – вспыхнул ученый. – Разве грех – быть самим собою, то есть таким, каким тебя сотворил господь? Сказано: все в руках божьих. Или вы против божьих предначертаний?
Что мог возразить на это степняк, не искушенный в тонких словопрениях? Он согнулся еще ниже, с досадой сбросил тяжелую, скрученную в жгут чалму, будто это она придавила его к земле, – и с мучительным вздохом встряхнул головой.
– Оставайся, а? – сказал он тихо, с мольбою в голосе, как брату, не поднимая глаз, чтоб, не дай бог, не смутить, не обидеть Омара Хайяма. – Разогнал бы всех дармоедов. Собрал ученых. Построил обсерваторию. Взял бы себе в икту любой город с округой – хоть Самарканд, хоть Hyp, хоть Несеф. Лучше всего бы – Термез, но теперь он у Меликшаха. Ведь это десятки тысяч золотых динаров…
По медной щеке хакана скатилась слеза. Не понять, о чем он горюет: о том, что эти десятки тысяч не достались Омару или о том, что ускользнули из его, хакановых рук. Омар испугался: вот-вот правитель расплачется в голос, навзрыд, это могут увидеть телохранители. Нехорошо. Цари не плачут. Не должны плакать.
– Успокойтесь! Я… подумаю.
– Подумай! – вскинулся хакан.
– Но что скажет султан, если я останусь?
– Э! – Хакан махнул рукой. – Отпишем ему, что ты уже был назначен визирем. Визиря-то он не посмеет забрать у меня?
– Не знаю. Посмотрим. Я поброжу, подумаю. Мне надо побыть одному.
– Ступай… безбожник, – усмехнулся хакан. О аллах! Почему небо дает одним разум, но не дает им веры, других наделяет верой, но обделяет умом? Неужто разум и вера несовместимы? А может, разум и есть знак высшего божьего благоволения? Как же так, ведь пророк…
Тут от бога он перешел в своих мыслях к служителям божьим, к духовенству. Нет! Хакан боязливо оглянулся, торопливо подцепил рукой и надел чалму. Как бы прикрываясь ею от меча, незримо занесенного над его головой.
Не нужно никаких затей. Только считается, что царь всем и всему в стране господин. Если хотите знать, он тоже раб. Раб жестоких обычаев, страшного времени. Раб жадных священнослужителей, всех этих шейхов, ишанов. И послушных им эмиров, беков, знатных земледельцев. Попробуй их задеть! Сметут. Даже собственному скоту-телохранителю – и тому угождай. А то зарежет, обозлившись.
Омар – он может жить как хочет. Ему-то нечего терять. А Хакану – есть. Пусть все будет как было. Пусть в Европе, где некуда ногу поставить, мудрят над числами и звездами. У нас много земли и воды, много хлеба, нам не нужно спешить. Что касается грядущих бед, аллах оборонит нас от них. Или чет? Хотя…
Запутавшись в сомнениях, правитель велел слуге подать вина и позвать Лейлу, его любимую арабскую плясунью. Забавно глядеть, как, танцуя, она призывно трясет животом и бедрами. Это пока что нам еще доступно.
И радуйтесь, государь, тому, что у вас есть. Никаких новшеств! Пусть едет Омар. Он опасен. Он здесь не нужен.
Хорошо идти, просто идти куда-то, с удовольствием ощущая свое крепкое тело, легкую поступь, ясную голову. Бродя между шатрами по стану, Омар вспомнил о туркменах, приехавших за ним. Надо взглянуть. Опятьтаки просто так, из любопытства. Он еще ничего не решил, но где-то внутри уже знал: в Исфахан не поедет.
Зачем? В Нишапуре еще не высохла кровь его ученых друзей. И теперь-то, когда Шамс аль-Мульк дозволяет ему столь неслыханную свободу действий?
Загоревшись, он уже видел гигантский секстант, плавно, отрезком радуги, уходящий ввысь, к небу. Он построит, – может, на том холме? – лучшую в мире обсерваторию. И медресе, лучшее в мире, просторное, светлое. Особое, где молодежь будет заниматься точными науками. Нет, святош он в него не пустит! Пусть изощряются в словоблудии в своих темных кельях.
Он призовет к себе умных людей со всего Турана: астрономов, художников, зодчих, врачей. Всех, способных к творчеству. Противно смотреть на города, похожие на мусорную свалку, с их глухими глинобитными оградами, грязными каналами, с безобразной путаницей тупиков, закоулков и пустырей. На дороги с непролазной грязью, на переправы без мостов.
Здесь возникнут иные города и селения.
С детства часто видел во сне Омар исполинское строгое здание, сверху донизу облицованное ярко-синими и белыми изразцами, изображающими ночное небо и звездный мир, – оно, все как есть, блестящее, стройное, отражалось в прозрачной голубой воде огромного мраморного бассейна, за которым, над белой алебастровой решеткой, чернели густые, в зеленых пятнах, кроны прохладных шелковичных деревьев.
Точно мираж, безмолвно вставало оно, то синее звездное здание у голубого бассейна, в красочных снах.
Иные люди – здоровые, сытые, знающие грамоту, люди, свободные духом, будут с песней трудиться в полях и мастерских. Наука – только она! – способна возродить к новой жизни эту многострадальную землю…
– Сто динаров и три фельса! Грох в грох, трах в прах вашу мать. Хорошо тут встречают гостей. Туркмен без мяса – не туркмен! Нас же кормят пустой просяной похлебкой…
Омар нашел приезжих поодаль, с краю стана, в отдельной палатке.
При виде молодого человека в дорогой парчовой одежде сообразили: перед ними – важное лицо, вскочили, согнулись в низком поклоне.
– Кто предводитель?
– Ваш покорный слуга, – неуклюже выступил вперед рослый воин средних лет в полосатом длинном халате. – Что прикажете, господин?
– Э! – воскликнул Омар удивленно. – Я тебя знаю. Туркмен оробел, попятился.
– Я… вы… – бормочет смущенно, – не припомню, чтоб мы… где-нибудь встречались.
– Встречались! Шестнадцать лет назад на Фирузгондской дороге. Ты – Ораз из племени кынык. Ты просил не забыть о тебе, если я стану большим человеком. Вот я стал им! И не забыл о тебе.
– О боже! – У туркмена подкосились ноги. Он повалился на колени, припал головой к Омаровым сапогам. – Смилуйтесь! Не велите казнить. По глупости…
– Встань! Не таким смиренным ты был тогда на Фирузгондской горной дороге, где зарезал нашего Ахмеда.
Ораз тяжело встал и, не поднимая глаз, сокрушенно развел руками.
– Я тот самый ученый, за которым ты приехал, – добил его Омар.
"Пропал! – похолодел Ораз. – Я пропал, уже умер, будь я проклят!"
– Прикажете… собираться в путь?
– Нет еще, – вздохнул Омар.
Голубой Нишапур, Баге-Санг в цвету. Печальный старик Мохамед. Родные. По пути в Исфахан он мог бы проведать их…
– Пойдем со мною, пройдемся, – тихо сказал Омар. Ораз несмело тащился подле, боязливо поглядывая сбоку, не узнавая его – и уже узнавая.
"Пожалел на свою голову. Прибил бы тогда на Фирузгондской дороге, и не было б нынче хлопот, давно все забылось. Теперь житья не даст".
– Ну, что в Хорасане?
– Все то же. Богатые богатеют, бедные пуще беднеют.
Эх, тоска! Она, давно уже было заглохшая, взметнулась в клубах черного дыма, как из еле тлеющего уголька вдруг вырывается пламя в костре. Даже сей головорез Ораз показался Омару до слез родным. Потому что внезапно, так грубо и зримо, живой и здоровый, с ясными глазами, крепким голосом, явился к нему прямо из детства.
"Убить по дороге в Исфахан! И сказать султану: заболел и умер. Друзья не выдадут. Или – кто знает? Могут продать".
– Ступай назад. – Омар, далекий, как на другой планете, сунул ему, не глядя, золотой. – Купи барана. Зарежь, зажарь, накорми друзей. И собери их в дорогу. Будьте готовы в любой миг выступить в путь. Поеду я с вами, не поеду – тебе тут незачем торчать.
"Э! Ему не до меня. У него своих забот сверх головы. Не станет мстить? Ладно, там будет видно".
***
По еле заметному, в кустах и песке, руслу древнего канала Омар вышел к холму, влез на обломок стены. Тишина. Черепки. Битый кирпич. Золотисто-белесая охра, глубокие синие тени. И вездесущий янтак, верблюжья колючка. Здесь, говорят, находилось летнее жилье бухар-худаков, славных таджикских правителей. Стояли дворцы, красота которых вошла в поговорку. Теперь тут пристанище черепах и змей – людоедов-гулей, если верить россказням, бытующим в окрестностях.
И этот город был уничтожен, как многие другие, свирепыми пришельцами. Ради чего? Ради истинной веры, конечно. Омар подобрал в расселине крупный обломок – косо отбитый верх кувшина с горлом, ручкой и частью корпуса. Стер ладонью пыль с глазури, и луч солнца, отразившись от гладкой блестящей поверхности, ударил ему в глаза.
Он сел на щербатый выступ стены и впал в оцепенение. Будто сквозь мозг и сердце, вместе с горячим ветром, дующим с песчаных равнин, заструилось само безжалостное время, что грозно течет по вселенной, оставляя повсюду груды развалин. Нигде так явственно не ощущаешь его жестокой неумолимости, как в руинах.
Почему-то вспомнилась Рейхан. Захотелось плакать. По себе, по Рейхан, по людям, женщинам и умершим здесь, по их давным-давно отзвучавшему смеху, угасшим глазам и мечтам. По всему человечеству с обломками его несбывшихся надежд…
Кувшин мой, некогда терзался от любви ты:
Тебя, как и меня, пленяли кудри чьи-то,
И ручка, к горлышку протянутая вверх,
Была ее рукой, вкруг плеч твоих обвитой.
…Очнулся он от чьих-то голосов. Кого еще занесло в столь печальное место, кто, кроме Омара Хайяма, может что-то искать в угрюмых развалинах? Он бережно положил обломок в размытую нишу, побрел по откосу из слежавшегося битого кирпича к неплохо сохранившейся башне. Под ногами мелькали ящерицы. С хрустом провалилась глинистая, с солью, корка.
Вот он уже наверху. Вокруг такой простор – хочется голосить во всю мощь! Вдали белеют шатры ханского летнего стана. Справа, внизу, в тени городища, залегло на отдых овечье стадо. У ног, под башней, провал; по ту его сторону, на длинной стене, зачем-то висит яркий ковер, отрезанный по диагонали.
И какой-то человек на корточках сосредоточенно ковыряет палкой в ковре. Еще двое уселись позади, наблюдая за действиями товарища, непонятными Омару.
Что тут происходит?
Омар спустился к ним по сыпучей тропинке и ахнул:
– Что ты делаешь?
***
…Пятьсот с чем-то лет назад, после того, как был построен роскошный дворец бухар-худата, здесь, – именно здесь, но в другую эпоху, и потому-то кажется, что гдето в чужих краях, – художник (его имени уже никто не помнит) нанес на сырую штукатурку последний мазок, бросил кисть, облегченно вздохнул:
– Все! Одолел. В углу, в стороне от царей и цариц, от придворных вельмож, я изобразил себя с цветком в руке. Может, и обо мне кто-нибудь когда-нибудь скажет доброе слово?
Он был высоко одарен, молод, прекрасен.
Стена составляла когда-то часть одного из залов дворца. Роспись на ней, косо засыпанной сверху, слева, обломками смежной стены, с тех пор безнадежно испортилась. В красочных пятнах с трудом угадаешь бегущих слонов и гепардов, женщин, мужчин в богатых одеждах. Изображения лучше всего сохранились справа, в широком месте стены, в устье провала, – и сей молодой человек в рваной рубахе деловито колупает их острым железным наконечником пастушьего посоха.
Он добрался как раз до больших темных глаз юноши в белом тюрбане, – подперев подбородок левой рукой, художник задумчиво, с горькой печалью глядит на желтый Цветок в правой руке…
– Что ты делаешь? – Омар схватил пастуха за шиворот. – Перестань!
– Разве нельзя? – В больших и темных, как на фреске, красивых глазах пастуха – недоумение. – Это осталось от неверных. Пророк запретил изображать людей.
– Ты кто?
– Мусульманин.
– Вижу, что мусульманин! Тюрк, араб?
– Нет. Я из исконных бухарцев. Таджик.
– Ага! И, возможно, твой пращур чертил эти изображения?
– Нет, – тупо ответил пастух. – Я мусульманин.
Экая непоколебимость, стальная вера в свою правоту! При всем-то его невежестве. Жуть. Это и есть фанатизм.
– Но предки твои отдаленные – они-то не были мусульманами?
– Что?! – вскипел пастух. – Как ты смеешь меня оскорблять?
Поди, растолкуй такому, что прежде, чем их обратили в новую веру, бухарцы поплатились за приверженность к старой десятками, сотнями тысяч жизней…
– Ты кто такой, чего ты пристал ко мне? – вскричал пастух.
"И впрямь, чего я пристал к нему? Что мне до того, что было здесь когда-то? Пусть мир загорится со всех четырех сторон. Если ему так угодно".
– Я совершаю богоугодное дело. Разве не так? – обратился молодой пастух к друзьям.
– Истинно так!
– А! Губить сокровище, наследие предков – богоугодное дело? – Омар отобрал у пастуха тяжелый посох и перетянул его поперек спины. – Приглядись получше, дурак, – ты исковеркал свое лицо!
Пастух взглянул, оторопел – и взвыл со страху: на фреске был изображен не кто иной, как он сам…
– Беги в ханский стан за стражей, – шепнул один чабан другому. – Это неверный, муг, злодей.
Эх! Как трудно с такими. Хашишу, что ли, они накурились?
– Я джинн, гуль-людоед! – заулюлюкал Омар, обернувшись. – Сейчас я вырасту выше этой башни – и проглочу вас живьем! – И, слепой от ярости, не зная, как выразить гнев, клокотавший в нем, всю досаду свою, возмущение, он громогласно мяукнул – раздирающе-хрипло, с воплем и визгом, как дикий барханный кот: – Мя-я-яу!!
Их будто смерч подхватил! Все трое вмиг очутились за тридцать шагов от него, на пути к бархану, громоздившемуся неподалеку. Робко, дрожа, обернулись.
– Мя-я-яу!!
О аллах! Они уже на вершине бархана. Уже за барханом. Лишь один, самый храбрый, выглянул, укрывшись за кустом, – и разом исчез, растворился в пустыне, подхлеснутый свирепым:
– Мя-я-я-яу!!!
Ну, что за люди! Не знаешь, смеяться или плакать. Тьфу! Омар бросил посох, потащился к стану. "Они и мне глаза отколупают…"
Из ханского шатра до него донеслось пронзительное верещание зурны. Опять развлекаемся? Да-а. Может, не зря даже в среде кочевых отсталых народностей светлых тюркских степей племя Ягма, из которого вышли ханы-караханиды, считается самым темным? Что ж. Развлекайтесь.
Он поплелся к Оразу. За ханским шатром Омар увидел давешних пастухов. Они лихорадочно что-то втолковывали недоверчиво усмехавшемуся воину.
– Мя-яу! – дико рявкнул Омар.
Все трое, дружно закатив глаза, рухнули без чувств. Будто их пробило одной стрелой.
Придя к Оразу, усталый поэт присел у входа в палатку. Его печальный взгляд, бесцельно, как блуждающий луч, скользя вокруг, набрел на отвернутый угол: знакомые с детства четыре зубчатых листа, вышитые зеленым шелком. Цеховой герб его отца Ибрахима…
– Снимайтесь! Едем, – сказал он туркменам.
– Эй! – окликнул их Омар. Он надумал просить у них прощение за свою дурную шутку. Но, завидев зеленоглазое чудище, пастухи, молитвенно воздев трясущиеся руки, повалились на колени.
***
– Юродивые? – предположил Ораз.
– Правоверные, – уточнил Омар.
Он сытно кормил туркмен в дороге, на стоянках – проникновенно, по-доброму, не кичась высокой ученостью, говорил о земле, о народах, живущих на ней, о планетах и звездах, свойствах вещей, – словом, был своим средь своих, – и у Ораза, заметно пробившись сквозь камень настороженности, расцвел на зеленом стебельке доверия алый мак уважения.
– Великий аллах! Он удержал руку мою. Какую светлую голову я погубил бы, если б тогда тронул тебя! Жутко подумать, сто динаров и три фельса…
– Спасибо. Но… сколько таких светлых голов ты всетаки… тронул?
– Увы мне! Теперь понимаю: напрасно. Султану хорошо. А я, как был голодный и рваный, и нынче такой. Гоняют туда-сюда, кому не лень. Брат мой младший пал в бою. Чем виноват был мой брат? Он умер в девятнадцать лет…
Джейхун. Решив позабавить спутников, Омар окинул сверкающий водный простор мутным взглядом, втянул голову в плечи.
– Не сяду в лодку.
– Боишься? – удивился Ораз. – Вот тебе на! Двадцать тысяч человек каждый год переправляются здесь, и никто не тонет. Садись.
На реке туркмены, хитро переглядываясь, принялись подтрунивать над поэтом:
– Верно, что для утопающего и соломинка – бревно?
– Да. Если утопающий – клоп.
– У одного человека дочь упала в бурный поток. Он ей кричит: "Не трогайся с места, пока я не найду когонибудь, кто сумеет вытащить тебя!"
Благополучно пристали к другому берегу.
Туркмены:
– Неужто и вправду струсил? Эх, грамотей! Выходит, ты не из храбрых, хоть и учен, а?
"И далась же всем моя ученость! Не преминут ею попрекнуть. А еще – ученый. А еще – поэт… Нет, спасибо сказать! Разве мало человеку, такому же, как все – с двумя руками, с двумя ногами, с двумя дырками в носу, одной учености? Золотые рога, что ли, вдобавок к ней я должен носить на лбу, как сказочный олень? Я-то хоть учен…"
– Утонуть не страшно, – ответил Омар невозмутимо. – Страшно, что скажут потомки: "Такой-то бродяга-поэт, вольнодумец, в таком-то году утонул в Джейхуне". Позор!
– Отчего же?
– Поэту больше к лицу захлебнуться вином в кабаке, чем водою в реке.
Покатились туркмены со смеху. Лишь Оразу это не понравилось. Он отвел Омара в сторону:
– Не оговаривай себя! – сказал сердито. – Людей не знаешь? Ты брякнешь что-то в шутку, они подхватят всерьез, разнесут по белу свету – и до потомков, будь уверен, донесут.
– Э! – Омар беспечно махнул рукой. – Поэт не может жить с оглядкой на злопыхателей. Потому-то он и поэт, что живет согласно своему уму и сердцу своему.
– Пожалеешь когда-нибудь, что, не подумав, бросался словами.
– Посмотрим…
Ну, все равно – шутка не пропала даром. Омар после нее лучше узнал новых приятелей. Они раскрылись, как яркие цветы чертополоха под жарким солнцем. И оказалось, когда им никто не угрожает, никто не велит бить, хватать, ломать, туркмены – народ веселый, добрый, верный в дружбе. Давно б, наверное, мир наступил на земле, если б человека не принуждали делать то, чего он не хочет делать.
Всю дорогу – шутки, смех. Лишь в сыпучих песках между Джейхуном и Мургобом наш Омар затих.
– Ты чего озираешься? – спросил Ораз. – Бледный, хмурый. Что-нибудь потерял в здешних местах?
– Да, – вздохнул Омар. – Тебе не доводилось видеть дикой женщины – нас-нас?
– Нет. Слыхать о ней – слыхал, но, по-моему, люди врут о дивных пустынных девах.
– Не врут. Они есть! Я встретил одну – вот здесь, на бархане.
Он въехал на бугор, слез с лошади. Пожалуй, не тот бархан. Песок ведь тоже бродит по пустыне. Занге-Сахро! Где ты? Отзовись. Нет, никогда он больше не увидит ее. У каждого есть своя несбыточная Занге-Сахро…
– И бог с ней! Нельзя жить одной химерой. В Мерве запаслись вином, пуще развеселились. Омар, ликуя, горланил языческий гимн из "Авесты":
Идет на озеро Вурукарта
В образе белого коня,
Прекрасного, златоухого,
С золотой уздою.
За горой – Нишапур. Он скоро увидит родных. И наконец-то сможет им помочь. Затем – Исфахан. Работа по душе. В Исфахане он совершит все то, что не сумел совершить в Бухаре.
…В древнем гимне еще говорится, что навстречу доброй звезде, несущей дождь, "выбегает злой дух Апоша, суховей в образе тощей черной лошади, вступают они в сражение".
Но Омар, чтоб не смущать своих правоверных спутников, пропустил мрачный стих. Они, правда, знают лишь разговорный персидский, и то так себе, – язык старинного писания им не понять. Ну, пусть. Себя побережем. Зачем портить радостный день, поминать нехорошее, когда на душе спокойно и светло?
Запевает хвалебную песнь:
Благо, ручьи и деревья,
Благо тебе, страна!
Влага каналов твоих
Пусть течет без помех
К посевам с крупным зерном.
Но злой дух Апоша, «лысый, с лысыми ушами, лысой шеей, драным хвостом, безобразием пугающей», все-таки вышел ему навстречу…
***
– Отец? – скрипуче переспросил незнакомый старик. – Чей отец? Ах, твой! Ты хочешь узнать, где он? Зачем, несчастный? У тебя больше нет отца…
"Умер?" – С болезненным шипением, как воздух из туго надутого меха, напоровшегося в реке, на переправе, на острый камень, из сердца Омара в несколько мгновений утекла молодая радость, и он, опустошенный, уныло сник перед старцем.
Весь в клочьях седых, неимоверно грязных волос, в серых отрепьях, старец тихо сидел у входа в мастерскую на драной циновке и глядел куда-то вдаль пустыми глазами. Кто такой, почему он здесь? Не Мохамед ли из Баге-Санга?
Омар, холодея, склонился к нему, чтоб лучше разглядеть – и отшатнулся с омерзением: в нос ударил запах тления. Не Мохамед. Старый пьянчуга был чистоплотен, как юноша. Неужели родители, сами перебиваясь с черствого хлеба на воду, приютили кого-то с улицы?
"Пройду в мастерскую, там все узнаю".
– Омар!
Угрюмая старуха кинулась ему на шею. Чтобы обнять, конечно, а не задушить, как сперва показалось Омару. Он с трудом узнал в ней мать. Вот что с нею стало! Всего за каких-то четыре года. День нищеты равен трем дням благополучия. Ну, тут началось. Крики, слезы, причитания…
– Что с отцом?
– Как? Разве ты не поздоровался с ним? Вот же он. – Мать брезгливо кивнула на вонючего старика, безучастно сидевшего на земле. – Теперь он суфий-аскет…
Обмер Омар.
Ибрахим, усохший втрое против прежнего, завыл, раскачиваясь:
– О аллах! Я изучил шариат и на одну ступень приблизился к богу. И перешел на вторую ступень – тарикат, отказавшись от воли своей и сделавшись в руках вероучителя, как труп в руках обмывателя мертвых. Ныне я прохожу марифат, третью ступень, я близок к познанию высшей истины, я ею уже просветлен!
"Насквозь", – подумал с горечью Омар.
– Я уже по ту сторону добра и зла! Кроме лика твоего, о боже, ничего не желаю видеть. Фана фи-лла!!! Я прозреваю хакикат, четвертую ступень. Все земное во мне угасает, я сливаюсь с богом, погружаюсь в светлую вечность!
Он стих, закрыл глаза, и впрямь погрузившись в нечто туманное, зыбкое, оглушающе-пустое, что, видно, и представлялось ему блаженной вечностью. Уснул? Нет, фанатизм многословен. Его ничем не унять. Разве что смертью. Ибрахим кричит, не открывая глаз и резко дергаясь:
– У меня нет помысла в душе! Я говорю, но у меня нет речи! Я вижу, но у меня нет зрения! Я слышу, но у меня нет слуха! Я ем, но у меня нет вкуса! Ни движения нет у меня, ни покоя, ни радости, ни печали. Только бог… Только бог!!!
– Отец! Что с тобою сделали, отец… – Омар, заливаясь слезами, легко, как давно иссохшую корягу, взял старика с земли и, терпеливо снося исходящий от него тошнотворный дух, принялся целовать желтое личико, маленькое, костлявое, как у покойника. – Я сейчас на руках снесу тебя в баню! Ты сразу оживешь. Принеси чистую одежду, – кивнул он матери.








