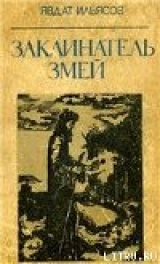
Текст книги "Заклинатель змей"
Автор книги: Явдат Ильясов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 21 страниц)
Пьяный Звездочет
Хоть я и пьяница, о муфтий городской,
Степенен все же я в сравнении с тобой:
Ты кровь людей сосешь, я – лоз,
Кто из двоих греховней?
А ну, скажи, не покривив душой?
– Зачем тебе, отступнику, молельный коврик?
– Ну, как же! Это – ценность. Хорошо заложить в кабаке. (Чей-то приглушенный смех.) О! – Дерзкий странник провел ладонью по своей кисейной, похожей на снег в морозных блестках, новой чалме. – Прощайте, я пойду. Холодно? Пусть. Отогреюсь в солнечной Мекке.
– Если в пути не околеешь, безродный.
– Э! Будь что будет.
Страшнее жизни что мне приготовил рок?
Я душу получил на подержанье только
И возвращу ее, когда наступит срок.
… Стужа, белая косматая старуха, вползает в жилища, влезает в постели и колыбели. На обледенелых звонких дорогах насмерть стынут усталые путники. Те, кому посчастливилось уцелеть, бредут, скрежеща зубами, к рибату – странноприимному дому.
Низкое, узкое, длинное, как скотский загон, помещение с редким рядом кривых столбов, подпирающих черный потолок. Меж столбов – костры, у костров – народ. Поскольку рибат воздвигнут на средства благотворителей и потому бесплатен, ясно, какой народ прибило сюда. В заскорузлых руках – куски сухих ячменных лепешек. Люди грызут их с тупо-сосредоточенным видом, запивая чуть подогретой водой. Постой-то в рибате, слава аллаху, бесплатный, но горячей похлебки, жаль, без денег и здесь не получишь.
Ее, жирную, острую, пряно-пахучую, только что ели путники видные, сыто-солидные, которых загнал сюда небывалый мороз. Не по себе им тут. Как стаду коз, угодивших в ущелье, облюбованное волчьей стаей. Женщина в черной сверкающей шубе, закрыв лицо чадрой до самых глаз, отчужденно смотрит в огонь. Судя по ярким глазам, она молода и, быть может, даже хороша собою. Хмурится рядом с нею упитанный мужчина средних лет с холеным белым лицом и ладно подстриженной бородкой, окрашенной хною. И горбится, весь в густых булгарских мехах, некий важный имам, священнослужитель.
– Дурачье из Мерва, паломники, – осуждающе кивнул благообразный имам на смущенно притихшее мужичье. – В Мекку идут. Да, да, поверьте! Не куда-нибудь, а прямо в Мекку. Но ведь сказал халиф Абу-Бекр: "Богатый правоверный лучше бедного". Кто желает посетить святые места, должен располагать суммой денег, достаточной на дорогу туда и обратно и на пропитание семьи за время его отсутствия. А эти… куда их несет, убогих? Нищий, вздумавший совершить хадж, подобен хворому, который берется за труд здорового.
– Воистину! – с готовностью изрек краснобородый.
И тогда:
– Богатые, бедные, – послышался чей-то скрипучий голос. – Разве мы все – не временные постояльцы в этом мире, старом ничтожном рибате нужды и бедствий?..
***
18 мая 1048 года в мрачной Газне, в позорном плену, тяжко занемог великий мученик-мыслитель Абу-Рейхан Беруни. Он уже знал: дни его сочтены. Но не знал, кто подхватит зажженный им факел высокой учености.
В тот же день, на восходе солнца, в Нишапуре, у палаточника Ибрахима, случилось радостное событие: жена подарила ему сына, которого и нарекли именем кратким и звучньм – Абуль-Фатх Омар.
Поскольку в час его рождения Солнце и Меркурий находились в третьем градусе– Близнецов и земная долгота Меркурия совпадала с долготою Солнца, а Юпитер держался по отношению к ним в тригональной точке, Омару предсказали богатство, много детей, удачливость в делах.
***
…К их костру, не стесняясь, подсел пожилой человек в неимоверно облезлой шубе, с которой никак не вязалась дорогая пышная чалма на его лобастой голове. Изжелта-бледным, изрытым, как строительный камень-ракушечник, было худое лицо с прямым тонким носом. Седая борода растрепалась.
Чадра соскользнула с лика испуганно отодвинувшейся женщины, твердый рот ее округлился брезгливо, но вместе с тем и сострадательно. Оказалось: не так уж она молода, но что и впрямь хороша – это увидел всякий.
Он протянул к огню ладони – узкие, смуглые. Женщина, вновь закрывшись, взглянула на них тайком – и безотчетно тронула грудь…
– Выходит, – сказал он с обидой, – аллах, который сам предопределил нашу бедность, сам же и закрыл нам путь к нему. Что ж! – Его тонкие губы скривились в злой усмешке. – Обойдемся без него. Но обойдется ли он без нас? Без нашей веры, без наших молитв, без наших приношений?
– Несчастный! – вскричал имам оторопело. – Ходишь ли ты в мечеть?
– Забрел на днях, – зевнул скучающе паломник. – Как-то раз мне удалось стянуть молельный коврик. Я и задумал новый достать…
***
Уже в раннем детстве Омар повергал взрослых в остолбенение ясным умом и, можно сказать, совершенно невероятной памятью.
Впрочем, как где-то сказано, изумительная память бывает и у сумасшедших.
Худенький, бледный, лобастый, он часто недомогал, был застенчив и слабосилен, зато обладал необыкновенным тайным упорством, острым воображением и чуткостью. От обиды, особенно незаслуженной, он замыкался наглухо в себе. Но порой безграничное самолюбие заставляло его, внезапно вспыхнув, нападать на мальчишек намного старше. Нападать – и бить. Чем попало, лишь бы доказать свое.
Забияку пинали, толкали, колотили палками, чтоб отвязался – нет, весь в слезах, окровавленный, он не отставал от них, пока в драку не вмешивался кто-нибудь из взрослых прохожих.
***
…В углу – смех.
Имама охватил озноб, будто ветер, гудевший снаружи, внезапно проник к нему под меха. Трясясь от негодования, он огляделся: на этих бродяг мало надежды, они не помогут, крамольный болтун для них – свой; нет ли поблизости…
– Нет, – огорчил старика нелепый странник. – Нет мухтасиба – блюстителя нравов! Не озирайся напрасно, шею Свихнешь. Его задрал у Нишапура тощий волк. Задрал – и подох, бедный зверь. Отравился, видать, его праведной кровью.
В рибате стало тихо, как в склепе.
…Он встал – прямой, как доска, несмотря на возраст, – мигнул смотрителю подворья, остроглазому проныре, и пропал с ним где-то в темном углу. Позже вновь появился в освещенном кострами пространстве – уже без своей великолепной чалмы, в чужой драной шапке, но зато освеженный, весь подобравшийся, помолодевший.
Впалые щеки его раскраснелись, глаза прояснились, в них заиграл озорной, как у юнца, весенний блеск. Он вновь мигнул, теперь – обомлевшей женщине, лихо сдвинул шапку набекрень – и пошел себе прочь, чуть качаясь, безразличный к теплу и холоду и к человеческой злобе.
***
…Его прямо-таки изнуряла, как иного – болезнь, острая любознательность. На дворе падал снег или хлестал дождь проливной – Омар не мог усидеть дома, у теплой жаровни. Он натягивал на голову старый отцовский толстый халат и незаметно выбирался наружу. Долго бродил в саду между голыми мокрыми деревьями, ни о чем не думая, просто впитывая холод и шум дождя.
Затем залезал в чащу юных вишенок-прутьев, выбившихся из корней вокруг взрослых деревьев, и часами торчал в них, безмолвный, омываемый студеным потоком с неба.
И ни о чем не думал. Лишь где-то подспудно, в самых глубоких недрах сознания, как чей-то смутный и настойчивый зов, звучали, слагаясь слово к слову, чьи-то стихи. Чьи? Неизвестно. Может быть, уже свои. Те, которые он когда-нибудь напишет. Никто не искал мальчишку, никто не звал, не тащил домой. Мать уже махнула рукой на него.
Омар впадал в первобытный дикий экстаз, если случалось землетрясение или свирепый ураган, налетев, ломал в Нишапуре дряхлые ивы. Хорошо ему было укрываться в густых кронах упавших деревьев, пока их не изрубили и не растащили по дворам, сидеть в зеленом сумраке и мечтать. О чем? О чем-то неясном, но всегда необыкновенном.
Родители смеялись:
– Дурачок!
Когда его, как и всех детей, спрашивали, кем он хочет быть, он, к ужасу родных, отвечал: «Бродягой». У него был красивый почерк. Он терпеть не мог недомолвок и околичностей и во всем любил точность: в мыслях, словах и делах. Закадычных друзей у него не водилось. Почему-то Омара никто не любил. Даже родная мать.
Ибрахим, находя его поздней ночью уснувшим за книгой, говорил со вздохом: "Он, наверное, за книгой и умрет когда-нибудь".
Что и сбылось в свое время.
Еще до того, как его, семи лет, отвели в приходскую школу, Омар умел хорошо читать и писать, и потому учиться вместе с другими детьми ему было скучно. Он часто отлынивал от уроков, уходил бродить один в окрестных садах. Тем не менее, в десять лет уже знал грамматику, теорию словесности, стилистику и приступил к индийскому счету, к алгебре и геометрии.
***
– Я говорил тебе: он этим кончит, – хмуро шепнул жене краснобородый купчик.
– И кто сей злодей? – строго уставился на них имам, заподозрив спутников в каких-то давних и недобрых связях с нечестивцем.
– Тот… как его, – смутился купчик, – знаменитый… неудачник… пьяный звездочет… – Он боязливо оглянулся и тихо произнес короткое имя.
– О?! – воскликнул потрясенный священнослужитель. – Кто бы мог подумать…
– Он самый. – Обернувшись к жене, краснобородый вовсе помрачнел. И жестко изрек: – Пропащий человек! Истинный мусульманин, – возвестил он самодовольно, – должен заниматься полезным, богоугодным делом: торговлей, приумножением своего достояния. А этот шалопай всю жизнь растратил… на что? На вино и стихи. Разве стихи к лицу мужчине? Женское занятие. – Он взглянул на жену. – И стихи-то какие? Добро бы о розах да соловьях. Нет, у него они – вредные. Они будоражат человека, заставляют думать, сомневаться. – И он заключил уверенно:– Конченый человек!
А пьяный звездочет?
Уже у ворот с его лица как ветром сдуло напускную веселость, ее сменила горькая озабоченность. Радоваться нечему! И так всегда: на людях он беспечно смеется, наедине с собой задумчив, угрюм. Если только не рассмешит какая-нибудь забавная мысль, шальное воспоминание.
Зачем он пил при них? Путник жалел чалму, деньги были. И нынче ему не хотелось пить. Стар он уже, с ногами все хуже и хуже. Но чем-то надо было досадить наглецам?
Мила нам лишь в кабак ведущая стезя.
Так будем пить! Ведь плащ порядочности нашей
Изодран, залатать его уже нельзя.
Ни кражей, ни ложью, ни подлостью их не проймешь: и то, и другое, и третье для них – дело обычное, привычное. Лишь нарушив один из важнейших запретов святого писания, сумеешь возмутить их тупую безмятежность. Ишь, мозгоблуды: бедняку на богомолье сходить – и то грех…
Всю жизнь сочиняя стихи, он привык, в поисках слов, строк и рифм, бормотать их себе под нос; и, поскольку, к тому же, он и думал не так, как иные – расплывчато, безотчетно, а ясными точными фразами, произнося их мысленно, как вслух, – это исподволь переродилось у него в привычку вслух разговаривать с самим собою, чему способствовало еще и одиночество.
– Неужто, – сказал себе странник с укором, – ты обречен всю жизнь лицедействовать? Вся жизнь – потеха. Скоморох! Не хватит ли их дразнить? Язык отрежут. – Но, представив гладкое лицо и красную бородку торгаша, имамову теплую шубу, он опять разозлился, встряхнул головой. – Пусть! Разве я их первый задел? Сами всюду лезут с дурацкими поучениями. Вот он, весь тут, благонравный обыватель-стяжатель. Самый гнусный зверь на земле! Не имея крупицы добрых знаний в башке, он берется судить других. Еще хуже, если ему удалось запомнить чье-то изречение – мудрое, глупое: он орудует им как дубиной. Уж он от тебя не отстанет, пока не грохнет по голове. Чтоб уравнять твой разум со своим, загнать тебя в общее стадо. – И с мальчишеской удалью:– Буду их дразнить! Буду их изводить. Пусть хоть голову отрежут…
Он забыл, вернее приглушил, отодвинул на время, бесшабашно махнув на то рукой, – что именно страх за свою голову погнал его в Мекку, которая нужна ему, как черту рай.
Нет никакой охоты тащиться в такую даль. Но идти надо. Вот схожу на богомолье, надену зеленую чалму святого, тогда попробуйте тронуть меня хоть пальцем. Надо идти. И он шагал себе по белой пустыне, стуча палкой и задубелыми ногами по ледяной дороге, и с грустью, которую уже давно не мог преодолеть, напевая что-то, на слух – весьма жизнерадостное.
Хорошо ему было с привычной светлой грустью, устойчивым душевным равновесием, спокойной уверенностью в своих неисчерпаемых глубинных силах. Это – главное. Все остальное чушь. Суета. Что губит судьбу человеческую? Ядовитая пыль житейских мелочей. Он давно стряхнул ее с души, как иной после долгих дорог отряхивает прах с разбитых ног.
Сказано в древней "Песне арфиста":
"Совершай дела твои на земле по велению сердца твоего и не горюй до того, как придет к тебе оплакивание. Не слышит воплей тот, чье сердце успокоилось, и слезы никого не спасли от подземного мира. Проводи радостно день, не унывай. Никто не уносит своего добра с собою. Никто не вернулся, кто ушел".
Будь жизнь тебе хоть в триста лет дана —
Ведь все равно она обречена,
Пусть ты халиф или базарный нищий,
В конечном счете – всем одна цена.
…На повороте ему попалась замерзающая птица. Он задел ее ногою, даже пнул, сочтя за грязный, обледеневший ком снега. Она встрепенулась! Нагнулся, разглядел: ворона. Редкая ворона. Белая. Путник подобрал ее и отогрел за пазухой.
***
А глаза смуглой женщины в рибате все смотрели в огонь, и в них мучительно рождалась тайная мысль.
Часть первая
Созвездие Близнецов
Приход наш и уход – загадочны. Их цели
Все мудрецы земли осмыслить не сумели.
Где круга этого начало, где конец,
Откуда мы пришли, куда уйдем отселе?
Омару исполнилось 10, пирамиде Хеопса – 3880. Ашшурбанипалово хранилище письмен погибло за 1670 лет до этой поры. Аристотель умер 1380 лет назад. Улугбек родился через 336 лет. Джордано Бруно сожгут на костре через 542 года.
***
И десяти лет от роду Омар впервые выехал из Нишапура – в Астрабад, неподалеку от которого, в деревушке Баге-Санг, его родитель, зажиточный мастер Ибрахим, купил перед тем дом и садик для летнего отдыха.
– Не надо бы ехать. Время тревожное.
– Милостив бог, – сказал Ибрахим. – Но на всякий случай опоясался саблей и вооружил трех своих здоровенных работников не менее здоровенными дубинами.
– Безграничен аллах в своих милостях! – ликовал Ибрахим в дороге. – Небывалый нынче хурдад.[1]1
месяц май
[Закрыть] В иной год в эту пору трава уже выгорает, деревья густо заносит пылью, – встряхнешь, – с головою накроет. А сейчас? Каждую ночь гроза и ливень, днем солнце сверкает. Воздух чист, всюду свежая зелень…
Восторг не мешал ему думать о выгоде, – наоборот, возрастал от мысли, отрадной и дельной: "Лето будет дождливым – повысится спрос на палатки".
Отделившись от каравана, они свернули на Фирузгондскую горную дорогу. Влажный твердый путь уходил впереди за черную скалу. И казалось, дорога звенит, слагаясь со всеми своими подъемами, спусками и поворотами в задушевный тихий напев.
Для Омара каждое утро праздник; проснувшись, он уже знал: сейчас произойдет что-то необычайное. Будет солнце, снег или дождь. Будет ветер. Вкусный горячий хлеб. Книга. Белая роза, – от нее так прохладно в жару. Будет тайна. Будут разговоры. Что-то будет! И это уже чудо.
– Все промыто дождем, все блестит – и небо над синей горою, и камни, и листья! – Если бы то, что Омар испытывал сейчас, могло, как по волшебству, изменить его суть, мальчик, тут же вспорхнув, защебетал бы вместе с пташками в придорожных кустах.
– Сегодня день твоего рождения, – улыбнулась мать.
Ибрахим:
– Дай бог, чтобы вся твоя жизнь была такой же ясной и блестящей, как это счастливое утро. Безграничен аллах в своих милостях! – И, хлестнув лошадь, он вывел повозку – прямо к шайке тюркских грабителей.
***
Они толпились, спешившись, в устье зеленой лощины, нисходящей к дороге по склону горы. В узких глазах жестокость и жадность, тупая неумолимость. Руки железные. Лбы медные. Сердца гранитные. Не жди от них пощады.
– Стой! – рявкнул молодой туркмен в большой мохнатой шапке.
Переваливаясь на кривых ногах природного наездника, темный и дикий, он медленно и зловеще подступил к остановившейся повозке, угрюмо уставился на дубины в руках работников Ибрахима. Обернулся к своим (человек пятнадцать) – и разразился долгим скрипучим смехом.
– Смотрите, а? Вооружились. Хе-хе-хе… – И грозно – ближайшему работнику:– Это для кого же, собачий сын, ты дубину припас? Уж не для нас ли, а? Вот я сейчас хвачу ею тебя по глупой башке! – Он попытался отобрать дубину, но Ахмед, сперва оробевший, вспыхнул, отскочил и ткнул, точно копьем, туркмена острым концом дубины в грудь.
Взвыл туркмен! Через несколько мгновений Ахмед, лучший работник Ибрахима, очутился на коленях, со скрученными за спиной руками.
– Ты… оказал сопротивление, – хрипло сказал молодой туркмен, потирая грудь. – Сто динаров и три фельса! Это даром тебе не пройдет.
– Хозяин! – в ужасе крикнул Ахмед окаменевшему Ибрахиму.
– Не ори, – морщась, проворчал грабитель. – Я тут хозяин. – Он вынул длинный узкий нож и, зайдя сзади, зацепил Ахмеда пальцами за ноздри, круто задрал ему голову. Ахмед, задыхаясь, хотел сглотнуть слюну, кадык его беспомощно дернулся.
И потрясенный Омар увидел, как туркмен, примериваясь, щекочет этот судорожно бьющийся кадык острием ножа.
– Не смотри, – дрожа, шепнула мать.
Мальчик спрятался за ее спиною, закрыл глаза ладонями. Но слух и нюх у него оставались открытими. И он услышал короткий харкающий всхрип, густой шорох травы, какой бывает, когда на нее капает частый дождь, и незнакомый, одуряюще сладкий и теплый запах…
– Видали? – Туркмен лизнул, по обычаю, окровавленную сталь. – А ну, сложите ваши дурацкие дубины в огонь! – Он показал на скудный костерчик, где, уныло дымя, трещали сырые ветви. Усмехнулся с мрачным поползновением на остроумие:– Спасибо, дрова принесли. А то путный костер не из чего было разжечь.
Костер повеселел, повеселели и угрюмые туркмены. Предводитель шайки – все еще не очнувшемуся Ибрахиму:
– Придется и повозку разломать. Чтоб костер получился совсем хороший. Слезайте. Что у вас в мешках, – похлебку есть из чего сварить?
Говорил он гортанно и резко, по-тюркски, но в Хорасане с первых же лет тюркских завоеваний научились понимать язык степей.
– Не стыдно? – тихо сказал Ибрахим, помогая жене и сыну спуститься на дорогу.
– Чего? – грубо спросил грабитель. В прищуренных черных глазах – недоумение. Похоже, ему не часто приходилось слышать слова «стыд» и "совесть".
– Не стыдно грабить мусульман? – зарыдал Ибрахим.
– А-а… – Туркмен зевнул, сдвинул шапку на смуглый лоб, почесал шею. – Мусульмане… – И сразу, без перехода, впал в неописуемую ярость:– Сто динаров и три фельса! А мы кто?! – Горячо и сбивчиво, с неожиданным многословием, как бы торопясь оправдаться перед кем-то, может быть – перед самим собою, он обрушил на примолкшего Ибрахима мутный поток досадливых речей:– Когда мы… когда наше несчастное племя… обитало на Сырдарье, – слыхал о такой реке? – правитель Дженда… за что он взъелся на нас? Бог весть. Разорил кочевье. Скот угнал. Убил… восемь тысяч моих сородичей. Разве они были неверньвми? Все – мусульмане, мир их праху. Жалеть нас надо, а не проклинать! Пришлось бежать в Хорасан. И что? Сто динаров и три фельса! Здесь явился по нашу туркменскую кровь… ваш дурной султан Масуд Газнийский. Хорошо, наш лихой Тогрулбек в пух и прах разнес его у Серахса. И теперь наш черед всех громить и грабить. Знаешь, раненый тигр втройне опаснее? То-то. Эй, мешки да горшки – на землю! – приказал он подручным, таким же темноликим и свирепым.
Мать робко, вполголоса, причитала. Ибрахим и Омар стояли бледные и безмолвные. В голове шумит, и ноги трясутся, и внутри – горячая дрожь. Но когда один из грабителей сбросил с повозки большой зеленый узел, Омар не выдержал, кинулся к нему:
– Не трогай!
– Тяжелый, – удивился туркмен. – Что в нем? Может, золото, а?
– Золото? – подошел к ним предводитель шайки. – Ну-ка… – Развернул узел, встряхнул – и на дорогу с деревянным стуком посыпались темные кирпичи.
– Это что? – огорчился разбойник, увидев в странных кирпичах мало сходства с золотыми слитками.
– Книги.
– Книги? А! – вспомнил туркмен. – Много их мы в Мерве сожгли. – Он нагнулся, подобрал одну, в сандаловой обложке, раскрыл. – Хорошо пахнет! Но что это за чертовщина? Бруски какие-то, черточки, углы, круги. О чем книга? – с любопытством – к Омару. – Может, колдовская, чтоб джиннов на службу вызывать?
– Геометрия Эвклида.
– Кто такой Уклид, – он мусульманин?
– Нет, – ответил Омар, стараясь не смотреть на труп Ахмеда. – Он жил давно, задолго до пророка. Он был румийцем.
– И ты читаешь эту дрянь?
– Читаю. Но это не дрянь. Одна из самых умных книг на свете.
– Как смеешь ты, собачий сын, хвалить сочинение проклятого язычника? В костер твою безбожную книгу! Надо читать коран.
– Я и коран читаю, – нашелся Омар. – Я, да будет тебе известно, знаю его наизусть!
– Весь коран? – изумился туркмен. – Врешь!
– Я никогда не вру.
– Тогда прочитай какой-нибудь стих.
Омар закрыл глаза, припоминая, – и нараспев произнес звучный арабский стих. Но голос его срывался на каждом слове, и стих прозвучал неверно. За такое дурное чтение наставник в школе избил бы тростью. Однако грабитель не разбирался в тонкостях арабской словесности. Он вообще не знал арабского языка.
– И что это значит по-нашему?
– "Не засматривайся очами твоими на те блага, какими аллах наделяет иные семейства". Сура двадцатая, стих сто тридцать первый.
– Э-э… – У туркмена лоб вспотел. Ощутив в ногах внезапную слабость, он присел на корточки, пораженный не столько смыслом стиха, оглашенного бледным мальчиком, сколько самим мальчиком, его смелостью, памятью и сообразительностью.
Свет учености, исходящий от юного перса, слабым отблеском отразился в темных глазах степняка. И, видимо, крохотный лучик невыносимого этого света проник ему в мозг и произвел там смятение. Что-то произошло в его душе, что-то в ней чуть приоткрылось. Он умел драться. Он знал, как лучше отбить удар меча. Он не знал, как отбить словесный удар.
Его охватила непонятная тревога.
– Что со мною? Захворал, что ли, не дай господь. – Помолчав, он сказал потерянно:– И всю эту кучу книг ты одолел?
– Нет. Те дома остались. Эти только начинаю читать.
– А трудно? – спросил туркмен с нелепой, казалось бы, в нем ясной детской доверчивостью.
– Что?
– Ну… читать научиться?
– Совсем не трудно.
– Хм… Как тебя зовут?
– Омар.
– А меня – Ораз. Может, ты станешь когда-нибудь известным человеком, а?
– Если на то будет воля аллаха, – угодливо заметил Ибрахим, цепляясь за малейшую надежду спастись. Каждая жилка в нем натужно звенела, точно струна, готовая лопнуть.
– Аллах, аллах, – задумчиво вздохнул туркмен. – Как там сказано, говоришь: "Не засматривайся"? – Он мутно взглянул на мешки, узлы и горшки, уложенные на полянке – и вдруг загремел, пересиливая что-то в себе и не умея пересилить:– Носит вас по дорогам в такую пору1 Сидели бы дома, сто динаров и три фельса! Надо бы, друг мой Омар, твою мать – ко мне в шатер, тебя самого, и отца твоего, и ваших трусливых слуг – на базар, и лошадь у вас отобрать, и… И ступайте-ка отсюда, пока я добрый! Если б я не захворал… Забирайте книги свои и припасы. Но мешок зерна мы у вас возьмем. Эй! – гаркнул он на дружков. – Грузите все обратно. Мешок зерна оставьте. – Он посмотрел в Омаровы чистые очи, невесело подмигнул ему. – Станешь большим человеком, не забудь обо мне. Запомни: Ораз из племени кынык, одного рода с царем Тогрулбеком. Будь здоров! А вас, храбрецы, – напутствовал он работников Ибрахима, – надо бы высечь на прощание. Ну, да ладно. Зачем ты кормишь таких ненадежных защитников? – обратился он к мастеру.
– Что с них взять, господин? Ремесленный люд. Мирный народ.
– Мирный народ… – Туркмен покосился на его бедро. – Саблю отстегни, подай ее сюда! Она тебе ни к чему.
***
Староста Баге-Санга ахал изумленно:
– Угораздило вас, господин, забраться в этакую глушь! Неужто иного места для отдыха не нашлось? Простите, – мы рады, конечно, новому человеку. Но очень уж скудно, убого у нас. Семнадцать хижин, горстка людей. Скучно.
– В наш тяжкий век, – вздохнул Ибрахим, – нужно иметь про запас надежное убежище. Ведь у вас тут спокойно?
– Как будто, – ответил старик неуверенно. И отвел глаза.
Взрослые – нудный народ. Жить не могут без никчемных дел. Проверить купчую. Попить шербету. Поболтать о новостях… Пока они занимались этим, Омар побежал осмотреть летнее жилье.
Правду отец говорил: безграничен аллах в своих милостях. О рае Омар, конечно, наслышан, но рай небесный – где-то еще впереди, далеко, и попадет ли туда Омар, неизвестно – грехов у него уже немало; что касается рая земного, то, наверное, здесь он и есть.
– Эх, родной! – Маленький, тощий, чуть выше Омара, весь черный живой старичок, сидевший у ограды и взявшийся его проводить, сказал с надрывом, тягуче, скрипуче, но проникновенно:– Не зря селение наше БагеСанг – Каменный сад. Камней тут, видишь, больше, чем деревьев. Землю под ячмень носим в корзинах из дальней долины. Найдем меж утесов прогалину, засыплем, засеем. Сам суди, какой мы получаем урожай. Бывший хозяин вашей усадьбы отчего сбежал в Нишапур? Видишь, я горбатый. Ноги кривые, руки сухие, а ладони – точно лопаты. Нелегко тут жить. Ох, нелегко!
– Зато воздух…
– Может быть. Я иного воздуха не знаю. Правда, в детстве, – лет шестьдесят или больше назад, выезжал с отцом в Астрабад, наглотался пыли, – до сих пор, веришь, нет, чахну от нее. Я, дорогой, помню даже бухарскую власть, – соврал он неизвестно зачем. – При них, саманидах, вроде было полегче. Они редко нас навещали. Верно, тоже грабили. Но они хоть говорили по-нашему. – Похоже, в памяти его давно все перепуталось – и то, что видел он сам, и то, что когда-то узнал от старших. – А как пошли свирепствовать дикий тюрк, султан Махмуд Газнийский и сын его, султан Масуд Газнийский, черт их съел, и сельджукиды-туркмены – хоть в этом пруду утопись! – Он кивнул на небольшой, но, видно, очень глубокий, воронкой, водоем на дне котловины. – Для них все равно, что зима, что лето, что осень. Нагрянут: давай поземельный налог, подушный налог! А где его взять, скажем, весною? На сухих абрикосах живем, хлеб черствый ячменный – и тот бережем, раз в неделю, в пятницу, едим. "И не стало в нашей стране, – как говорится в старой легенде, – псов лающих, огней пылающих".
Омар, и без того бледный, совсем побелел. Занесло их! Но какое дело ему до чьих-то бед? Вот ручей, бегущий с гор через двор, и лужайка с сочным клевером, и белая коза на привязи. Клевер еще не цветет, но над ним уже вьются пчелы.
– Пасеку бы здесь наладить! Тут тебе корм и для божьих пчел, и для лошади вашей, и для бедной козы моей. Эх, один я на свете! Эта коза… она мне и мать, и сестра, и дочь. Но коза – она что? Коза. Дура. Скажи отцу, пусть купит у наших людей трех-четырех ягнят, – за четверть цены отдадут. Вскормлю для вас, зимою забью, отвезу в Нишапур. Будешь есть баранину, растолстеешь, не будешь такой хилый.
– Не люблю. Терпеть не могу, когда кости грызут, салом губы и щеки мажут.
– Ну? А что же ты любишь, родной?
– Молоко.
– Кхм! Оно, конечно, полезно. И я когда-то любил его пить. Но теперь у меня от молока бурчит в животе…
***
Вечер.
– Так ты не прогонишь меня, хозяин? – говорит хмельной старичок, наевшись рисовой каши с мясом и морковью. – Имя мое – Мохамед, что значит Прославленный. В честь пророка, да будет над ним благословение божье! Всяк тут знает беднягу Мохамеда. Я владельцу прежнему служил за еду и ночлег. Видишь, вон, сарайчик под скалою? В нем обитаю. Один я на белом свете. Был когда-то женат, и дети были, но угнал их проклятый Махмуд Газнийский. И дом разломали головорезы. За то, что я, строптивый, шумел. Нетрудно, конечно, другую жену найти и домик заново отстроить, но занемог, как детей забрали, махнул на все рукой, стал выпивать. Ибрахим, подумав:
– Аллах запретил мусульманину пить.
– Знаю, родной! Знаю. Староста наш, – ты видел его, устал меня стыдить и стращать. Но разве он может вернуть мне моих детей? Врагу не пожелаю – деток своих потерять… Я тебе честно скажу: виноват перед ними. Ох, виноват. – Он понурил седую голову, несколько раз стукнул костяшками согнутых пальцев по загорелому лбу. – Однажды… полотенцем, свернутым в жгут, я хлопнул раз-другой свою старшую дочку по заду. Понимаешь?! – вскричал он с пронзительной болью в глазах. – Вторую дочку вот этой рукой, – он дико взглянул на черную руку, – встряхнул за волосы… над землей. Волосики нежные, тонкие. А я ее за них – над землей. Чтоб ей отсохнуть! – Старик Мохамед наотмашь ударил о камень обратной стороной ладони, разбив ее в кровь, и злорадно скривился, довольный болью, как заслуженным наказанием. – Ну, третью не бил. Уж тогда что-то внутри у меня надорвалось. Всего один-то раз и рявкнул на нее, она вся побелела, бедняжка. Будь я проклят! В аду мне гореть. Никогда не бей, хозяин, ребенка, – до последнего часу будешь о том горевать. Где они? Что с ними? Они-то, наверно, если живы, давно уже забыли о тех делах моих паскудных. А я не могу забыть. Ну и страдаю. Да, – Мохамед растер на корявой щеке слезу. – Аллаху, конечно, сверху виднее, что я должен делать, чего не должен. Но я… вот чего не пойму. Султан Махмуд – уж так он был правоверен, истов да неистов, что хоть самому пророку на зависть! Каждое дело его, большое или малое, совершалось только во имя аллаха. Ответь, мудрый юноша, – кивнул старичок Омару, – во имя бога – это во благо тому, кто верит в бога? Или во зло?
– Во благо.
– Тогда скажите, ученые люди: разве годится во имя правой веры отнимать у правоверных их детей, ломать их жилье?
Ибрахим, помолчав, сказал, – не совсем, правда, твердо:
– Все совершается по воле божьей.
– Конечно, конечно! Кто спорит? Это всякому известно. Однако… все-таки, я думаю, – если, конечно, нам, убогим, не возбраняется думать, – нельзя во имя красоты, к примеру, уродовать чей-то красивый лик. Или – во имя света сокрушать светильник. Несообразность, – старик пожевал белый ус, резко выплюнул его. – Это все равно, что лгать во имя правды. Потому я бунтую. И пью. И буду бунтовать. И пить. Пусть хоть голову снимут. Но ты, хозяин, не бойся: твой дом я не пропью. Хворост в горах собирать и таскать, за деревьями в саду ухаживать, дом в порядке держать, зимою стеречь, рыбу в ручьях ловить, куропаток в кустах – лучше меня человека для этих дел не найдешь. Плата? Хлеб и ночлег. Вино я делаю сам, из хурмы и гранатов. Ну, что, остаюсь?
– Оставайся, – кивнул Ибрахим благодушно. – Куда ты пойдешь? Сын у меня любознательный. Рассказывай ему о прошлом. Приучай к мотыге, к труду на земле. Только пить, смотри, не научи.
– Что ты, господь с тобою! Он парень, я вижу, толковый, не по возрасту серьезный, пьяницей он не будет.
– Дай бог, дай бог, – с надеждой сказал Ибрахим. – У нас в Нишапуре пир каждый день. Ученики медресе – и те пьют тайком от наставников.








