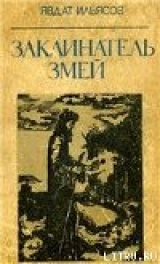
Текст книги "Заклинатель змей"
Автор книги: Явдат Ильясов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 21 страниц)
– От гулей бежишь? Проклятое селение! Я сам едва уве рнулся. Садись скорей на лошадь за моей спиной, довезу до городских ворот. Не дай бог, они всей гурьбою кинутся в погоню.
Горожанин, пообещав ему денег, уселся на лошадь. Всадник пустил ее вскачь, съехал с дороги – и во весь дух помчался по сухой степной траве к далекому костру.
– Куда везешь? – кричит испуганный парень.
– Молчи! – злобно шипит таинственный всадник и поворачивает к нему черное лицо с желтыми горящими глазами. – Удрать вздумал от нас? Нет уж, хочешь не хочешь, мы тебя этой ночью зажарим. Золото нам ни к чему. – И обхватывает его волосатой рукой…
И обратился юноша с тайной мыслью к богу: "Избавь от злого духа!" – и всадил свой кинжал черному всаднику в спину. Всадил и спрыгнул. Повалил зловонный дым, запахло серой. Конь и всадник с диким воем исчезли в ночной темноте.
Только к рассвету, усталый, истерзанный, с сокрушенным сердцем, достиг наш искатель приключений городских ворот. Оказалось, он поседел за эту ночь. Больше он не ходил на свидания с незнакомыми красивыми девицами. Каково, э?..
Омар не выносил рассказов о сверхъестественном. Немало он настрадался в детских снах от черных, мохнатых, красноротых чертей, лезших ночами в окна и двери. Они отравили ему радость детства. Может, именно из-за нелепых басен об адских муках и бесах и охладел он столь рано к так называемой истинной вере.
– Как жить на свете, – сказал Омар с дрожью в голосе, – если видеть во всех встречных: красивых девушках, приятелях, сердобольных соседях, путниках на дороге – людоедов-гулей?
– Во всех встречных не надо их видеть, – молвил Али Джафар. – Но остерегаться – надо. Следует помнить: один из десяти или даже из трех – непременно мерзкий оборотень, гуль-людоед.
– Ну, ты скажешь! Может, ты тоже – гуль?
– Я? Эх! Будь я гулем… знал бы, кого сожрать.
– Уж не меня ли? – проворчал кто-то в темноте у открытого входа.
– А, Юнус, – хмуро кивнул Али Джафар. – Входи, садись.
В каморку ввалился, сразу стеснив двух приятелей, усатый, широкий и плоский, точно надгробная плита, человек с желтым опухшим лицом, с висячими мешками под глазами. Похоже, наркоман, заядлый курильщик хашиша.
– Почему так поздно жжешь светильник, – хозяйского масла не жалко? Я доложу господину. А ты кто такой? – набросился он на Омара.
– Приезжий.
– Откуда? Почему здесь?
"Ну, началось, – с тоскою подумал Омар. – Почем в Нишапуре ослиные уши, почем в Нишапуре собачий хвост…" Нет, о ценах Юнус не стал его расспрашивать. Его занимала личность самого Омара: как зовут, чей он сын, богат ли родитель, что знает приезжий, что умеет, зачем он прибыл в Самарканд.
– Если б сей муж, – с усмешкой сказал молодой нишапурец Али Джафару, – обратил все свое неисчерпаемое любопытство на приобретение полезных знаний, он стал бы самым ученым человеком в Мавераннахре.
– Может, ты совершил в Нишапуре какое-нибудь страшное преступление, из-за которого тебе пришлось бежать? – продолжал дознание подозрительный усач.
– Да, – вздохнул Омар. – Я напал в ночной темноте на юную дочь шейха медресе.
– И?
– И сделал над нею насилие. Но затем оказалось, что это был сам старый шейх…
– Чего ты привязался к человеку? – обозлился Али Джафар. – Оставь его в покое.
– Я должен все знать, чтоб доложить хозяину, – строго сказал Юнус.
– Ему без тебя все известно! Омар – гость судьи судей. И если он завтра пожалуется господину, тебе будет худо. Приказано: болтовней приезжего не донимать.
– Да? – смутился Юнус. – А мне… э-э… приказано содержать усадьбу в порядке. Ладно, – вздохнул усатый примирительно, – пусть приезжий даст мне дирхем, и я Уйду.
– Дирхем? – удивился Омар. – За что?
– Я – дворецкий. Тут все в моих руках.
"Дай", – тайком кивнул Али Джафар.
– Не дашь – житья тебе не будет в этом доме, – сказал он после. – Подлый человек. Тысячу каверз выдумать может. На каждом шагу станет тебе досаждать. Всех слуг держит в страхе. Деньги у нас вымогает. Я тоже давеча сунул ему дирхем. Тьфу!
"О боже! – подумал Омар сокрушенно. – Мне-то что до их убогих страстей? Чем дурацкий Юнус причастен к миру звезд и таинственных чисел, и чем я, со своими звездами и числами, причастен к пустяковой возне тупых людишек? Дадут мне заниматься тем, к чему лежит душа, что я умею, или так и затянут в свое мерзкое болото?"
– Почему же Абу-Тахир, человек благородный, терпит в доме такого вонючего пса? – уныло сказал он Али Джафару.
– Э! Тому не до мелких домашних дрязг. У судьи судей много дел поважнее. И потом, Юнус хитер и осторожен. Это с нами, со мной и с тобой, он так грозен. Перед хозяином он совсем другой. Знаешь, как устроен подобный человечек: на людях он старается казаться лучше, чем он есть на самом деле. Это я, несчастный, всегда кажусь хуже, чем есть. Потому что подлаживаться не умею.
– И я, – кивнул Омар с печалью. – Всю жизнь меня принимают черт знает за кого. Неуклюж. Невезуч. Ходячее несчастье. Всю жизнь – без вины виноватый. Тягостно это.
– Ничего! – подбодрил его Али Джафар. – Будь всегда везде самим собой – и лучшего не надо.
***
"Просвещенный человек бесстрашен, – прочитал Омар при свече, – и как ему не быть таким? – Книга, которую он перекупил у Али Джафара, оказалась лишь частью многотомного труда Абу-Али, но частью, пожалуй, самой важной сейчас для Омара – о логике. – Смерти он не боится, он щедр и великодушен, – и как ему не быть таким? Он чужд показной дружбе и снисходителен к проступкам других, – и как ему не быть таким? И душою он столь высок, что его не коснутся никакие ущемления со стороны людей, – и как ему не быть таким?"
– Коснутся, – вздохнул Омар. – Еще как! Точно веткой с шипами – к открытой ране. Просвещенный человек, ко всему прочему, утончен и чувствителен, как никто другой, его легко обидеть, – и как ему не быть таким?
"Если передо мной закроют путь в науку, – сказал он себе, – уеду в Баге-Санг, к старику Мохамеду, растить гранаты, сеять ячмень…"
***
Едва сизый кречет рассвета вспугнул и погнал на запад черную галку ночи и следом взмахнул крылами яркий фазан зари, Абу-Тахир Алак призвал к себе Омара Хайяма. Он тепло приветствовал его на обширной террасе, устланной коврами, и пригласил к низкому столику с горячими лепешками, медом и свежим маслом.
Судя по разрезу глаз и выступающим скулам, хозяин – тюрк. Но, по всему видать, учен, прочно прижился в городе и хорошо говорит на дари, старом местном языке.
– Кто, что, зачем – расспрашивать не буду, в письме шейха Назира сказано все нужное. Один вопрос: чем, сын мой, ты хотел бы заняться у нас в Самарканде?
"Чем? О боже, – подумал Омар, – чем угодно, лишь бы с голоду не умереть в чужой стране. И заработать немного денег на обратную дорогу".
– Я мог бы… учить в мектебе малых детей. Или – быть письмоводителем. У меня хороший почерк.
– О? – Благолепный судья усмехнулся, и Омар покраснел. Неужто он замахнулся слишком широко, и его желание – неосуществимо, даже нелепо? Да, конечно, тут много своих грамотеев. Что ж, будем хоть двор подметать. Если дадут…
– Что ты сказал бы, сын мой, о человеке, который, имея могучего слона, заставил его таскать не гранитные глыбы, не тяжкие бревна, а по два, по три снопа сухой джугары? То есть делать ослиную работу? Но и осел поднимает больше.
– Сказал бы, что он… неразумен.
– Приглядись же ко мне: похож я на человека неразумного?
– Нет.
– То-то! Я подразумевал не работу ради пропитания, а дело по душевной склонности. Скажи свою заветную мечту.
– Трактат! – встрепенулся Омар. – В математике накопилось много темного, спорного. Набросал кое-что в Нишапуре, но…
– Не дали закончить? Сын мой! Волна воинствующего невежества прокатилась и по этой земле. Но караханиды, в отличие от сельджуков, раньше спохватились. Уничтожить науку – все равно, что, выходя в далекий трудный путь, вырвать себе глаза. Ешь, сын мой.
– Я слушаю.
– Слушай и ешь! Итак, теперь мы благожелательны к ученым. Ибо доселе не избавились от тяжких последствий тех темных лет. Мне приходится разбирать много сложнейших тяжб по делам имущественным, строительным, земельным. Разнуздалось зло, повсюду обман, хищения. Но мы ничего не можем с этим поделать, потому что запутались в числах. Чем и пользуются казнокрады. О, среди них есть такие пройдохи! Очень трудно их изобличить, не имея перед глазами ясного, точного, емкого математического руководства. Но где его взять, такое руководство? Ешь, родной.
– Ем, спасибо.
– В наше время неподдельный ученый – большая редкость. И большая ценность. Его надо беречь, использовать по назначению. Так думает и хакан Шамс аль-Мульк.
Он сказал мне в прошлом году:
"Раз уж, по воле аллаха, мы овладели этой прекрасной страной, то должны удержать ее в своих руках. Для чего приспособиться к ней. К ее образу жизни, порядкам, обычаям. Здесь живет народ древний, мудрый, умелый. У него много знаний. Нельзя быть ниже народа, которым правишь. Верно? Посему надо привлечь к себе местных ученых, учиться у них. Иначе нам тут не выжить. Они же без нас не пропадут. Им-то у нас учиться нечему. Овец пасти? Сами умеют. Разве что ратному делу? Это, пожалуй, единственное, чем мы можем похвастать".
Ну, тут, в последнем – да простится мне моя дерзость – он, конечно, неправ. Еще в орхонских и енисейских степях, при черной вере, у тюрков была своя письменность. Не чуждались они и высоких китайских достижений. И позже, в Семиречье, поселившись в городах, приобщились через христиан-несториан к науке греческой, сирийской и согдийской. Абу-Наср Фараби, великий мыслитель, был, между прочим, тюрком из Отрара.
Но теперь – мы здесь, и все дела, заботы наши – здесь.
В Баласагуне[5]5
город в Семиречье
[Закрыть] есть у меня друг Юсуф Хас-хаджиб. Он, в назидание хану, написал книгу «Кудатку-билик». Закончил в прошлом году. Умный человек. Но не математик. Умная книга. Но не наставление по алгебре. Пиши свой трактат! Считай, это мой заказ. Я преподнесу твою книгу славному нашему хакану. Ты будешь на время работы всем обеспечен и, завершив ее, достойно награжден. Согласен?
Бледный Омар пошевелил губами – и не сумел произнести ни слова. Так сдавило ему горло волнение.
…А говорили, у тюрок – много спеси и мало ума. Ум недалекий, ленивый. Все у них расплывчато, приблизительно, все вокруг да около. Какая чепуха! Народ толковый и понятливый. Переимчивый.
Ну, прежде всего, конечно, они воители. Били Китай. За Волгу ходили. Европу громили. На юге с Индией соприкоснулись. И никто их пока что не в силах одолеть. Крепкий народ! Усвоив точные знания, он далеко пойдет.
Единственное, что может их сломить (несуразность?) – то, в чем они, простодушные, видят сейчас свою мощь: правая вера. Она способна исподволь приглушить в их душе яркий огонь, как приглушила у персов, омрачить ясный ум, подавить деловитость, ввергнуть их надолго, на века, в тяжкую и мутную дремоту. Ведь по исламу жизнь человека и сам человек – ничто, а что может создать ничто?..
– Эй, Юнус! – негромко позвал Абу-Тахир. Дворецкий, видимо, ждал где-то здесь, за углом, – он сразу возник у ступенек, ведущих на террасу.
– Этот человек, – судья отвесил Омару легкий поклон, – мой почетный гость. Поручаю тебе всю заботу о нем. Отведи просторную комнату, выходящую окнами на террасу, – чтобы в ней было светло и прохладно. Поставь удобный столик, индийскую лучшую лампу. Ни в чем не отказывать! Слышишь? Ни в чем – ни в еде, ни в питье, ни в уходе. Не надоедай, ничем не досаждай. Следи за тишиною во дворе. Ясно?
Юнус – с готовностью:
– Вполне, господин. Будет сделано. Абу-Тахир оглядел Омара, надевшего вчера его поношенный халат.
– Вид у тебя… какой-то потерянный, сиротский. С детства запуган? Будь тверже! Ты должен быть одет сообразно с высоким званием ученого, – строго заметил судья. – Хорошо, добротно, но скромно, неброско. Как шейх. Вот, получай двести дирхемов, – в счет будущей награды за работу. – Он вручил Омару расшитый кошель.
Тусклые глаза Юнуса загорелись. Будто это ему чуть не перепало столько денег. Хозяин прогнал его движением бровей и, оставшись с Хайямом наедине, сказал проникновенно:
– Сын мои! Я человек добрый и щедрый, но не расточаю своих щедрот кому попало. Я не слюнявый благотворитель. Ясно? Это – сделка. Прости за прямоту, но запомни: мне не нужен ты сам, как гость, как ученик моего давнего друга. У него было много учеников, все бездарный народ, – я их знать не хочу. Мне нужна твоя голова. Вернее, то, что в ней. Нужна для успеха правителей, стоящих надо мною, – и, соответственно, для моего успеха. Потому-то я и забочусь о тебе. Ты должен отплатить мне честной и добросовестной службой. Дня три оглядись, послоняйся по Самарканду. Прогуляйся в квартал Гатфар, полюбуйся знаменитыми кипарисами, – они у нас хорошо растут, и затем – приступай к делу. Увижу, что ты прилежен, – огражу от всех несчастий. Ну, а женщин – ты сам их найдешь. Будь здоров!
***
"Почетный-то гость, похоже… попал в почетное рабство? – с усмешкой подумал Омар. – Э, ладно! Пусть. Лишь бы судья не передумал, не обернулся, по слову Али Джафара, людоедом-гулем".
Ох, утро. Какое утро! Какой внезапный поворот в судьбе…
Нельзя сказать, что Омар совершенно им ошеломлен. Конечно, сперва кровь ударила в голову, отхлынула к сердцу, в ушах что-то взвыло – и заглохло. Но молодой Хайям освоился быстро с мыслью о великой своей удаче. Так и должно быть! Вот в чем дело. Человек одаренный всегда сознает свою одаренность. Точно так же, как человек, обладающий силой гипнотического внушения, хорошо знает, что он обладает этой силой. Омар попал в свою стихию. Как рыба, которую, сетью поймав в просторной реке, долго держали зачем-то в затхлом пруду, – и которая, сумев убежать по грязной канаве, вновь нырнула в прохладную глубь родной реки.
Упругий атласный ветер течет по синей долине, шелестит листвой гранатовых деревьев – и страницами будущей книги.
В Самарканде чисто, уютно. Нежно-алый огонь высоченных кирпичных стен общественных зданий начинает отступать на освещенной стороне перед яркой золотистой охрой; в густой синеве теневой стороны расплывчато-нефритовые кроны прислонившихся к строениям чинар выступают все отчетливее, меняя окраску на зеленую теплую с еле заметным красноватым налетом.
Во дворе, под огромным вязом, еще холодный сумрак. Но где-то на женской половине дома, проснувшись, уже лепечут дети.
Омар спокоен. Душевно свободен. Он бодр и могуч. Разум его невозмутимо ясен. Он будет писать свой трактат. Он напишет его!
– Три дирхема, – шепнул Юнус ему во дворе.
– А? – не понял Омар, как никогда далекий от Юнуса с его заботами.
– С тебя три дирхема.
– Ах, да… – Омар на радостях дал ему десять.
– Алгебра, альмукабала, – сердито бормочет Юнус. Сам дворецкий Юнус бредет на базар, а вороватый шакал дурных его помыслов рыщет вокруг молодого Омара Хайяма. – Мы тоже учились в медресе. И знаем: глупее науки, чем алгебра, нет на земле. Но, оказалось, она в цене, а? Стол, и жилье, и заботу. И деньги. И я – ухаживай за ним. Ну нет. Пусть корпит над своими туманными доказательствами, – я их опровергну. Или я дурнее его! Разве я не умею читать и писать? Если он еще сопливым мальчишкой одолел эту премудрость, то я-то, взрослый, опытный, умный, в два счета ею овладею. Пиши, любезный! Пиши свой трактат. Настанет час, я тебя посрамлю. Есть что-нибудь по алгебре? – спросил он в книжном ряду.
– "Книга по алгебре и альмукабале" Мухамеда аль-Хорезми, – ответил один из торговцев.
– То, что надо! Сколько? Четыре дирхема? Ох! Ладно, давай ее сюда.
Зажав книгу под мышкой, он пошел к харчевне – и столкнулся с дворником Али Джафаром, покупавшим новую метлу.
– О? – удивился Али Джафар. – Ты – и вдруг с книгой! Зачем она тебе?
– Погоди, – зловеще произнес Юнус. – Я покажу твоему ученому другу!
– Покажешь… за что?
– Я его ненавижу!
– Уже? Но за что?
– Ну, он – такой…
– Какой?
– Ну, какой-то… не такой.
– Понятно! – усмехнулся Джафар. – Но мой совет: ты лучше его не трогай. Вот именно, он не такой. Оставь человека в покое.
– Нет, я от него не отстану… пока он живой. – Юнус с книгой под мышкой прошел под навес.
Увидев книгу, ему сразу уступили место на помосте, покрытом пятнистой кошмой. Ага! У нас на Востоке простой народ уважает ученых людей. Зато, говорят, в какой-то стране на закате, не то Рум, не то Рус, чем умней человек, тем больше обид ему от невежд.
Алгебра, альмукабала. Или я дурнее его? Разве я не умею читать и писать?..
Он с нетерпением раскрыл книгу, перелистал. О боже! Цифры. Значки. Хм… Ну, ничего. Разберемся. Вот, например: "Вещь относится к… э-э… квадрату, как… э-э… квадрат к… э-э… кубу, отсюда неизбежно следует, что уравнение, содержащее квадрат и куб, равносильно уравнению, содержащему вещь и квадрат". Э-э… Что бы это могло означать?
Долго сидел Юнус на помосте, злобно листая книгу. Но безуспешно. На самой твердой булыге останется след от зубила. Но мозг Юнуса оказался тверже любого камня, и никакой острый угол, изображенный в книге, не оставил на нем и малейшей царапины. Юнус попросил трубку с хашишем, но в голове еще больше помутилось. Дворецкий даже заледенел от ненависти к человеку, который не тольго отлично разбирается в этой чертовщине, но может вполне ее опровергнуть или доказать.
Нет, надо начинать с азов. Зайду-ка, решил приунывший Юнус, в медресе, к математику Зубейру, – даже хозяин не раз обращался к нему за помощью. Правда, придется истратить шесть оставшихся дирхемов, – но на какие жертвы не пойдешь ради знаний?
…Алгебра, алгебра! Альмукабала.
Пиши, любезный. Пиши свой трактат.
Настанет час…
Румяный сдобный Зубейр очень рад Юнусу:
– Почтенный судья судей послал за мною? Я сейчас…
– Не торопись, – сухо сказал дворецкий. – Почтенный судья судей не нуждается больше в твоих услугах. У него теперь свой домашний математик. Весьма одаренный молодой человек.
– Молодой? – испугался Зубейр. – Одаренный? – И, сразу обессилев, шлепнулся жирным задом на кошму. – Из каких таких болот он вылез?
– Из Нишапурских.
– Проклятье! – Зубейр вскочил, забегал по келье. Его объемистое брюхо колыхалось, мотаясь из стороны в сторону, точно бараний курдюк. – Жили тихо, спокойно, в достатке. Откуда берутся на нашу голову эти одаренные? Давно, казалось бы, всех извели. Значит, я потерял верный доход? Твой господин уже не даст заработать.
– Не даст, – подтвердил Юнус. – Он осыпает деньгами нового помощника. Нынче утром двести дирхемов ему отвалил.
– О аллах! Как его зовут?
– Омар Хайям.
– Не слыхал о таком.
– Вот, услыхал.
– Хайям, Хайям… Странное прозвище! От арабского «хайма» – палатка?
– Или «хайя» – змея.
– Это скорей всего! Что же делать? – Зубейр беспомощно уставился на Юнуса. – Нельзя допустить, чтоб какой-то заезжий ловкач, юнец, хлеб у нас отбивал.
– К тому же он будет писать для судьи ученый трактат по алгебре, – подсыпал яду жестокий Юнус.
– О! Час от часу не легче. Он совсем нас погубит. Что же делать, а?
– Я тут… хочу изучить, опровергнуть… – Юнус показал ему книгу.
– Ты?! О боже! – Громкий хохот чуть не разодрал Зубейру нутро, а дворецкому – слух. – Мой дорогой! Лучше не пробуй. Поздно. Я всю жизнь занимаюсь алгеброй – и то иногда захожу в такой тупик, что хоть бейся головой о стенку.
– Тогда, – прохрипел огорченный Юнус, – на что мне эта дурацкая книга, куда ее деть?
– Оставь. Мухамед-аль-Хорезми? Загляну, полистаю.
Не доводилось.
Дворецкий слукавил:
– Я купил ее за шесть дирхемов.
– Хорошо. Уплачу. Когда-нибудь. – Он снова упал на кошму. – Может, – потер Зубейр ладонью низкий лоб, – пригласить его в медресе, испытать – и осмеять всем собранием? Нет, опасно. Если он и впрямь учен, то сам осмеет всех нас. Позор на всю страну! Позор, позор… Слушай! – вскинулся Зубейр. – Ты не заметил: нет ли у него… какого-нибудь изъяна? Порока? Дурной привычки?
– В двадцать два года?
– Ну, кто знает! Вспомни, каким негодяем ты был в двадцать два, А вдруг он мужеблуд или пьяница?
– Не похож. Даже хашиш не курит, стервец.
– Жаль. Повременим. Когда он приехал?
– Вчера.
– Э! Подождем. Если в нем есть червоточина, он успеет скоро ее проявить. А ты – наблюдай. Старайся заметить что-нибудь, за что можно уцепиться – и раздуть на весь Туран. Или, лучше всего, сам постарайся завлечь его в ловушку. Без женщин-то он, наверно, не живет? Подсунь ему дочь. Пусть она побудет с ним – и поднимет крик: он, мол, взял ее силой, нарушил девичью честь.
– Не выйдет, приятель! Ее девичья честь уже давно нарушена.
– Ну, это можно подстроить…
– Перестань! В тюрьму затолкать меня хочешь? Забьш, кто у него покровитель?
– Да-а, – уныло вздохнул Зубейр. – Судья судей – не уличный сторож. Ну, не горюй! Что-нибудь да придумаем. Все равно мы его доймем.
– Ну?
– Изведем, не сомневайся. Не впервые. Алгебра, алгебра, алгебра! Альмукабала. Пиши, любезный. Пиши свой трактат…
***
Вечер. Омар зажег светильник, и тотчас же из сада тучей налетела крььлатая нечисть. Мохнатые рыжие бабочки. Тонкие существа в белоснежных платьицах-крыльях. Жуки всевозможные.
Омар с детства до омерзения терпеть не мог мух, мокриц, червей, букашек. Какой-нибудь безобидный жучок, попавший за шиворот, приводил его в ужас, как скорпион. Лишь муравьи не вызывали у него отвращения. Они казались добрыми, умными, чистыми. На садовых дорожках он смотрел себе под ноги – не наступить бы на весело снующих муравьев.
…Ошалело металась летучая нечисть вокруг светильника, обжигалась, падала, взлетала вновь – и, конечно, лезла за шиворот. Нет, не дадут работать! Омар отставил светильник к дальней стене, и весь рой насекомых переместился вслед за пламенем.
И тут Омар увидел чудовище. Медленно перебирая лапами, приникнув долу, оно по-кошачьи кралось вдоль стены. Прыжок! – и нету жучка. И началось побоище… Он долго следил, не шевелясь, за большущей жабой (как она попала сюда?), прямо-таки потрясенный ее невероятной прожорливостью. Нацелится, прыгнет: чмок! – и нету жучка. Нацелится – чмок! – и нету белой сказочной феи с шелковыми крылышками. Златоглазками, кажется, их зовут?
Этих коварных великолепных фей она пожирала десятками. Но не боялась и крупных темных жуков, закованных в твердый панцирь. Они отчаянно сопротивлялись. Проглотив очередного такого громилу, она опрокидывалась на спину и хваталась лапками за брюхо: видно, жук царапал ее изнутри толстыми зубчатыми ногами. Но через миг-другой серая хищница опять бросалась в бой…
Можно позавидовать жабьему пищеварению. Интересно бы вскрыть, посмотреть, как устроен у нее желудок. Человеку бы этакий. А то иной съест сочную сливу и корчится от боли, несчастный. Вообще жаба – удивительное творение природы. Она достойна если не любви, то уважения. Кто еще, при столь безобразной внешности, обладает столь звонким голосом, рассыпающимся ночью задумчиво-долгой нежной трелью? Не то, что гнусно-утробное кваканье ее сестры лягушки.
Он не стал работать, чтоб ей не мешать. И светильник не стал гасить. Пусть жаба поохотится всласть. На рассвете, проснувшись, взял во дворе совок и веник и осторожно вынес ее в сад. Живи и радуйся бытию, божье создание.
***
Учен, а прост, душевен. Свой. С ним легко, хорошо. Таких бы побольше! А то чуть иной запомнит пять-шесть изречений из корана, уже воротит нос от нас, серых неучей.
Надо его предостеречь: Юнус затевает что-то злое. Когда человек сознает, за что ненавидит, это страшно; трижды страшнее, когда человек ненавидит кого-то слепо и тупо, лишь за то, что тот – "какой-то не такой". Он может зарезать спящего, задушить, влить яду в ухо…
Босой Али Джафар бесшумно прокрался по айвану к открытому окну той комнаты, где Омар, скрестив ноги и погрузившись в размышления, сидел над низким столиком с циркулем и линейкой поверх пестрых от вычислений бумажнь1х листов.
Нет, пожалуй, не следует ему мешать. Мысль – птица, спугнешь – не вернешь. Пусть думает, пишет. Он делает доброе дело. Будет порядок в казне – будет какой-то порядок в стране. И может, Али Джафар не останется до конца дней своих нищим дворником. Ему бы жениться, обзавестись домом, детьми, стать человеком. Он сам присмотрит за хитрым Юнусом.
Бегут за мигом миг и за весной весна;
Не проводи же их без песен и вина.
Ведь в царстве бытия нет блага выше жизни, —
Как проведешь ее, так и пройдет она.
…Омар расправил затекшие ноги, вытянул их под столом, упал спиной на ковер, сомкнул руки под головой. О блаженство! Каждая жилка, получив иное натяжение, затрепетала от удовольствия. Все тело ноет. Будто палками весь избит. Трудно дышать. Все тело закостенело. И надсаженный мозг закостенел. И будто трещина в нем, как в ушибленной кости. На среднем пальце правой руки, на среднем суставе – мозоль от тростникового пера…
Которую ночь, который день тут сидит. Омар не мог бы сказать. В юности он не верил поразительному рассказу о Фердоуси, двадцать пять тяжких лет терпеливо трудившемуся над книгой. Но теперь-то он знал, что это не выдумка.
Хуже всякой хвори – писать! Своего рода запой. Наркомания. Начинал он, правда, в первые дни, полегоньку, с утра на свежую голову и, едва ощутив утомление, бросал перо, уходил бродить по городу. Ясность! Математика – ясность.
Но чем дальше проникал Хайям в дебри таинственных фигур и чисел, тем труднее ему становилось вернуться из этих дебрей. И, что странно, тем больше нарастала ясность. Однако она грозила уже внезапным помутнением. Мозг, постепенно освобождаясь от посторонних впечатлений, весь наполнился уравнениями и, отрешенный от всего на свете, кроме них, как бы подавился ими – и даже глубокой ночью, во сне, не мог успокоиться, переваривая формулы, как удав проглоченную живность.
Ел и пил Омар, не замечая, что ест и пьет, что подсунет Юнус – курицу, черствый ли хлеб, горькую редьку. Едва возьмется Омар за кусок – в голове ярко вспыхнет новая иль отчеканится, обретет законченность, точно ком растрепанной шерсти в клубке пряжи, старая мысль; Омар, забыв о еде, спешит к рабочему столу, хватает перо. Грань между явью и сном незаметно стерлась.
Омар провел ладонью по лицу. Настолько засалилось, что ладонь густо покрылась жиром. На щеках, подбородке, на верхней губе – что-то мохнатое. Взъерошил волосы – жесткие, грязные.
Нет, хватит. Так нельзя! Вино, например, полезно, но вред его больше пользы, поэтому пить надо в меру. Работать – тоже. Надорвешься – уже ничего не напишешь. Пора встряхнуться, передохнуть.
***
Он услыхал где-то в саду, за хозяйственными строениями, тяжелый прерывистый стук. Будто по темени бьют! Омар и раньше, с утра, ловил его, но, увлеченный расчетами, пропускал мимо сознания. Теперь же, когда он прекратил работу, стук, редкий и частый, то звонкий, то глухой, сопровождаемый тупым непонятным скрежетом, будто доходя сквозь треснувшую деревянную трубу, грубо заквакал прямо у него в ушах. Черт! Было же сказано; следить за тишиною.
Раздраженно покинув комнату, Омар через двор вышел в сад. И чуть поостыл. Холодновато в саду. Смотри-ка, уже осень! Уже листва с деревьев опадает. Будто цыганскими платками увешаны деревья, каких тут нет красок: ярко-желтая, желтая с прозеленью, красная, ржаво-бурая, серо-голубая. Но сочнее, красочнее всех цвет листвы абрикосов: темно-вишневый, черно-лиловый, чисто багровый и яично-желтый. Особенно сейчас, когда, тронутая сыростью, растворенной в студеном воздухе, она тихо светится под остывающим солнцем.
Ураган, что ли, пронесся по саду? Он поредел, оголился, лежал весь в огромных пнях.
– Будем весною сад обновлять, – сказал, улыбаясь, Али Джафар. – Больные старые орешины все посохли. Надо убрать. Вот с рассвета вожусь, – Он пнул громоздкий пень, в котором торчал толстый железный клин. – Ох, устал. Корчую, раскалываю на дрова. Но разве я один справлюсь с этакой уймой работы? До зимы не успею.
– Дай-ка. – Омар взял у него большой молот.
– Что ты? Это занятие не для твоих тонких ручек.
– Отойди. – Омар замахнулся и нанес по клину такой удар, что железо разом ушло вглубь, пень с треском лопнул пополам.
– Ого! – воскликнул Али Джафар. – Сухопарый, а сильный.
– От нишапурской репы, – усмехнулся Омар. – Знаменитая репа! – вспомнил он несносного попутчика. – Воз стоит всего три фельса… – Разве мало он перетаскал тюков с тяжелой тканью в отцовской мастерской? И тюков, и туго набитых мешков с зерном и мукой с возов к амбару. Окрепнешь.
Али Джафар:
– Я-то их всю жизнь корчую и колю. Житель я сельский. Здесь – по воле недоброй судьбы. Наше селение попало в благословенный вакуф бродячих монахов. Ну, ты знаешь этих святых. Даже податей с них не берут, но им все давай. Совсем разорили общину. Пришлось мне искать работу в городе.
Вакуф? Омар потемнел. Икта, вакуф… Мало того, что "правая вера" калечит человеку мозг и душу, – она калечит ему жизнь, отнимая хлеб. Устроившись в Самарканде, Омар отправил с оказией письмо родным в Нишапур. Как они там, несчастные? Ответа еще нет. Долог путь караванный.
– Везде все то же, – сказал он мрачно. – Разве что где-нибудь в стране Рус человеку чуть легче жить.
– Бог весть. Где она, страна Рус! Сказано: хорошо, где нас нет. Я знаю одно – богатому повсюду хорошо, бедному повсюду плохо.
– Да, пожалуй. – Работа на свежем воздухе разогнала Омару застоявшуюся кровь. Дыша полной грудью, он разрумянился, повеселел. Но все-таки голова закружилась от непривычного усилия, на глазах выступили слезы.
– Знаешь что, брось ты пень ворочать, – сказал Али Джафар.
– Нет, мне это дело пришлось по душе. Ых! – Омар грохнул молотом по клину.
– Для тебя это отдых, забава, – проворчал недовольный Али Джафар. – А для меня? Не управлюсь я до зимы со всем этим хозяйством, – обвел он злым взглядом гору пней и поваленных серых стволов. – Хочешь сделать доброе дело – скажи хозяину, пусть наймет двух-трех помощников. На время, пока все дрова не расколем.
– Скажу.
– А ты, если хочешь очухаться от смертельных занятий наукой, – посоветовал ему Али Джафар, – и вернуть себе человеческое обличье, сходи лучше в баню. Пусть банщик разотрет тебе кожу, разомнет суставы и мышцы – сразу оживешь.
Омар – с радостью:
– Верно! Спасибо. Самому бы и в голову не пришло. Я сейчас какой-то бестолковый. Ничего не соображаю.
– Еще бы…
Омар в просторной раздевальной. Обернул простыней голые бедра, накинул на плечи особый банный халат. И зашлепал босыми ногами по мокрому каменному полу. Зал для холодных омовений. Далее – горячее помещение: ряд звездообразно расположенных комнат со сводчатым потолком. Пар над каменным чаном с теплой водой.
Уложив посетителя на скамейку, банщик с такой яростью накинулся на беднягу, что, казалось, хочет содрать с него кожу, выломать руки и ноги, выдернуть все сухожилия. Он крепко растер и звонко отшлепал Омара, больно прощупал мышцы от пяток до плеч и затылка, гулко простукал кулаками спину и грудь, – словом, бил его, мял и колотил, как гончар большой ком глины.








