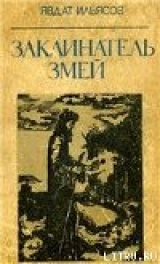
Текст книги "Заклинатель змей"
Автор книги: Явдат Ильясов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 21 страниц)
Затем Омар ополоснулся в горячей и холодной воде. Затем он попал к цирюльнику.
– Побрить? Будешь похож на девицу. По виду ты слишком нежен для мужчины. Оставим бородку? Или только усы?
Омар – сухо:
– Оставь бородку и не болтай! И без того трещит голова. – Разве он базарный щеголь, бездельник, усами людей удивлять? Он ученый. Ему к лицу бородка.
Закончив дело, лукавый цирюльник умыл его розовой водой и, отерев полою, поднес серебряное зеркало:
– Ну, как?
– Сойдет, – буркнул Омар, тем не менее очень довольный своей внешностью.
– Голова трещит, говоришь? Потрудись пройти сюда. – Брадобрей завел его в светлую сухую комнату с низким столиком, кошмой, где можно было прилечь, отдохнуть, поставил на столик поднос.
– Вот изюм, фисташки, урюк. Шербету? Но лучше всего, конечно, выпить сейчас чашу вина.
– Вина? – удивился Омар. – А грех?
– Грех упиваться допьяна. Выпить во здравие чашу – вовсе не– грех. Все на свете создано богом. Вино – тоже.
– Да, но пророк…
– Эх, родной! Ты, я вижу, человек ученый. И должен знать, сколько их было, разных пророков. Будда. Христос. Мани. Мухамед. И тьма других. Один объявляет запретным вино, другой – мясо, третий – женщину. Лишь бы в чем-нибудь и как-нибудь ущемить беднягу человека. К черту всех! Впрочем, о Христе. Помнишь первое чудо, которое он совершил? В Кане Галилейской (читал Евангелие?) он превратил воду в отменное вино. О чем это говорит? О том, что даже иной пророк предпочитает вино воде.
– Э, да ты безбожник?
– Почему? В бога я верую. В творца. Но не в бредни самозванных пророков. Человек, – уже потому, что он человек, – имеет право на радость, на любовь.
Брадобрей открыл в углу низкий ларь, вынул узкогорлый кувшин:
– Ну, допустим, вино осталось нам от старых темных времен, оно наследие проклятого язычества. А хлеб, одежда, постель? Их тоже не Мухамед придумал. Не запретить ли их тоже? Запретить, конечно, можно. Только… Знаешь, один чудак решил приучить своего осла ничего не есть. Долго приучал. "Ну как, – спросили соседи, – привык твой осел ничего не есть?" – "Совсем уже было привык, – вздохнул чудак, – да вдруг отчего-то умер". Налить? Одну чашу. Одна не повредит. Пойдет на пользу.
"Толкуй, толкуй, – усмехнулся Омар. – Ты хвалишь вино потому, что тебе его надо продать и деньги получить. Даже богословы, не будь у них иных доходов, тоже на всех перекрестках стали б кричать о пользе вина".
Носатый брадобрей выжидательно глядит на Омара длинными хитрыми глазами.
– Что ж, налей, – усмехнулся Омар.
Выйдя из дому, столько всего узнаешь, что ни в каком медресе не услышишь. Человек – бунтарь. И дело не в самом вине. Неверно думать: если нынче разрешат пить вино, то завтра все в мусульманской стране будут валяться пьяными. Кто хочет пить – пьет и сейчас, хоть вешай. Кто не хочет – палкой не заставишь. Дело в запрете. Запрет – оскорбление. Оно обидно даже рабу. Устает человек от бесчисленных запретов. Не спросясь его, его производят на свет – и пускают ковылять по дороге, сплошь уставленной рогатками сотен строгих запретов. И это – жизнь?
– Налей!
В этом мире на каждом шагу – западня.
Я по собственной воле не прожил и дня!
Без меня наверху принимают решенья,
А потом бунтарем называют меня.
– Верно! Сейчас. Но какого? – задумался цирюльник. – Горького мутного? Нет. Оно вредно тому, у кого пылкий нрав, а у тебя, похоже, именно такой. Базиликового? Тоже нет, – оно причиняет головную боль. Старого? Не годится для сухопарых. А! Я налью тебе вина из мавиза, крупного черного винограда. Оно подходит человеку с пылким нравом. Пей не спеша, смакуй. Эх! – произнес озабоченно мастер, уже без ужимок и усмешек, доставая другой кувцшн. – Уж лучше, чем огульно запрещать вино, спросили бы у нас, мугов-виноторговцев, и объяснили людям, кому какое вредно, какое полезно. Какое возбуждает, какое успокаивает. И не было бы пьяных и хворых. Вино – не забава, а лекарство, и обращаться с ним следует как с лекарством. Разве не говорил великий медик ибн Сина:
Вино для умных – рай.
Вино для глупых – ад;
Ты пей, но меру знай,
Вино сверх меры – яд…
«Толкуй, толкуй…»
Омар выпил, внутри загорелось. Давно, с времен приятельских пирушек в медресе, он не прикасался к вину.
***
Крик на базаре:
– Ведарииская ткань! Мечта эмиров и визирей. Наступает зима. Кому ведарийскую ткань?
У Омара, как селезенка у бегущей лошади, екнуло сердце. Эмирам, степенным визирям легко исполнить эту и любую другую свою мечту. А молодому бедному ученому?
Знаменитая ткань! Ее, великолепную, выделывают в селе Ведар, что в двух фарсахах от Самарканда. Чудоткань. Красивая, с желтоватым отливом, мягкая и вместе с тем – плотная, она не зря называется в иных краях хорасанской парчой. Но, жаль, слишком дорога для него. За платье из ведарийскои хлопчатобумажной ткани надо отдать от двух до десяти золотых динаров.
Ладно. – Что тут поделаешь? Успеется. Будет у нас со временем одежда из ведарийскои ткани. И даже получше. А пока, в эту зиму и в ту, и в третью, обойдемся халатом из грубого дешевого сукна.
– Гости из Хорезма, – сказал, запыхавшись, кто-то, пробегая мимо. – В правом углу базара – гости из Хорезма.
Что ж, надо поглядеть. Осенью, перед холодами, самый желанный гость в Согде и Хорасане – хорезмийский торговец. Он доставляет дешевую рыбу с низовьев реки Окуз. Но его основное богатство – меха: соболь и горностай, ласка, хорек, лисица, куница. Возет он также свечи и стрелы, рыбий клей, рыбий зуб, амбру, березовую кору, выделанную кожу, мед, славянских рабынь. Это все – из Булгара, куда неутомимые хорезмийцы часто ходят с большими караванами.
Омар, покрутившись в толпе знатных покупателей, решил отправиться домой. Ни бобровой шапки ему не купить, ни белокожей славянской невольницы. Успеется, пусть. Губы дрожали от обиды. Лучше всего – не ходить на базар, чтобы душу не травить. Ну их всех, с их мехами!
– Не спеши, дорогой, – услыхал он за плечами.
Омара остановил большой человек в мохнатой бараньей шапке, – ученый только что видел его средь хорезмийцев. Но говорит большой человек на тюркском языке. И лицо – смугло-румяное, с крепкими скулами, тюркское. Борода и брови черные. Но глаза! Омар никогда не встречал таких ярких чисто-синих глаз! Кроме как у Занге-Сахро.
На Востоке, даже у светлоглазых людей, не бывает очен чисто-серых, чисто-зеленых, синих, голубых. Они всегда с легкой карей примесью. По существу, это те же карие глаза с ясной прозеленью, просинью, с голубизной. Вот такие глаза неопределенно каре-зеленого цвета – у Омара Хайяма. Что при иссиней черноте вьющихся, длинных до плеч, густых волос свидетельствует, по мнению знающих людей, о жгучих страстях, невероятных возможностях.
По ним-то, видно, и заключил цирюльник, что у него пылкая кровь.
На то же, по слову ученых, намекает всякое несоответствие между цветом глаз и волос: темные волосы при светлых глазах или, наоборот, темные глаза при светлых волосах. Соответствие же между ними есть явление обычное и говорит об уравновешенности.
– Не скажешь, где тут можно глотнуть? – спросил приезжим. – Давеча пахнуло от тебя, ты близко стоял, – ну, думаю, он должен знать.
– В бане, – с улыбкой ответил Омар. Стоит выпить чашу вина, всякий встречный пьянчуга уже считает тебя своим дружком. – Ты откуда такой синеглазый?
– Я булгарин, – хмуро сказал человек в бараньей шапке.
– Слыхал о булгарах. Известный народ. Но почему ты один, как сюда попал?
– В наемной охране при хорезмийских купцах. Хочешь выпить? Пойдем.
Пьянчуга и есть.
– Нет. Я уже выпил чашу. Хватит.
– Верно, хватит. – Нет, видать, не совсем пьянчуга. – Ты еще молодой.
– Скоро назад?
– Не знаю.
Местный житель, – если, конечно, не считать огнепоклонника-цирюльника, – тот бы сказал: "Бог весть". Человек не имеет права знать и даже – не знать. Им распоряжается аллах. А приезжий говорит: "Не знаю". Слишком смело! Я. Человек. Не знаю. Еще один бунтарь.
***
Трудно сразу распознать человека. Если, конечно, он с ходу не кинется на тебя с ножом. Этот синеглазый булгарин с виду резок и груб, опасен, а на самом-то деле, похоже, неглуп и даже добродушен.
Так и с другими народами, племенами.
– Чтобы вникнуть в чужую мысль, – говорил шейх Назир, – мало перевести ее с одного языка на другой. Надо знать историю народа, быт и круг представлений. Стараться его понять. Нелегко, но надо понять, если хочешь жить с ним в мире.
***
"О чем должен думать человек, возвращаясь из бани домой? Не запылить бы только что вымытых ног. Скорей бы дойти, поесть. Прилечь, отдохнуть.
Нет, пожалуй, дело не в вине. Тому, кто не может и не хочет думать, влей хоть бочку – ничто не мелькнет, не блеснет в башке. Наоборот, даже то убогое подобие мыслеи, каким он пользуется ежечасно, заглохнет.
Всему виной – мой беспокойный разум. Не будь его – жил бы я себе припеваючи в родном Нишапуре, учил детей бессмысленным молитвам, читал и толковал коран – и получал плату в виде бараньих туш и мешков с зерном.
Совсем ни к чему человеку ум и одаренность. Он лишь навлекает ими на себя всеобщую неприязнь. Как, скажем, трехголовый верблюд, урод. Зайду-ка я в здешнее медресе, поговорю с учеными, – может, найдется место на случай, когда Абу-Тахир сменит милость на гнев".
Это кто, нелепый, нескладный, мечется у входа в медресе? Ужели дворецкий Юнус? Очень похож. Но зачем он здесь? С ним еще какой-то человек. Тот неподвижен, спокоен. Завидев Омара, дворецкий Юнус юркнул за столп огромного портала.
Омар насторожился: "Нет, не стану я заходить туда, где снует негодный Юнус".
– Здравствуйте, уважаемый товарищ по ремеслу! – с грустной усмешкой поклонился Омару румяный сдобный человек.
"Товарищ?" Омар с недоумением взглянул на его одежду – яркую, пеструю, какую носят преуспевающие торговцы. Но все же он доволен, что встретился с одним из местных ученых.
– Я счастлив видеть вас, дорогой собрат, – проникновенно и тихо продолжал самаркандец, упитанный, гладкий, точно рабыня для утех. – Меня зовут Зубейр. Я тоже занимаюсь математикой. Вернее, занимался. Теперь, с вашим приездом, видно, придется бросить ее. Говорят, вы пишете трактат по алгебре?
Он заметно пьян. В уголках губ запеклась какая-то бурая дрянь. Под глазами мешки, но в глазах – внимательность, осторожность и приветливость.
– Пишу, – ответил коротко Омар.
– Но разве в книге Хорезми мы находим не все, что касается алгебры?
– Не все.
– О! – воскликнул Зубейр, удивленный его смелостью. – Абу-Камиль?..
– Абу-Камиль, на мой взгляд, превзошел Хорезми. У него более развито алгебраическое исчисление, приведено обширное собрание примеров. Но, к сожалению, они ограничены лишь линейными и квадратными уравнениями.
– Аль-Махани?
– Да. Он включил в круг своих занятий кубические уравнения. Но и Аль-Махани не сумел решить задачу Архимеда о делении данного шара плоскостью на сегменты с данным отношением объемов.
– Ибн Аль-Хайсам?
– Он…
– Аль-Кухи?
– Это…
– Абуль-Джуд?
– Все далеки от полноты.
Потрясенный Зубейр начал трезветь. Втянув голову в плечи, потер виски ладонями и, не отрывая их от висков, как бы выражая этим ужас, уставился снизу вверх на Хайяма:
– Не слишком ли дерзко… я бы сказал – самонадеянно, даже хвастливо, звучит подобное заявление в устах молодого, еще никому не известного ученого? Вы покушаетесь…
– Но ведь наука не может стоять на месте, – смущенно сказал Омар. – Кто-то должен продолжать начатое другими и открывать новое. А? Известность же мне не нужна. Я хочу знать истину, и только.
Зубейр уронил ладони:
– Истину? (Зачем она тебе, сопляк ты этакий?) Аристотель, Эвклид, Аполлоний…
Омар поскучнел, махнул рукой. О чем и зачем говорить с такими? Ишь, ловкач! Запомнил несколько громких имен и, совершенно не зная, что за ними, пытается пустить пыль в глаза. Не на того напал. Морочь других. Он никогда не зайдет в их медресе. Неужели нет в Самарканде настоящих ученых? Ну, положим, старых истребили, разогнали, – должна же быть пытливая молодежь, где-то здесь живут математики, непохожие на преуспевающих торговцев?
Они, конечно, есть. И он их найдет.
– Прощайте. Некогда. Надо работать.
– Нет, что вы! Зайдемте. Отведайте нашего хлеба.
– Спасибо. В другой раз…
– Хм! От кого тут пахнет вином? – принюхался Зубейр.
Это было сделано так неожиданно и так неумело, грубо-неуклюже, что Омар чуть не прыснул. Но, сообразив, зачем, с какой целью это сделано, он сразу утратил охоту смеяться.
– От меня, – смиренно ответил Хайям, зеленый от злобы. – Что поделаешь? От одних пахнет вином, от других… – он произнес в рифму известное слово. Вот так, собрат, товарищ по ремеслу.
Общаясь с дураком, не оберешься срама,
Поэтому совет ты выслушай Хайяма:
Яд, мудрецом предложенный, прими,-
Из рук же дурака не принимай бальзама. Бедный Омар Хайям еще не знает, что есть негодяи похуже Зубейра. Но, даст бог, со временем узнает…
– Ну, как? – взволнованно спросил Юнус, когда Омар удалился, – дворецкий прятался во дворе медресе.
– Как, растак, разэтак! – накинулся Зубейр. – Гнус ты несчастный! Почему убежал? – И сдержавшись:– Плохо наше дело, брат. Умен, проклятый. Эх! Раз уж он выпил, как ты говоришь, у муга чашу вина, значит, этим не брезгует. Затащить бы в келью, упоить – и натравить мухтасиба. Срам! Судья наутро же выгнал бы его на улицу.
– Мы-то сами… не ахти какие трезвые.
– Зато – доносчики. Давно известно: вера доносчику. А нетрезвые… что из того? Выпей ты хоть целый хум вина, хоть захлебнись, в него свалившись, – кому от этого хорошо иль худо? Ты нуль. Омар же Хайям – единица. Вот ты, например: даже сомлел от удовольствия, когда узнал, что выпил с устатку Хайям. И тебе, конечно, и в голову не приходит, что сам – сплошь ошибка, неудача природы. Скажи, чем досадил Омар Хайям ничтожному дворецкому Юнусу? Ничем. Ты просто завидуешь ему. Его уму, его красоте.
– Ну, ну!
– А, ты возмущен? Видишь. Ты, олух, не способен даже понять, отчего недоброжелателен к нему.
– Себя бичуешь! – прошипел Юнус. – Разумеешь?
– Разумею, – буркнул Зубейр. – Омар Хайям, Омар Хайям! Что нам делать с тобою? Юнус:
– Ума не приложу! Я подкинул жабу в жилье, чтоб напугать, – и только доставил ему удовольствие. Наблюдает, смеется, собачий сын.
– Природовед.
– Надо было кобру подкинуть.
– Он бы заставил ее ловить мышей. Слушай, ты сам – не лучше кобры. Ты носишь еду – можешь его отравить.
– Что ты, господь с тобою! У меня – жена, дети. Я жить хочу.
– Жить? Стой! – Зубейра затрясло, как в лихорадке. Дурак-то дурак, но не совсем он дурак. – Пусть пишет свой трактат. Ты ему пока не мешай. Напишет – украдешь и мне отдашь. Я тебе хорошо заплачу.
– Триста… Триста пятьдесят золотых динаров.
– Будут.
Алгебра, алгебра, алгебра!
Альмукабала.
Пиши, любезный. Пиши свой трактат…
Но Омару не хотелось писать. В голове пусто. Он перелистал рукопись и бросил ее. "Перенести вычитаемые члены уравнения в другую его часть, где они становятся прибавляемыми"… "Взаимно уничтожить равные члены в обеих частях уравнения"… "Коэффициент при старшем члене уравнения приводится к единице"… Чепуха! Детский лепет. Пока что ничего примечательного. Все это есть у его – предшественников. Но и без них, этих простых задач, трактат будет неполным, поскольку он должен служить повседневным руководством в спорных делах.
Самое сложное – впереди. Он вплотную подступил к третьему разделу трактата. В голове четко обозначилась цель: построение корней нормальных форм уравнений третьей степени.
Но ему не хватало живых примеров, – как человеку, засидевшемуся в наглухо закрытой комнате, не хватает свежего воздуха.
Омар сказал об этом судье.
– Понимаю, – кивнул Абу-Тахир. – Что ж. Поедешь завтра со мною за город. Побываешь в садах, в полях. Наберешь, – усмехнулся он с горечью, – столько живых примеров, что хватит на десять трактатов.
– Хорошо. И еще: Али Джафар просит нанять ему в помощь двух-трех работников. Ему одному не управиться к зиме с дровами.
Абу-Тахир внимательно пригляделся к нему:
– А мог бы. Ну, ладно. Скажу дворецкому, наймет.
***
Вернувшись к себе, Омар обнаружил девушку с открытым лицом. Служанке это не возбраняется. Она занималась уборкой. Ясное личико, простое и чем-то родное. Чем-то очень отдаленно напоминающее лицо Ферузэ. Он и внимание обратил на нее потому, что заметил какое-то сходство с Ферузэ. Ах, Ферузэ! Неужели она будет преследовать его всю жизнь? Наверно, Ферузэ в юности была такой же незатейливо-хорошенькой, милой. Была. Он помнит.
Но Ферузэ – крупнее, дороднее, а эта – совсем уж крохотна. И рост маленький, и рот, и носик; ручки, ножки – вовсе детские. Только глаза – большие, золотистокарие, с каким-то особенным разрезом. И взгляд – взрослый, серьезный. Даже какой-то больной. Будто она сейчас закричит. Поэтому трудно понять, сколько ей лет: может, двенадцать, а может, и все восемнадцать.
Все женщины, которых знал Омар, были старше его. Видно, потому он так рано повзрослел.
– Как тебя зовут?
– Рейхан.
…Отбивалась она не слишком упорно. Похоже, он тоже пришелся ей по душе. И вдруг оттолкнула его, произнесла лихорадочным шепотом:
– Дашь золотой – приду к тебе ночью…
– Золотой? – Он выпустил ее из рук. – Зачем тебе золотой? – спросил он удивленно.
– Как зачем? – удивилась она в свою очередь. – Всегда пригодится. Жалко? Или денег нет?
– Деньги есть. Не жалко, – смущенно сказал Омар. – Но… – Одета, обута, сыта, есть крыша над головой. Зачем ей деньги? Чтоб утолить природную жадность? И как, во сколько оценить вихрь чувств, забурливших в нем? Их на динары не переложить. – Видишь ли, я до сих пор… платил за любовь любовью. Не знал, что ее можно купить за деньги. Теперь буду знать.
Рейхан уставилась ему в глаза своими яркими, необыкновенными глазами. "Златоглазое чудовище, – подумал Омар, вновь загораясь. – Нет, я тебя не упущу. Золотой? Получишь".
– Я… хочу собрать на выкуп. – Она расплакалась. – Выйти из рабства… вернуться домой, в Ходжент.
Вот оно что! Омар потемнел, сгорбился, устало опустился на тахту. Да. Ведь есть еще и эта сторона жизни. Хорошо, он обменял в бане, чтоб легче было хранить, часть своих дирхемов на динары. Тридцать пять серебряных монет за золотую. Омар подозревал, конечно, что веселый муг его обжулил. Ну, бог с ним. Обойдемся. Не пропадем.
– Я дам тебе пять золотых, – сказал он угрюмо. – А ночью… можешь не приходить.
Но Рейхан явилась.
После долгой мучительной ночи он все же встал бодрый, жизнерадостный, довольный. Рейхан уже нет. На видном месте, на столике с расчетами, Омар нашел свои пять монет, которые вручил ей в темноте.
***
– Приболел? – сказал Абу-Тахир, взглянув на его вспухшие губы.
– Лихорадит, – покраснел Омар.
– Бывает, – усмехнулся судья понимающе. – Надо беречь здоровье. Говорят, от лихорадки помогает пахучий базилик – рейхан. Может, не поедешь?
– Поеду! Непременно поеду.
– Что ж, в добрый час. – Лицо у судьи суровое, строгое, а в глазах – затаенный смех…
***
– Это Мухтар, мой письмоводитель, – познакомил судья Омара с высоким худым бледным юношей. – Он из крестьян. Неплохой математик. Хорошо знает сельскую жизнь, – расскажет тебе о здешних делах.
Осень. В малых оросительных канавах воды уже нет, в крупных она неподвижна, прозрачна, ее стеклянная поверхность осыпана палой листвой. И небо стеклянное. И ветер – стеклянный. В пустых садах – тихий шум. Облетают последние листья. В их легком шорохе, в оголенных ветвях, в стылом воздухе – печаль, задумчивость. В эту пору в садах всегда почему-то грустно.
И, видно, от этой грусти землемер, ехавший на ослике, достал из переметной сумы флейту, взглянул на Омаровы губы и сунул ее Мухтару.
Певучий пронзительный звук далеко разнесся по густому холодному воздуху. Казалось, это вскричала забытая людьми дорога, возопили, страшась близких морозов, тонкие ветви плодовых деревьев, обратился в плач нежный смех детей, бегавших в саду еще недавно, летом. Нет, невмоготу. Флейта захлебнулась низким судорожным стоном. Мухтар, вздохнув, вернул ее землемеру. Омар кивнул ему благодарно.
Слезть бы с лошади, бросить ее и побрести, шурша сухой листвой, в заманчивую, таинственную глубь огромных безлюдных садов. Хорошо бы в самом укромном месте, вдали от дорог, соорудить шалаш и жить в нем. Одному. Нет, с Рейхан. Яблоки есть. Спать. Никого не видеть. Устала голова.
Яблоки? Омар усмехнулся своей наивной мечте. Их нет. Снят урожай. Вывезли его. Он окинул деревья зорким взглядом и заметил высоко на ветке одно забытое крупное бледно-зеленое яблоко. Одно-единственное на весь сад. Вот удача!
Он спрыгнул с лошади, подобрал с земли корявую жердь, – одну из тех, которыми в конце лета подпирают ветви, усеянные тяжелыми плодами, – и попытался достать заветное яблоко. Но жердь оказалась короткой. Бросил ее, взял ком сухой земли, кинул – мимо! Второй – мимо! Мухтар не утерпел, присоединился к нему.
Но зловредное яблоко никак не хотело падать. Шуму было, смеху! Причем Омар смеялся, забавно выпятив больные губы: гю-гю-гю! – и уже одно это вызывало неудержимый смех у других. Страж, сопровождавший вместе с землемерами судью судей, сжалился над молодежью, привстал на стременах и сбил упрямое яблоко острием копья.
Веселые, румяные, вновь взобрались на лошадей.
– Грызи, – не глядя, сунул Омар злополучный плод Мухтару.
– Сам?
– Я мало охоч до яблок.
– Я тоже. Сестренке отдам. Спасибо. – Мухтар спрятал счастливое яблоко за пазуху.
Омар вспомнил о своей сестре. Ему захотелось плакать. Вестей от родных все нету.
"Совсем еще дети, – подумал тронутый Абу-Тахир. – И не поверишь, что эти юнцы – лучшие математики в Самарканде. Велик аллах! Он знает, в чью голову вложить свет высокого разума".
***
Поехали дальше.
– Завидно, – кивнул Омар на крестьянина, сгребавшего под деревьями сучья, сухую листву. – Полезный труд. Всегда на свежем воздухе.
Тот угрюмо взглянул на них, нехотя бросил грабли и туго, как деревянный, согнулся в поклоне. Считалось, что он выражает важным проезжим почтение, но походил-то он скорей на драчуна, который сейчас разбежится и головой разобьет тебе лицо.
– Нечему завидовать, – хмуро сказал Мухтар. – От труда ему никакой пользы. К свежему воздуху нужен еще хлеб. Хоть черствый, если не свежий. Видишь, как он изможден?
– Ну, имея такой сад…
– В том-то и дело, что сад чужой. Он принадлежит ханаке. И сад, и поле вокруг. Знаешь, что такое джуфти-гау?
– Земля, которую пахарь может обработать в сезон парой быков? – сказал Омар неуверенно.
– Да. О аллах! Какими единицами мы пользуемся? Воду мерим, сколько хватит на мельницу, груз – сколько поднимет осел, расстояние – криком, шагами, длину – локтями, пядью. Удивительно, что мы еще что-то создаем! Спасибо простому народу, ремесленному люду, скромным умельцам. Их ясной голове, их зоркости, точному глазомеру, чутким рукам. А то бы мы понастроили… Кто может сказать, чему равен джуфти-гау?
– Тюркскому кошлугу, – припомнил Омар.
– А кошлуг?
– Не знаю.
– Никто не знает. Неразбериха! Будь я ученым, подобным тебе, прежде всего уточнил бы раз навсегда все меры: веса, емкости, поверхности, расстояния. Чтоб не оставалось лазеек для злоупотреблений…
В окрестностях Самарканда, рассказал Мухтар, пятнадцать – двадцать тысяч джуфти-гау земли. Из них крестьянским общинам и городскому торгово-ремесленному люду принадлежит:
по каналу Искандергам – 1486,
по каналу Мазахин – 2750,
по Санграсану – 275 джуфти-гау.
Итого – 4511.
Все остальное – вакуф, собственность мечетей, медресе, монастырей. И шейхов, имамов, ишанов, сеидов,[6]6
потомков пророка
[Закрыть] свободных от всяких повинностей. Налоги за всех вносит в казну бедный мужик.
– Крестьянам не на что жить, – тихо сказал Мухтар. – Им приходится волей-неволей занимать вакуфные земли. И святые отцы не прочь присоединить их участки к своим владениям. Какой-нибудь шейх, располагающий тридцатью джуфти-гау, силой захватывает столько же чужой земли – и потом уверяет, что все вместе и есть тридцать джуфти-гау, на которые он имеет право. Отсюда раздоры. Дело доходит до буйства. Абу-Тахир же человек миролюбивый. Главное для него – спокойствие в округе.
Джуфти-гау, как я уже сказал, мера спорная. Она определяется на глазок. Ведь пахарь пахарю рознь. Как и бык – быку. И земля – земле. Нам надлежит, опросив население, выявить давно и хорошо проверенньв"! участок, который можн" р взять за образец, поговорить с пахарем, посмотреть быков, с которыми он работал, – и уточнить, наконец, чему же равен джуфти-гау. Будем мерить танапами, потому что танап – более или менее точная мера. В одном танапе – сорок кари, в кари – шесть ладоней, ладонь равна четырем пальцам, палец-шести ячменным зернам. Прости, ты без меня хорошо знаешь, что чему равно, однако, может быть, у вас, в Нишапуре, другие меры. В каждой округе свой курух, свой дирхем, свой танап. Говорю, неразбериха. Будь я ученым…
– Ты будешь им, – заметил Омар.
– Если ты будешь меня наставлять.
– Ox! Кто бы меня наставлял, – вздохнул Омар.
– К весне надо перемерить все участки, чтобы прочно закрепить за каждым владельцем свое. И тем самым устранить споры-раздоры. Задача трудная. Без твоих уравнений ее не решить. Можно, я как-нибудь загляну к тебе? Почитать твой трактат.
– Приходи. И почаще.
***
…За целый день, в хлопотах на свежем воздухе, перекусывая лишь всухомятку, основательно проголодались. Уже темнело, когда заехали в ханаку подкрепиться горячей пищей.
Ханака представляла собою чуть ли не военную крепость. Волосатые, грязные, но отнюдь не тощие, дервиши, накурившись хашишу и наевшись плову или гороховой похлебки, расползлись по своим вонючим норам. Из темных смрадных келий доносились вскрики, стоны, всхлипывания. Дармоеды проклятые. Самый вредный, самый никчемный род людей. Вши в человеческом образе. И ведь считается, что они – святые…
Омар не притронулся к еде.
– Справедливо ли это, – обратился он к Абу-Тахиру, когда они отправились по темной дороге домой, – чтобы столько земли, лучшей в округе, принадлежало тем, кто никогда не держал в руках мотыгу? Отдать бы ее крестьянам – какое изобилие плодов, сколько хлеба получило бы государство!
Абу-Тахир долго не отвечал. Омар мог едва различить во мраке его угрюмо склоненную голову.
– Монахи – наши заступники перед аллахом, – хрипло сказал, наконец, Алак. – Их надлежит чтить. – И помолчав еще немного:– Не нами сей порядок заведен, и не нам его менять. И мой тебе совет: таких вопросов больше никому не задавай. Особенно – судье…
Омару не работалось. Надорвался, что ли, от непосильных трудов недавних дней? Или чаша вина сбила его с толку? Или Рейхан? Нет, не вино. И даже не Рейхан. Его отравила ханака. До сих пор он не может забыть тягостный смрад притона святых наркоманов. Если вместе с молитвами монахи возносят к престолу аллаха всю свою вонь, способен ли вникнуть аллах в суть их молитв?
Или вонь – это и есть их суть?
Бедный старик Мохамед, – сколько, верно, таких и в Самарканде! – бьется где-то в горах на жалком клочке каменистой земли, чтоб взрастить горсть ячменных зерен… А тут здоровенные ражие мужчины, на которых бы землю пахать, как на быках, по три джуфти-гау в день, ведут совершенно бессмысленную, праздную жизнь, и за это им – все блага на земле. И еще вечное блаженство в загробном мире.
Получает в награду дурак и подлец,
А достойный идет в кабалу из-за хлеба, —
Мне плевать на твою справедливость, творец.
Невмоготу! Его охватила жуть, внезапная тревога. Будто потолок в тяжелых балках вот-вот обрушится на голову… Омар взглянул, как на змею, на свернутый под столиком землемерный шнур-танап, который он взял для расчетов, полистал книжицу для записей, швырнул ее в угол и выскочил в сад, повидать Али Джафара.
…Их было четверо. Прежде, чем приступить к делу, они забавлялись мутным дешевым вином, закусывая его ломтиками редьки, посыпанными солью. Увидев чужого, новички, нанятые в помощь Джафару, испуганно прикрыли кувшин одеждой.
– Не бойтесь, – успокоил их Али Джафар. – Он – наш, хоть и ученый. Прошу любить и жаловать: Омар Хайям.
– Аман.
– Усман.
– Хасан.
Омар удивился, увидев средь них синеглазого булгарина:
– И ты здесь?
– Хочу заработать несколько монет. С караванщиками я не поладил. Отстал от них. Надумал жить в Самарканде.
– Ну, на этих пнях-корягах не очень-то много заработаешь.
– Оно так. Вот ты человек ученый. Не купишь ли, Друг, у меня книгу? Старинная книга. Румийская.
Он достал с расщепленного пня потертую сумку, порылся в ней, вынул тугой пергаментный свиток. Развязал, отвернул конец широкой полосы и огорошил Хайяма:
– "Атараксия". Изложение Эпикурова учения. Омар даже вздрогнул! Давно хотелось ему ознакомиться ближе с прогремевшим этим учением. Но булгарин, взглянув на Омара, тут же остудил его порыв:
– Нет, пожалуй, такому юнцу оно ни к чему. К Эпикуру прибегает человек усталый, битый, хмурый, который ищет отдохновения от мира с его бескоп-чными дрязгами. У тебя же все впереди. Успеешь.
Омар – с горечью:
– Похоже, мне, при моих повадках, очень скоро придется прибегнуть к нему.
Руки тряслись у Хайяма, когда он взял у булгарина тяжелый свиток. Ровные четкие строки. Какая жалость! Греко-румийского языка он почти не знал, – запомнил лишь то, чему учил его, между делом, шейх Назир. Но ведь то, чего не знаешь, можно узнать!
– Не читаешь по-румийски? – догадался булгарин по досаде в глазах молодого перса. – Буду учить, если будешь, хотя бы помалу, давать на хлеб и вино.
– Смог бы. Когда закончу свой трактат. Но ты… тыто откуда знаешь румийский? И вообще, откуда у тебя эта книга? Средь караванных охранителей грамотных вроде быть не должно.
– Как знать, – усмехнулся приезжий. – А книга… она издалека. Ладно. Я вижу, тут все – свой народ. Так уж быть, расскажу о себе. Я, братья, никакой не булгарин. Я – рус.
– Неверный? – ахнул Аман.
– Да, христианин, – подтвердил гость. – Ты не бойся. Я не кусаюсь. Не шарахайся от меня. Вместе ели, вместе пили, – чего уж теперь. Имя мое – наше, славянское – Светозар. А христианское – Феодул.
– Эк откуда тебя занесло! Пейдул? – переспросил Омар. – Светозар, Пейдул… Не знаю, как по смыслу, на слух Светозар звучит гораздо лучше.
– И по смыслу – гораздо лучше, – ответил Светозар. – Феодул значит "раб божий".
– У нас тоже старые, иранские, имена лучше звучали: Вартазар, Тигран, Ануширван. И тюркские: Алгу, Бейбарс, Тарагай. А нынче… – Он потешно закатил глаза:– Абу Амр Ухайха ибн аль-Джулах, – чуть не задохнувшись, он сглотнул слюну, – ибн Абд аль-Ваххаб ас-Сафа! Кто, не зная арабского языка, может запомнить – и сказать, что это значит? Светозар-Пейдул…
Рассмеялись. И возникла между ними всеми сразу та особая близость людей добрых и честных, когда у них всех – одно сознание: они друг другу свои, и никто никому ничего плохого не сделает. Доверие. Четверо мусульман: ученый математик, дворник и безземельные селяне, совсем забыв о том, что Светозар – чужой по вере, слушали его повесть как индийскую сказку.








