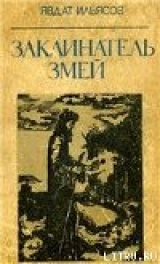
Текст книги "Заклинатель змей"
Автор книги: Явдат Ильясов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 21 страниц)
Родившись где-то в селе на Днепре, Светозар трех лет попал в печенежский полон. Десять лет пропадал в неволе. Потому-то он так хорошо знает степную речь. Средь волжских булгар может сойти за булгарина, средь тюрок туранских – за тюрка. Однажды русское войско, побив печенегов, освободило пленных. Человек одинокий, безродный, Светозар был определен послушником в Киево-Печерский монастырь.
– Вроде нашей ханаки? – заметил Али Джафар.
– Вроде.
Здесь он заново приобщился к русской речи, научился письму и чтению, и румийский язык одолел, и еврейский. Грамота в почете на Руси. Но зато бит и обижен "многажды и без правды". Всего же обидней бьшо ему за смердов, – ведь он сам из них: монастырь захватил всю землю в округе, и мужики через то впали в нищету. От печенегов – терпи. От князей своих – терпи. И еще – от бездельных монахов, ненасытных слуг божьих. Иль оно бесконечно, людское терпенье?
– Все как у нас, – вздохнул Омар.
– Большое зло накопилось в народе! – продолжал суровый Светозар. – Знаешь, в засуху: оброни в траву хоть искру малую, сразу вспыхнет вся степь. Так и тут – подвернулся случай. В позапрошлом году налетело с диких полей новое племя враждебное, кипчаки хана Шарукана, – на Руси их прозвали половчанами. На реке Альте пришельцы расколотили Князей Ярославичей, такого страху нагнали на них, что Святослав утек в Чернигов, Изяслав и Всеволод укрылись в Киеве. Бедный люд сбежался на сходку – вече, запросил у Изяслава коней, оружие, дабы отбиться от скопищ половецких. Изяслав отказал. То ли не захотел, боясь свой же народ, то ли негде было взять.
И сотворился бунт. Хотели убить Коснячка-воеводу, злодея, он убежал. На княжеском дворе устроили погром. Стефана, епископа Новгородского, гостившего в Киеве, удавили его же холопы.
– Епископ – вроде нашего муфтия? – определил Омар.
– Вроде.
– Удавить святого муфтия? – изумился Аман.
– А что? Поделом ему.
Толпа мятежных людей, поведал далее Светозар, напала на Киево-Печерский монастырь, чтоб захватить "в полатех церковных… имение их сокровена".
Он признался:
– Я вел тех людей. Ибо проведал путь в ризницу, хранилище богатств монастырских…
– Ограбить святую ханаку? – поразился Усман.
– Зачем ограбить? Вернуть свое. И дотла разорить гнездо проклятых истинных грабителей. Житья от них не стало.
– Как у нас, – отметил Али Джафар.
– Ну, было больше крику, чем проку. Постигла нас неудача, – поник головой Светозар. – Изяслав, бежав за рубеж, вернулся с войском Болеслава, польского царя, и учинил над нами расправу жестокую. Иных ослепил, иных – лишил живота. Мне удалось спастись. Попал я, после долгих мытарств, на Волгу, в славный Булгар, нанялся в охрану караванную – и вот уже здесь.
– А дальше?
– Назад мне путь заказан. Видно, так и буду бродить с караванами. Может, вернусь домой лет через десятьпятнадцать, когда забудется все.
Странно как-то стало у них на душе: будто земля широко раздвинулась и наполнилась гневными голосами. Мы, занятые всегда лишь собою, не знаем, что вот сейчас, сей миг, где-то далеко-далеко, в чужой стране, кипят те же страсти, что здесь, и люди, такие же, как мы, бьются за такой же кус хлеба.
– Похоже, у вас – все как у нас, – подвел черту Омар. – Одного у нас не может быть; князей гонять, монахов бить. Мы народ послушный, смирный, богобоязненный.
Али Джафар – с хитрецой:
– Не всегда мы были смирными! Богачи забывчивы. Народ все помнит. Мой дед – мир его праху – рассказывал: в Бухаре бедняки (давно это было) взбунтовались против царя, и помог им пришлый тюрк Абруй. Крепко досталось тогда ханам! Выкинули их вон из Согда. Но другой тюрк, степной правитель Кара-Чурин, подавил восстание. И был еще Муканна, вождь "людей в белых одеждах", который долго и храбро сражался против халифских войск. И не так уж давно, в Табаристане…
– А в Рометане, где селяне напали на Исмаила Самани? – подал несмелый голос Аман.
– У нас, в Самарканде, Исхак ибн Ахмед бунтовал, – тихо заметил Усман.
– И карматы возмущались, – напомнил Али Джафар. – Так что, как видишь, смелости нам не занимать.
– Ну, это когда происходило? Все в далеком прошлом, – уныло махнул рукою Омар.
– То, что хоть раз случилось в прошлом, говорил мой дед, – непременно повторится в будущем. Выпадет случай, опять подымем восстание, – прошептал Али Джафар, оглянувшись.
– Бунтуйте, бунтуйте, что толку? – пробормотал Омар, внезапно задумавшись.
Бунтовать – дело Али Джафара и этих троих. Дело Омара – помочь бедному люду своими знаниями.
Если всего час назад ему было тошно даже думать о работе, то сейчас у него в груди заныло, руки затвердели от желания скорее взяться за перо и бумагу. Ибо теперь работа приобрела смысл. Чем быстрее он закончит трактат, тем скорее наступит мир на многострадальной земле. Не станет путаницы в алгебре – не станет раздоров средь людей. Ясность – честность. За работу! Сейчас же за работу…
– Вот что! Я тоже изгой. Я куплю твою книгу. Сколько дирхемов тебе дать за нее?
– Считать дирхемами я не умею: у нас монеты не в ходу. Гривны у нас, бруски серебра. От них отрубают сколько нужно.
– Зато мы с Али Джафаром умеем считать дирхемами, – наскреб охоты пошутить Омар. – Мы с ним вместе книгу одну покупали.– (Али Джафар, покраснев, хохотнул). – Что ж, книга твоя старинная, редкая – даю за нее десять дирхемов. На, держи. Ты где ночуешь?
– В караван-сарае у Ходжентских ворот. Спросишь Хасана-Булгара.
– Хорошо. Я тебя найду. Будешь учить меня румийскому языку. Удобней бы здесь, но здесь я сам чужой.
– Разумею. Верно, придешь?
– Когда закончу трактат.
Пиши, любезный. Пиши свой трактат. Из калитки, ведущей во двор, на них глядел дворецкий Юнус.
С кумиром пей, Хаиям, и не тужи о том,
Что завтра встретишь смерть ты на пути своем!
Считай, что ты вчера уже простился с жизнью,
И нынче насладись любовью и вином.
Молодой змей ненасытен.
Он стремителен в порывах ублаготворить свою законную прожорливость. Весь мир человеческих знаний и весь мир человеческих ощущений хотел постичь Омар ясным умом и чистым сердцем. Не потому ли такое важное место занимала в его душе Ферузэ, а теперь захватила Рейхан? Отчего бы и нет?
Он не видел ничего зазорного в их отношениях. Как и в той чаше чистого вина, что выпивал с устатку. Они ему на пользу. Он человек здоровый. Он до сих пор не знает – и до конца своих дней не узнает, что такое боль в животе и что такое зубная боль.
– Ты почему не взяла пять монет? – сказал Омар, наливая ей чашу вкусного вина, когда Рейхан опять пришла к нему ночью, распространяя, в оправдание своего имени, пряный запах душистого базилика.
– Пять монет? Э! – Рейхан беспечно махнула рукой. – Все равно их не хватит на выкуп. И еще, ты меня… пристыдил. Я тоже хочу… платить за любовь – любовью. А там… будь что будет.
– Ах ты, златоглазое чудовище! – Он с силой привлек ее к себе.
Напрасно Омар боялся, что она будет ему мешать. Наоборот! Рейхан дополнила, уравновесила жизнь. Работал он теперь без срывов, без сумасшедшего напряжения, перестал шарахаться от каторжного труда к тупому скотскому безделью. Все встало на свои места. Есть Рейхан. Есть вечерний кубок вина в награду за тяжелый труд. От них – спокойствие, уверенность, невозмутимое терпение.
Часто, считай, через день, приходил Мухтар. Позабыв о еде, о питье, о житье-бытье, они час, и другой, и третий колдовали с циркулем и линейкой над широкой доской, посыпанной пылью. Иногда выезжали за город, мерить участки. Но в ханаку, к дервишам, Омар не хотел больше заглядывать. Пусть Али Джафар с друзьями, как время приспеет, шарит у них в «полатех», чтоб захватить "имение их сокровена"…
Терпение терпением, но усталость все же берет свое. Железо и то устает, ломается. Зима позади. Если б Омара спросили, какой она была: морозной, снежной, влажной, сухой, он не сумел бы ответить. Он не заметил ее. Проглядел и весну.
И вот однажды, уже в начале необыкновенно знойного лета, взлохмаченный, бледный, Омар, потрясая линейкой и циркулем, накинулся на судью Алака и Мухтара, зашедших его проведать:
– Уравнения третьей степени? Решать их с помощью вот этих безделушек? Нет! Только с помощью надлежаще подобранных конических сечений. Конических сечений! – Он, совсем забывшись, схватил, как драчун, судью за грудь. – Вернее, тех их частей, которые дают положительные корни. А?
– Согласен, родной, согласен! – Судья попятился в шутливо-притворном испуге. – Кто возражает? Уж мы-то намучились с ними, с треклятыми уравнениями!
– Вот. – Омар сунул Мухтару чертеж.
– С помощью конических сечений? – потрясенный Мухтар закусил губу, отер мгновенно вспотевший лоб. – Верно. Иначе и быть не может. Поздравляю! Ты первый сказал об этом. Первый в мире.
***
…Пройдет 566 лет, прежде чем Декарт в Европе придет к такому же выводу, и еще 200 лет, пока это докажет Ванцель…
***
Омар опомнился, устыдился своей горячности.
– Разве? – сказал он с недоумением. И радостно:– Да, и вправду! Но… как же раньше не догадались? Так просто…
– Ждали тебя. Не каждый год совершаются открытия.
– Да, да, конечно, – произнес рассеянно Хайям, опять переключаясь мыслью на свой трактат.
…Через десять-пятнадцать дней он выйдет во двор и с равнодушным, как у слепого, безмятежно-тупым выражением на лице, не стесняясь судьи, скажет Али Джафару:
– Сбегай к мугу, принеси большой кувшин вина. Самого лучшего! Будем пировать.
Подойдет, как больной, к помосту под вязом, растянется на спине, закинет руки за голову – и с мучительным стоном замотает ею.
– Что с тобой? – всполошится Абу-Тахир.
И дворецкий Юнус, навострив слух, услышит отрешенное, даже враждебное, – так иной с тихим отчаянием, покорностью судьбе и готовностью понести любое наказание сказал бы, что убил жену:
– Я… закончил свой трактат.
Алгебра, алгебра. Альмукабала…
***
– Омар, вставай! Омар – Молодой математик, проснувшись от крика во дворе, поплелся, еще не совсем отрезвевший, на террасу-айван, изумленно уставился на Али Джафара и Юнуса, сцепившихся в безобразной драке. Вокруг них суетился, ругаясь, Алак.
– Он украл твой трактат! – Али Джафар свирепо рванул дворецкого за рубаху, – на землю, разлетаясь, с шорохом посыпались исписанные листы. – Я все утро следил за ним. Ты спал, он залез и украл твой трактат! За пазуху спрятал, проклятый.
Дворецкий, затравленно озираясь, резко нырнул вниз, живо сгреб листы – и кинулся в сторону. У ворот – стража. Отрывисто, по-крысиному вереща, он заметался по двору. Ни злобы, ни даже страха нет у него в глазах, только какая-то мутная, непонятная возбужденность и поспешность.
"Зачем это он? – подумал Омар. – Зачем?"
Настигаемый Али Джафаром, дворецкий прыгнул под навес летней кухни и швырнул рукопись в огонь открытого очага…
Высоко взлетело пламя!
Обернувшись к Омару, дворецкий мстительно усмехнулся.
"Зачем?"
Бумага, в отличие от дров, горит без особого шума и треска. Но какой беззвучно-страшный вопль взметнулся к небу от этих листов, испещренных вязью четких строк! На глазах у всех обращались в дым и пепел расчеты и траты Абу-Тахира. Упования безземельных селян, нежный лепет их детей. Мечты Омара Хайяма. Надежды Али Джафара на лучшую жизнь.
– Зарублю! – Али Джафар, сумасшедше сверкая глазами, схватил топор и широко замахнулся им на преступника.
И, видит бог, зарубил бы, если б судья не успел крепко схватить его за плечи.
– Пропал твой труд! – заплакал Али Джафар, отбросив топор. – Столько сил, столько времени…
– Не пропал, – зевнул полусонный Омар. – Он украл и сжег черновик. Трактат – под замком, в сундуке.
– А? – Юнус опешил.
Он отчужденно взглянул на очаг, где листы уже превратились в черные хлопья, вновь обернулся к Омару – и вдруг, по-крысиному тонко взвизгнув, ринулся к нему с кулаками. Уж тут-то отрезвел Омар Хайям.
В математически четкий строй его мыслей, где следствие неразрывно связано с причиной, никак не мог уложиться бессмысленно-нелепый поступок Юнуса. Ах, негодяй! С чего тебе вздумалось вредить Омару? Что плохого тебе сделал Омар, – мало денег давал на хашиш? Давал каждый день, сколько мог. Вся ненависть к темному миру, воплотившемуся в этом дурном человеке, горячей волной хлынула Омару в грудь и голову, – и он, закипев, с готовностью рванулся навстречу:
– Давай! Я тебе кости переломаю…
Удар! – и нет у Юнуса передних зубов. Обливаясь кровью, он упал на колени. Ногою – удар!! – и повержен Юнус на щербатые плиты двора.
– Хватит, убьешь! – вопит Алак. Вдвоем с Али Джафаром они кое-как оттащили озверевшего молодца от жертвы.
Омар, весь дрожа, задыхаясь:
– Долго ты будешь, собачий сын, помнить Омара Хайяма!
– Успокойся, родной, успокойся, – гладил его по плечу Абу-Тахир. – Я сам с ним разделаюсь. Эй! – крикнул он безмолвной страже у ворот. – Отволоките его в темницу.
– Не надо, – переводит дух Омар. – Довольно с него! Пусть отведут домой.
Судья – с удивлением:
– Жалеешь?
– Жалею. – Омар вытирает слезы. – Я… больше никогда… не буду бить человека.
– Ох, сын мой! Будешь. Иначе – затопчут. Ладно, сделаем по-твоему. Эй, отведите дурака к жене! Он более не служит в этом доме. Идем, Омар, мне нужно с тобою поговорить. – Губы у него белые, руки трясутся.
И Омар подумал, что судья судей со всем своим могуществом совершенно беспомощен в этом неумолимо жестоком мире и ничего по существу не решает в нем. И его, Омаров, трактат, пожалуй, никому ничего не даст.
– О чем разговор? – спросил Хайям угрюмо. Какой еще подвох ему приготовила жизнь? Теперь он никому и ничему не верит.
– Сейчас узнаешь, – ответил Алак загадочно. – Разговор очень важный. Очень. Большой разговор.
– Ну… что ж. Пойдем. – Омар сосредоточенно потер ушибленные пальцы. – Я-то хотел сбегать на базар, в книжный ряд, к переплетчику.
– Ни боже мой! Из дому не выходи. Опасно. Кто их знает. Сейчас же отдай рукопись мне. Я призову переписчиков и переплетчиков сюда, ко мне в жилье, и здесь, на моих глазах, они сделают все, что нужно.
***
Уселись. "Сейчас он меня ошарашит". Судья – осторожно:
– Сын мой, не наскучил ли тебе Самарканд? "Он хочет меня прогнать! – похолодел Омар. – Отнимет рукопись и выбросит меня на улицу. Из-за Рейхан. Его достояние, может – любовь. Эх, навязалась девка на мою го. – юву! Куда я денусь, если судья откажется уплатить за трактат? Ну, что за жизнь! Когда мне дадут быть самим собою, распоряжаться собой по своему усмотрению?"
– Самарканд – город прекрасный, – не менее осторожно ответил Омар. – Он никому никогда не может наскучить.
Судья, помедлив, твердо сказал:
– И все же тебе придется его покинуть! Очень скоро. На днях.
– Почему? Чем я тут не угодил?
– Угодил. Хорошо угодил! Потому и уедешь.
– Эю как же? Не понимаю.
Судья все медлил, тянул, предвкушая, видно, яркий всплеск восторга, который должен был последовать сейчас со стороны подопечного, и, насладившись его нетерпением, объявил торжественно и снисходительно, как помилование преступнику:
– Его величество хакан Шамс аль-Мульк Наср требует тебя к себе, в Бухару!
Но у Омара это вызвало лишь удивление:
– Зачем?
– Ему нужен при дворе хороший математик, ученый собеседник, бескорыстный советчик в сложных делах.
– Откуда он знает обо мне?
– Знает, – усмехнулся Абу-Тахир. Похоже, он сам написал об Омаре хакану. Очень похоже.
– Я – при дворе?! – У Омара низко, сутуло прогнулись плечи, будто– на них взгромоздили тяжелый камень. И он, казалось, растерянно озирается из-под него. – Приживусь ли? В математике, положим, я кое-как еще разбираюсь. Но при дворе, говорят, надо хитрить, угождать, потакать правителю в его причудах. Я не сумею…
– Юнец! – рассердился судья. – Поедешь – и все тут, хочешь не хочешь. Посланец хакана ждет во дворце городского правителя. Между прочим, – Алак исподлобья сверкнул на Омара степными узкими глазами, – он взял с собою отличную стражу. – И заворчал оскорбленно:– Смотрите, сколь привередлив… Другой бы от радости рыдал! Какой-нибудь несчастный Зубейр мечтать не смеет о такой удаче. Все! Собирайся полегоньку. Завтра я произведу с тобою расчет за трактат. Скажи хоть спасибо, неблагодарный!
Омар – уныло:
– Спасибо! Дай бог тебе всяческих благ…
***
– Говорят, уезжаешь? – Она поднялась к нему на крышу, где Омар расположился на ночь, поскольку внизу, в жилье, чуть не свихнулся от духоты. На сей раз Рейхан забыла, – или не хотела, – облиться водой и натереться листьями базилика и пахла тем, чем и надлежит пахнуть служанке: пылью, потом, золою.
– Уже говорят?
– У нас, на женской половине, все жалеют, что ты уезжаешь. Всегда любовались сквозь щель в калитке: пригожий, тихий, задумчивый. И судья из-за тебя стал добрее.
– И ты… жалеешь?
– Я? – Он услышал ее резкий смех, сухой и злой. – Мне-то что? Я невольница, ты человек свободный, едешь, куда хочешь. А я родную мать не могу повидать. – Она заплакала, так же сухо и зло, без слез.
– Ну, не надо. – Он присел рядом с нею.
– Ты! – Рейхан внезапно накинулась на него, принялась колотить по голове легкими детскими кулачками. – Откуда ты взялся на мою беду? Жила я себе, как во сне… спокойно, без дум, без мечты… Терпела… Ты мне душу всколыхнул! Разбудил… заронил в сердце звезду… и теперь бросаешь. Что делать теперь? Я же не сумею жить как прежде. Тут горит. – Она провела ладонью по груди. – Эх! Отравилась бы я… отравилась, да жаль умереть, не проведав родных…
– Успокойся, Рейхан, смирись, – бормотал Омар обескураженно. – Я – свободный? Я тоже раб. Раб своих знаний. Взгляни-ка на небо. Ну, хватит беситься, взгляни! Вот так. Видишь, на юге, над горами, высоко над горизонтом, ту причудливую россыпь ярких звезд? Это Аль-Хавва, Заклинатель змей. В западных странах его зовут Змееносцем. Приглядись. Если крупные звезды соединить между собою черточками, получится человек с острой головой и тонкими ногами. Он держит в руках огромную, яростно извивающуюся змею. Какое дикое напряжение во всей угловатой фигуре! Как дрожат от усилия тонкие ноги. Он бьется, стиснув ее изо всех своих сил, с исполинской царской коброй невежества и мракобесия. Стоит ему зазеваться на миг, ослабить хватку, кобра вырвется из рук – и впрыснет в него весь страшный заряд смертоносного яда. И так – всегда. Он обречен вечно бороться с нею. Именно так бы и надо его называть – не Змееносцем, а Змееборцем. Понимаешь?
Разглядела она что-нибудь, поняла, не поняла – бог весть, но Рейхан, как-то странно притихнув, медленно стянула с себя одежду и со вздохом припала к нему. Золотые глаза ее мерцали, точно далекие, очень далекие звезды. Они и будут мерещиться до конца его дней, чем дальше, тем ярче, в ночных небесах средь недосягаемых созвездий…
***
– Уезжаешь? – встретил его наутро Али Джафар во дворе.
Омар скользнул по нему отрешенным взглядом и, ничего не сказав, побрел к саду, сосредоточенный, весь углубленный в себя. Три часа он слонялся по саду, недоступный, далекий от окружающих. Казалось, он уже обдумывает новый трактат.
"Не хочет, – подумал огорченный Али Джафар. – Не хочет уезжать. Из-за Рейхан. Или, сделавшись приближенным хакана, он теперь брезгует со мною разговаривать? Нет, не может быть. Просто оглушен человек".
– Здесь тысяча двести дирхемов, – положил перед юным ученым тяжелый кошель судья Абу-Тахир Алак. – Это плата за твой трактат. Хватит, надеюсь?
Но Хайям не спешил взять кошель. Он рассеянно глядел по сторонам, но видел не стены, ковры, резные столбы, а что-то совсем другое.
Судья – нетерпеливо:
– Ну?
– Сколько стоит… служанка? – глухо сказал Омар, преодолев смущение.
Судья – удивленно:
– Служанка служанке рознь. Иная может потянуть и на тысячу золотых динаров.
– Такая… как Рейхан.
– Рейхан? – разинул рот Абу-Тахир. – На что она тебе, чудак? Тысячу дирхемов.
– Хорошо. У тебя… достаточно слуг. Ты дашь мне двести дирхемов, а за тысячу – Рейхан. И мы будем квиты.
– Н-да-а, – протянул судья озадаченно, не найдясь, что сказать. Никогда не знаешь наперед, что может выкинуть такой вот умник. – Странный ты человек. Разве в Бухаре…
Омар – грубо:
– Я хочу Рейхан!
– Ну, что ж. – Сделка, честно сказать, пришлась судье по душе. Рейхан, у которой нет ни особой красоты, ни редкостного телосложения, досталась ему три года назад всего за триста дирхемов. – Будь по-твоему. Эй! – позвал он писца. – Строчи дарственную. С этого дня невольница Рейхан из Ходжента переходит в полную собственность Абуль-Фатха Омара ибн Ибрахима Хайяма Нишапурского. И он волен делать с нею все, что пожелает. – И вновь Омару:– Странный человек! Не могу представить, как дальше ты будешь жить.
– Проживу как-нибудь.
– "Как-нибудь" – это не жизнь.
– Мы ее, господин, понимаем по-разному. Судья приложил к бумаге печать. Омар, свернув ее, спрятал за пазуху вместе с дирхемами, низко поклонился судье. Выйдя во двор, кивнул Али Джафару:
– Пойдешь со мною?
Али Джафар, обрадованный, не стал расспрашивать, куда, зачем. Всю дорогу Омар молчал, угрюмый, холодный, и Али Джафар не донимал его любопытством. В караван-сарае у Ходжентских ворот они разыскали руса Светозара. Похудел, почернел, – видно, трудно здесь жилось беглецу.
– Есть народ из Ходжента?
– Да. Сегодня туда идет караван. Омар переговорил с главою каравана, вручил ему сто пятьдесят монет, велел Али Джафару:
– Беги домой, вмиг собери Рейхан – и скорее с нею сюда.
…Джафар не узнал усадьбы. Ему показалось даже, что он забрел по ошибке в чужой двор. Нет, это дом Абу-Тахира. Все будто на месте – крыша, стены, навес и метла, которую он бросил давеча у летней кухни. И все же это уже другой дом. Душа дома – близкий тебе человек, нету его – и дом стал чужим, незнакомым.
– Едем? – всполошилась Рейхан. – Омар ждет? Ох! Я сейчас. Долго ли мне собраться? Завяжу в узелочек обувь, платья, платки, и хоть в Хиндустан! – Она рассмеялась сквозь слезы. – Ты посиди, я сейчас… – Рейхан кинулась на женскую половину, но тут же выскочила обратно, боясь, что Джафар уйдет, не дождавшись ее. – Я сейчас! Ох, сейчас…
Голос ее напряженно звенел, переливался от волнения. Разве что у пастушьей свирели бывает этакий легкий, особый, сверляще-певучий и нежный голос. "Чистый жаворонок, – подумал с горечью Джафар. – Эх, собачья жизнь! Мне бы… эту Рейхан. Молился бы на нее".
Второпях ни с кем не простившись и бросив во дворе половину своего убогого имущества, она с легким сердцем покинула постылый двор и в пути щебетала, не умолкая:
– О аллах! Я, когда первый раз увидела Омара сквозь щель в калитке, сразу почуяла, что у меня с ним что-то будет. И не ошиблась, а? Сердце – оно не обманет. Он добрый, правда? Умный. Красивый. А где его вещи – ты уже отнес их в караван-сарай? – И вдруг, потемнев, остановилась. – почему мы идем к Ходжентским воротам, – почему не к Бухарским?
– Идем, куда надо, – хмуро сказал Джафар. Она стихла, понурив голову. Подбили жаворонку крылышко! Рейхан с недоумением взглянула на свой узел и, бурно разрыдавшись, швырнула его через ограду в чейто двор. Джафар, пошумев, вынес узел, крепко схватил девчонку за локоть и не отпускал до самых Ходжентских ворот.
Бедняжка Рейхан. Как она плакала, кричала у тех злосчастных ворот. Билась лбом о глинобитную ограду, во весь рост кидалась на землю, поднималась – и вновь бросалась в пыль. Целовала Омару ступни, обнимала колени.
– Не вопи, глупая! На днях, бог даст, увидишь мать.
– Не отсылай! Что мне мать? Возьми с собою.
– Куда?! Я сегодня не знаю, что будет со мною завтра. Пропадешь со мною.
– Без тебя скорее пропаду.
– Не дури! Вернешься домой, выйдешь замуж (я разрешаю) – тотчас забудешь о несчастном Омаре Хайяме.
– Вовек не забуду!
– Ну, и ладно. Буду жив – как нибудь заеду к тебе в Ходжент…
Поручив девчонку заботам пожилых степенных женщин, отъезжавших в город на Сейхуне, сунув ей в узел дарственную запись и отпускную, а также тридцать дирхемов на еду и прочее, Омар проводил безутешную Рейхан далеко в поле и вернулся безмолвный, с каменным лицом. Что творилось у него в душе, то никому неведомо. И никому неведомо, отчего, зайдя в харчевню при караван-сарае, он вдруг развеселился, взял медный поднос и, стуча в него, как в бубен, приказал мальчишке-прислужнику плясать.
Двадцать последних дирхемов они втроем: Омар, Светозар, Али Джафар – честно пропили в дымной харчевне. Ибо эта их встреча была последней.
Вовек не встретимся с друзьями за столом.
Лови же каждое летящее мгновенье, —
Его не подстеречь уж никогда потом…
***
"Итак, похоже, мы мало-помалу выбиваемся в люди?
Жизнь – великолепна!
Однако…
Если я поеду в Бухару служить хакану, дадут ли мне думать? Быть самим собою? Или я стану одним из тех бесчестных людишек, что продают разум и совесть за царскую жирную похлебку?
Плохо! Лучше я сбегу по дороге. Куда-нибудь в Баласагун, а то и дальше, в Кашгар…
Но ведь и без них, высоких этих покровителей, бедный ученый нигде ничего не может создать. Ему надо есть. Надо пить. Надо где-то жить, на чем-то спать. И посему – кому-то служить. Проклятье! Жаль, что человек, с его-то разумом, остается все-таки животным. Я не ел бы, не пил и не спал, если б можно было и так обойтись. Зачем все это бродяге-поэту?
Фердоуси – тот мог, ни о чем не тревожась, не торопясь, четверть века писать свою "Книгу царей". Богатый помещик, знатный дехкан, он не нуждался в чьей-либо опеке и способен был сам содержать слуг, переписчиков и чтецов своих стихов. А как быть, куда деваться человеку, у которого всего-то добра – пять-шесть истрепанных книг?
Смирись, бездомный! Необходимость.
Жизнь – торг. Ты нужен хакану, хакан нужен тебе. Поедешь в Бухару. Это и впрямь удача, о которой подлый Зубейр не смеет и мечтать. Хотелось бы мне сейчас взглянуть в его дурные глаза. Ну, погодите, неучи! Я вам покажу.
Э, в том-то и горе, что сколько глупцу ни показывай – ничего не докажешь. Его надо просто избегать. Или, лучше всего, подражать ему? Тьфу! Нет, прав судья: я и вправду странный человек. Сам не знаю, чего хочу.
То есть знать-то знаю, однако… Эти «но» и «однако»! В них вся пагуба человеку".
***
Бухара. Что сказать о ней? Удивительный город. Единственный в своем роде. Город ученых, поэтов, искусных зодчих. Омар мог часами, не отрываясь, взирать на гробницу Исмаила Самани. Нет нигде больше в мире подобных строений. В плане – проще не может быть: полусфера на кубе. И кирпич – обычный кирпич, тяжелый и твердый, как всякий другой. Но уложен он так хитроумно, затейливо, разнообразно, что видишь перед собой нечто воздушное, легкое, вроде резной шкатулки из слоновой кости.
Здесь и теперь кое-что воздвигалось: медресе, мечети, ханаки. Но знал Омар – при всей красоте высоких зданий, они, будучи опорой духовенства, утверждают не красоту человека, создавшего их, а его ничтожность, бренность, возвеличивая то, чего нет на самом деле – божью премудрость. Это нелепо и потому обидно. За человека.
Может быть, через тысячу лет они и станут народной гордостью, всеобщим достоянием, как пирамиды в Египте, но пока что в них – лишь оплот мракобесия. Сколько сил человеческих, ума, умения, душевной тонкости уходит, по чьей-то неразумной воле, на химеру. Между тем, как нет просторных жилых домов, настоящих школ, светлых лечебниц.
…Говорят, хакан Шамс аль-Мульк крайне возносил Омара, сажая его с собою на трон. Не очень-то похоже на правду, а? Цари, как известно, весьма неохотно подпускают к престолу чужих. Даже своих – сын отца, отец сына, брат брата – безжалостно режут из-за уютного места на троне.
Не вызывает сомнений одно: эти три года при дворе хакана прошли для Омара Хайяма впустую, если не считать, конечно, частых попоек, собачьих драк и прочих, обычных тут, никчемных развлечений. Ну, и горьких раздумий. Хотя они как будто и не относятся к делу?
Что угнетало его? Окружение? Низость, наглость и какая-то необъяснимая, прямо-таки фатальная склонность к предательству у царских прихлебателей, всех этих горе-поэтов, лживых звездочетов, бездарных врачей? Пожалуй. Вместе едят, вместе пьют. Вместе злословят о правителе и его женах. И, едва разойдясь, бегут, сломя голову, к хакану: кто первый, в экстазе подобострастия, успеет донести.
Но жил же на свете честный Авиценна, который рожден был именно здесь, дышал здешним воздухом? Устыдились бы, вспомнив о нем? Где уж. Ведь как раз им подобные и свели его в могилу.
Зависть, спесь, явная и тайная паскудная грызня, удар в спину – разве это могло быть по душе Омару Хайяму? Не потому ли, находясь в священной Бухаре, он написал:
Чем в число блюдолизов презренных попасть.
Лучше кости глодать, чем прельститься сластями
За столом у мерзавцев, имеющих власть.
***
…Сто лет лежит огромный камень на круче. Ни дождь его не может смыть, ни ветер свалить. Но вот однажды, где-то внутри земли, что-то колыхнулось. И камень, качнувшись, падает – точнехонько на голову одинокого путника, что идет себе тихо, ни о чем дурном не думая, из одной зеленой долины в другую.
Пока Омар пребывал при хакане, в Иране и Туране произошли крутые перемены. К ним он вовсе не был причастен, но они, тем не менее, прямо отразились на его судьбе. Наверное, ни у кого еще жизнь не зависела так резко и грубо от внешних причин, от чьей-то злой или доброй воли.
От чьей? Художники, ученые, поэты несут в мир благо, покой и радость. Поэт дрожит над розой, над каждой сочной травинкой, боясь на нее наступить. Не было в мире поэта, что призвал бы в стихах к насилию, убийству, грабежу. Если же был такой, то он не поэт. Это жулик, мерзкий стихоплет. Смуту и смерть несут народу болтуны-лицемеры, самозваные пророки да полководцы, которых до желтизны изнуряет жажда славы и почестей.
Султан Али-Арслан погиб в бою с караханидами. Но сын его, новый султан Меликшах, разбив Шамс аль-Мулька, заставил его признать сельджукское превосходство. После Многих лет яростной вражды наступило как будто затишье. Шамс аль-Мульк женился на одной из туркменских царевен, Меликшах – на племяннице хакана, юной красавице Туркан-Хатун, той самой, что в свое время отравит Омару Хайяму жизнь. И не ему одному.
Новый султан перенес столицу из Мерва в далекий Исфахан. Визирем при нем – его воспитатель, уроженец счастливого Туса, мудрый Низам аль-Мульк…
– Отчего, – спросил визиря Меликшах, безбожно мешая персидскую речь с родной, огузской,[7]7
до того, как стать мусульманами, туркмены назывались огузами
[Закрыть] – в нашей стране столько нищих?
Низам аль-Мульк, отодвинув книгу, вскинул на тюрка внимательный взгляд. Прежде, еще ходя в наследниках, Меликшах не задавал таких вопросов. Что ж, видно, разум его, слава богу, созрел для забот о государстве.
– Мало чести – слыть царем голодранцев! – продолжал сердито Меликшах. – Или у нас перестали пахать и сеять? Нет, я видел: ковыряют землю. Где же хлеб, где плоды? В селениях великий шум. Крестьяне ропщут на вельмож, вельможи – на крестьян. Когда б ни приехали сборщики податей, один ответ: или еще, или уже нечем платить. Кто и что тому виною?








