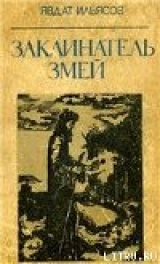
Текст книги "Заклинатель змей"
Автор книги: Явдат Ильясов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 21 страниц)
Но этот говорил им: "Внимание! Я свой". – В Курбане он признал хашишина по особому надрезу на мочке левого уха. У него самого надрез был на нижней губе. Осведомитель визиря видел надрез на Курбановом ухе, но не придал ему значения, – мало ли людей со шрамами, рубцами, а то и вовсе калек ходит по дороге. Горожанин оглянулся, рассеянно скользнул глазами по бугру, по Курбану и, зевнув, двинулся дальше. Оставайся на месте. Я сяду у костра. Подойдешь. Поговорим".
Этого Курбан узнал сразу. Будь ты проклят! Глаза навыкате, нос – точно крюк. Лицо мохнатое, руки, ноги кривые. "Влюбленный Паук". Ну да. Паук, влюбленный в муху. Дрянной человек. Но не смертник. Простой лазутчик. Он, помедлив, спустился по откосу и присел к костру, у которого средь прочих уже грелся – делал вид, что греется, – вчерашний, второй.
Курбан, руками – третьему, тому, что явился сейчас:
"Разве ты не получил весть обо мне?" – «Получил». – "Почему не вышел?" – "Не мог". – "Мне надо попасть к визирю". – "Не надо. Сегодня он будет здесь. Приготовься".
Курбан потерянно взглянул на тополя. От судьбы не уйдешь. Воробью – хорошо. Вспорхнул и улетел. А ты… раз уж родная мать отдала тебя в шайку преступников, преступником и подохнешь.
Он встал.
"Ты куда?" – "Точильный камень свой оставил в юрте. Пойду принесу. Тесло затупилось". – "Не мешкай". – "Успею…"
Бойре – селение нищее. Сох всю жизнь от нищеты и староста селения. Экдес, его дочке, как и всякой девчонке, хотелось нарядных платьев, украшений. И просто хотелось есть. Потому что она никогда не наедалась досыта.
Городская старуха-сводня, по словам Экдес, посулив ей райскую жизнь, определила к богатому старику в Исфахане. Что ж, поначалу юной красотке было хорошо. Но когда ее мать умерла, прокляв беспутную дочь, Экдес опомнилась и вернулась к отцу, в Бойре. Теперь ей хотелось замуж, жить человеческой жизнью, служить мужу, растить детей. Но кто возьмет такую?
…В первую ночь, сразу отдавшись Курбану, она честно рассказала ему обо всем. Пусть. Курбан рад бы жениться на ней. Умна. Красива. Сладостна. Ничуть не хуже райских гурий. Оба несчастны. Может, из двух больших несчастий получилось бы одно, хоть небольшое, счастье?
Он предупреждающе кашлянул у входа, откинул дверной полог. Экдес, на коленях у очага, лепила на широкой доске круглые пирожки с рубленым мясом, бараньим салом, луком и перцем. Всполошилась:
– Уже вернулся? Ах, не успела! Вот, мать когда-то учила. Хотела к твоему приходу…
Учила ее не мать, ей не с чем было учить дочку стряпне, – учили Экдес на кухне богатого исфаханца, но она уже больше не смела о нем поминать.
– Я… ненадолго, за… точильным камнем, – глухо сказал Курбан, рассеянно оглядев сырые пирожки.
Испеченные в круглой печке, румяные, сочные, с блестящей корочкой, они были бы объедением.
Были бы…
Рад бы…
Получилось бы…
Ничего не будет. Не получится ничего.
Она кинулась к нему:
– Что с тобою, кто обидел? Я глаза им вырву.
– Им – не вырвешь. Вырви лучше мне. – Он взял ее за голову, склонившись, зарылся в густые блестящие волосы. – Прощай. Я должен уйти.
Встрепенулась:
– Куда?
– Далеко. Очень… далеко.
– Вернешься?
– Н… нет, скорее всего.
– А я? Как же я?!
– Ты? – Он отстранил ее. – Сиди в юрте. За мной не ходи. Потом все узнаешь.
Уходя, уже на тропе, он услышал ее пронзительный горестный крик:
– А точильный камень?
Курбан, не оглянувшись, махнул рукой. Какой точильный камень? К шайтану. Сердце его превратилось в шершавый точильный камень, о который с отрывистым визгом шаркает стальное лезвие обиды.
На бугре – оживление. Курбан заспешил: пожалуй, визирь уже здесь. Явился. На свою голову.
Да, визирь явился. Он больше не мог находиться в неясности. На улице – светопреставление, а ты сидишь в глухом, без окон, запертом чулане. Нестерпимо! Им нужна приманка? Хорошо. Я буду ею. Пора их выявить. Выявить – и выловить.
Курбан подобрался ближе.
Визиря заслонял от него столпившийся народ. Насупив брови, осторожно скользя холодными глазами влево и вправо, Низам аль-Мульк, в своей обычной дорогой одежде, терпеливо внимал рассказу царского звездочета о каких-то башнях и астролябиях. Сопровождаемые толпою, они ходили по бугру, что-то мерили танапами, отмечали кольями. "Звездный храм, Звездный храм…"
Нехорошо Курбану. Вот, люди думают о земном, хоть и говорят о звездах, – думают, что-то делают, что-то хотят построить. Староста поведал вчера: Омар намерен создать в Звездном храме новый календарь, при котором, если и не наступит рай на земле, то народу будет хоть какое-то послабление.
"Народу. Простому люду. Таким, как мы с тобою". Бедный старик. "Уже сейчас, еще не построенный, Звездный храм принес нам удачу. Стали досыта есть, и то великое благо". И хашишин Курбан должен все это сокрушить одним ударом своего тесла. Хотя мог бы, с его же помощью, укрепить стены Звездного храма.
И вдруг с жутью, с ледяной, как зимний ветер, ясностью, исмаилит осознал: он ничего не сможет сокрушить. Он может убить одного человека, пусть человек этот – видный и важный. Но разве с гибелью одного человека погибнут все звезды и звездочеты, звездные храмы и календари?
"Зачем я здесь, почему я здесь?"
– Почему медлишь? – прошипел ему в ухо второй.
– Я… не могу, я хворый.
– Давай!
– Не могу! Видишь, он обступлен со всех сторон. Боюсь – промахнусь.
– Шевелись! Учти, мое прозвище – Яростный Шмель. Слыхал?
Слыхал. Скорпион веры слыхал о его подвигах. О них в страхе шептались на низших ступенях секты.
– Я… хворый. Боюсь…
– На, сделай пару затяжек. – Яростный Шмель сунул ему из-под полы медный горячий чубук.
Вот чего не хватало Курбану! Он жадно припал к заветной трубке и сделал не пару – три пары глубоких затяжек.
– Хватит, окосеешь. Давай!
Закончив осмотр работ и беседу со звездочетами и строителями, визирь, удовлетворенный, собрался ехать ко двору. Вот и все. Никаких исмаилитов. "С чего это стали страхи тебя донимать? – сказал он себе с грустной усмешкой, – Стареешь, Абу-Али Хасан, – вспомнил он свое настоящее имя, давно забытое всеми за пышным титулом Низам аль-Мульк – Порядок державы. Почему ты решил; что вслед за бегством Рысбека сюда тотчас пожалует хашишин? Хасан Сабах человек злой, но не совсем же дурак. Ему лучше жить с нами в мире, получать золото и не тревожить нас".
Доволен и Курбан. Обошлось. Ничего не случилось. Пусть едет визирь. А с этими двумя паршивцами, «пауком» и «шмелем», Курбан, сын Хусейна, как-нибудь управится сам…
Визирь спустился к коновязи, где слуги уже приготовили лошадь в роскошной попоне.
Между коновязью и почтительно замершей толпой открылось свободное пространство, и Курбан, скорей бессознательно, чем с умыслом, прикинул расстояние от себя до Низама аль-Мулька.
И тут он почувствовал на себе чью-то улыбку. Экдес? Она почему-то тоже здесь, в толпе. Но она не улыбается. Экдес глядит на Курбана огромными от ужаса глазами. Они у нее от природы разные – серый и карий, и от этого ужас в них – немыслимо дикий. Неужели, подумал Курбан, у него от хашиша так страшно изменилось лицо?
Нет, не Экдес. Ему улыбался… четвертый. Маленький тощий человечек с морщинистым желтым лицом. Но жилистый, крепкий. И всегда веселый. "Озорной Клоп". Тот самый, который всего несколько дней назад собирал его в путь. И, благодушно посмеиваясь, рассказывал, как он попал к хашишинам:
– Меня, знаешь, с детства держали в страхе. Хотя я и был не озорнее других, разве что малость нетерпеливее. Отец запугивал плетью, мать проклятьем, учитель тростью. Я вырос, стал землю пахать – кто только мне и чем не угрожал! Староста – стражником, стражник – темницей. Священник – адом, небо – неурочным градом. Помещик – что землю отнимет, эмир – голову снимет. Женился – жена взялась стращать: то она утопится, то она отравится. То пойдет к судье – кадию. То убежит к своей матушке. Живого места во мне не осталось! Внутри все почернело от яда, как у рыбы-маринки. Нельзя человека то и дело пугать. Однажды, со страху, я зарезал жену, перебил половину селения и укрылся в секте. На рай, загробное воздаяние мне наплевать Я мститель. Отчаянный. Самому повелителю нашему шею могу свернуть, если обидит. Теперь я уже никого не боюсь. Сам навожу ужас на всех. Убиваю и буду убивать, кто встанет поперек дороги. Отцов, матерей, учителей. Старост, священнослужителей и прочих. Я ненавижу всех! И буду их убивать, пока живой…
Улыбаясь веселой, чуть хитрой улыбкой, он держит руку за пазухой. Курбан понимает, что это значит. Теперь – все. Все кончено.
Визирь уже сунул ногу в стремя.
Курбан отрешенно взглянул на тихую Экдес. Жалко улыбнулся ей мертвыми губами. Яростный Шмель, отираясь позади, кого-то двинул плечом, кого-то прижал, оттолкнул и расчистил Курбану место развернуться.
– Нy?
Курбан поудобнее перехватил рукоять тесла, для уверенности встряхнул им, с удовольствием ощущая привычную тяжесть. Во имя аллаха милостивого, милосердного! Скорпион, широко развернув плечо, замахнулся… и, уже сам не зная, что делает, крикнул, прежде чем метнуть свое смертоносное орудие:
– Визирь, берегись!
…Удар пришелся не по голове, а по левому плечу, так как визирь, подхлестнутый внезапным окриком, резко распрямился в стремени. С такой силой был нанесен удар, что лезвие тесла разрубило железную кольчугу, надетую под бархатную шубу.
Зато нож Яростного Шмеля вошел Курбану в спину точно между лопатками. Второму тут же скрутили руки, но он держал на сей случай во рту некий синий шарик, который и и проглотил, раскусив, во славу Хасана Сабаха. Озорной Клоп, переставший улыбаться, сделал быстрый знак Влюбленному Пауку: "Ни звука! Оставайся на месте".
Визиря, облившегося кровью, унесли в шатер.
Курбан, точно пьяный слепец, качаясь и беспомощно ощупывая пустоту перед собою, медленно побрел сквозь расступившуюся толпу. Его никто не трогал. Зачем? Он брел, шатаясь, захлебываясь кровью и сплевывая ее, к вершине бугра. Поближе к небу. К раю.
Он бросил Экдес, земную женщину. Он обманул Экдес, не оставшись с нею. А мог бы! Стоило только открыться визирю. Э! А Хасан Сабах? Поздно теперь о чем-то жалеть. Раз уж ты обречен, то обречен. Он сделал свое дело. У него в запасе – рай. Сейчас… сей миг он вознесется в голубую, сверкающую долину с золотыми деревьями. Сейчас…
Холодно. Жутко. Где же рай? Где райские девы с их горячими объятиями? Красная муть в глазах. Он рухнул, споткнувшись, на камень, что обтесал в первый день. Нет рая. Нет гурий. Только боль, дурнота. Смерть.
Кровь обрызгала белый камень.
Экдес, присев подле трупа, пугливо оглянулась на безмолвную толпу и, как бы желая загладить вину Курбана, запачкавшего такой красивый белый камень, стянула с головы чадру и принялась вытирать ею кровь. Но только еще больше размазала ее.
– Такого мастера… такого мастера загубили… – Омар, сцепив руки, заломил их над ними, над Курбаном с Экдес, ударил себя по склоненной голове. – О боже! Где я живу, с кем живу – и зачем?
***
Омару уже 27.
Пифагора сожгли на костре за неверие 1575, Абдаллаха аль-Мукафу – 316 лет назад.
Джордано Бруно сожгут в Риме через 525 лет.
Знаменитый поэт Хагани просидит в тюрьме 14 лет;
Роджер Бэкон – 14;
Томазо Кампанелла – 27.
Узбекский поэт Турды умрет в нищете и одиночестве через 625.
***
В Аламуте как будто все по-старому. Юнцы угрюмо тешут камень. Сонно чешут живот и спину, скучая в эмпиреях без дела, нечесаные и немытые, с пахучими ртами, райские девы. Но это лишь как будто.
– Как это так? – Взбешенный Сабах схватил за тонкую шейку кальян, из которого перед тем глотнул изрядный клуб приторного дыма. Казалось: кальян сейчас упадет, искореженный, скрученный в жгут. Но в своей-то руке у Сабаха – жалкая слабость. – Плохо! Не можем всецело овладеть их душами. Десять лет натаскивали стервеца, и всего за каких-то несколько дней он вдруг пошатнулся в единственно истинной вере?
– Кто знал, что он с червоточиной? – пожал изрубленными плечами Змей Благочестия.
– В них всех сидит от рождения проклятый мужицкий дух. Травить! Глушить! С первых дней приучать к хашишу.
– Тогда и вовсе не будет проку.
– Э! Раз в жизни смогут нанести удар. На что они больше нужны?
– Но…
– Но к женщинам – еще строже не допускать. Жирно кормить. Чтоб бесновались, как скоты в течку. Сатанели, мечтая о райских девах. Чтоб у них не заводилось мыслей, опасных для нас. Нам не нужны задумчивые. Учти это, когда будешь готовить к делу новых людей.
– Учту. Но у нас в запасе – Влюбленный Паук. Визирь, по всему видать, не умрет. Повторим попытку?
– Зачем? Предупреждение сделано. Будем теперь пожинать плоды. Мы потеряли двоих, – я за них с Меликшаха два каравана золота взыщу. Бедный Яростный Шмель! Он-то зачем раскрыл себя?
– Озорной Клоп говорит: Скорпион был настолько ослаблен, что не убей его Шмель, юнец бы не выдержал пыток и выдал султану все наши тайны.
– Хвала Яростному! Он до конца остался мне верен. Дай бог ему и впрямь проснуться в раю.
– Есть еще Сухой Чертополох с его распрекрасной дочерью…
– Молчи о них! Забудь!
– Забыл.
– Звездочет?
– Неподкупен. Он – блаженный.
– Все равно оплетем.
– А этот, который… бей Рысбек. С ним что делать?
– Он здесь не нужен.
– Ест и спит, спит и ест. Женщин ему поставляй. "Райские девы" плачут от него. Прогнать? С ним уйдут его люди.
– Его люди – нужны. Хорошие добытчики скота.
– Как же их отделить? Не может человек умереть в гостях у Хасана Сабаха! Мусульмане ездить к нам перестанут.
– В гостях не может. Но может, выбравшись с горсткой самых верных людей на прогулку, попасть в засаду к султановой шайке.
– На прогулку?! Хе. Его с боку на бок еле перевернешь.
– Пусть присмотрит себе в икту одно из окрестных селений.
– О! Тут он сразу встанет. Но султанова шайка… откуда ей знать, когда и где он проедет?
– Разве нет у султана в наших краях… доброжелателей?
– Найдутся, пожалуй.
– Должны найтись.
Через десять дней бей Рысбек, катавшийся в легкой повозке, попал в засаду и был убит в короткой стычке. Его тяжелую голову увезли в Исфахан. Так Рысбек, недовольный всеми на свете, получил в бессрочную икту не какую-то захудалую мастерскую, а весь рай небесный с его вечностью, обильной едой, чистой водой, золотыми деревьями и нагими гуриями в придачу.
***
Омар, лечивший визиря, делал ему перевязку, когда проведать страдальца пожаловал сам Меликшах.
– Ну что, будет жить? – спросил царь напролом, не стесняясь ясных визиревых глаз, – Низам аль-Мульк, хоть и морщился, терпеливо и даже усмешливо сносил боль.
– Милостив бог, – смиренно ответил Омар, не отрываясь от дела. – Горячка проходит. Его светлость проживет много лет.
– Не останется сухоруким? Кость-то перебита.
– Мощь воина – в правой, не в левой, руке, – поспешил Омар сгладить неловкость.
Они, звездочет и царь, еще не встречались так близко, – лишь на пышных приемах, пирах, средь множества разных людей. Только теперь Омар сумел разглядеть его как следует.
Молод султан. Лет двадцать ему или чуть больше. Смуглый, носатый, глазастый, он похож на кого угодно – араба, перса, армянина, но никак не на тюрка. Тюрки огузской ветви, из которой туркмены, еще на Сейхуне сильно смешались с древним оседлым населением.
Это очень интересно (Омар наблюдал в Бухаре) – смешение народов двух рас, узкоглазых тюрков с таджиками и персами, близко родственными между собой. Оно происходило двумя путями: прямо через здешних женщин, и косвенно, посредством неизбежного перехода местных жителей на язык многочисленных завоевателей.
Тюрки издревле, с гуннских времен, проникали из Сибири в западные страны, оседали у рек и морей. Те, что ушли за Волгу, слились с окрестными светлыми народами и, большей частью, выцвели сами, почти утратив степной облик. В Туране, в Иране от них тоже рождался новый народ, на редкость красивый – что было особенно ярко видно у женщин.
Но, перенимая у коренных жителей полезные навыки земледелия, грамоту, даже напевы и танцевальные ритмы, пришельцы с востока, вместе с тем, к сожалению, теряли кочевую бесшабашную щедрость, широту души, веселую беспечность и приобретали расчетливость и бережливость, переходящую часто в черствость, скупость, досадную мелочность. Сохраняя, однако, как в данном случае, степную неотесанность.
– Меч державы – царь! – строго заметил султан. – Визирь ее щит. А щит надлежит держать в левой руке.
– Да, конечно, – согласно кивнул Омар, заканчивая свою работу. – Кто спорит? Была бы только голова над ними, и над левой рукой, и над правой.
– Голова над ними – аллах! – И, не найдя, что к этому добавить, царь нетерпеливым движением выставил Омара за дверь. – Хорошо лечит?
– Хорошо, – тихо ответил визирь. – Чем встревожено ваше величество?
Меликшах, беспокойно расхаживавший перед его ложем, встрепенулся:
– Как чем? Разве не видишь, что творится у нас? На себе испытал. Я подыму все войско, осажу Аламут – и кожу сдеру с проклятого Сабаха! Неужто мы не разнесем его убогую крепость? Не такие брали твердыни. У него и войск-то путных нет.
– Не надо! – скривился визирь. – Мощь Сабаха не в жалкой твердыне его и не в ничтожном его войске. Она в ином, как мы знаем. Уж теперь-то хашишины не станут остерегать: «берегись», прежде, чем кинуть в меня или в тебя, сын мой любезный, тесло или нож, метнуть стрелу, подсыпать яду. Остерегли уже. Не забывай: кто-то из них – у нас во дворце. Кто, нам не удалось узнать. И, может, мы так и не узнаем, кто. Пока он не убьет кого-нибудь из нас. Но, пожалуй, и тогда не узнаем. Сей не станет себя раскрывать, все сделает тайно. Ах, если б узнать!.. Конечно, это один из конюших, сокольничих, постельничих, чашников, псарей, стремянных и множества прочих дармоедов. Всю эту ораву надо исподволь сменить. Брать проверенных, верных, таких, как твой сородич Ораз.
Так что, – устало вздохнул визирь, – будем пока жить с Аламутом в мире. Платить щедрую дань. До лучших времен.
– Я бы их всех!.. – Султан укусил себя за стиснутый кулак. И уже чуть спокойнее: – Явились святые отцы из Нишапура, от шейх уль-ислама, главного наставника в делах веры. Может, мы зря, – султан нерешительно остановился перед визирем, – затеяли эту… обсерваторию? Богословы в обиде на нас: "Сколько средств государь тратит на никчемный Звездный храм. А медресе, мечети, ханаки прозябают в горькой нужде…"
– Знаем мы их нужду! Доводилось бывать в ханаках. Звездочеты нужны государству не меньше, чем богословы. Если не больше. Но будь по-ихнему: я построю для них медресе. Лучшее в мире. Вот поднимусь и построю за свой счет в Багдаде.
– Почему в Багдаде, а не здесь?
– Учение пророка пришло к нам оттуда, – пусть богословы там и славят его в своих молитвах и писаниях. И заодно приглядывают за халифом, который не очень-то жалует нас с тобою, а?
Султан, смеясь, покачал головой:
– Хитер же ты, отче!
– Я визирь.
– Лучший в мире! – с чувством воскликнул султан, довольный тем, что у него есть теперь что сказать назойливым ревнителям веры. – Медресе мы назовем в твою честь – «Низамие». Согласен?
– Сойдет.
Меликшах с легким смущением:
– Я потому о Звездном храме… что о звездочете нашем… слухи дурные.
– Дурные слухи? – удивился визирь. – Какие, например?
– Заносчив, неучтив. Груб, резок, дерзок. На язык невоздержан.
– Великий Абу-Рейхан, при всей своей высокой учености, тоже был до крайности запальчив. Все можно простить человеку: дерзость, строптивость, насмешливость, лень и даже распущенность, если он умен. Но только – не глупость! Ибо те пороки – суть человеческие, а глупость – качество скотское. И невежество. Человек, который, проучившись сколько-то лет в медресе, путает Иран с Ираком, Сейхун с Джейхуном, для меня перестает существовать. Омар заносчив? Он человек приветливый, скромный и добрый. Просто он ненавидит глупость. Но, жаль, не умеет это скрывать.
– Пусть научится! Иначе… ему будет худо. Не в том беда, что умен. Умен? Хорошо. Пусть будет умен. Но в пределах нашей веры. И не больше. Пусть обращает свой ум не во вред нам, а в пользу.
– Ум, государь, не терпит ограничений. Потому он и ум, что не знает пределов. И разве главное достоинство поэта – не талант и разум, а покорность? Вот баран – он покорен, но поэтом никогда не станет.
– Он безбожник!
– Тоже нет. Но понимает бога по-своему.
– Мне передали несколько его четверостиший. В них слишком много вопросов: "Почему, и к чему, и зачем?" Вопрошает людей, вопрошает царей и даже – небо! По какому праву?
– По праву… одаренного человека.
– Что, у одаренных есть такое право – бога вопрошать?
– Есть. Разве они одарены не самим же всевышним? Бог создает одаренных для того, чтобы ему было с кем беседовать на земле.
– Хм. Верно! – Султан покраснел.
– Омар – человек с трезвым, холодным, как лед, умом, но кипящей пьяной кровью. И все его недостатки, столь неудобные для нас, есть обостренное до крайности продолжение его же достоинств. Разумеешь? У людей одаренных это часто бывает, но никто не хочет – или не может – их понять.
– Все же… скажи ему, чтобы он… поменьше, полегче… не все способны увидеть то, что видим… мы с тобою вдвоем. Кстати, у них, в Нишапуре, объявился еще один одаренный. Твой земляк. Из Туса.
– Тус – город счастливый, – улыбнулся визирь. – Ему везет на одаренных.
– Его зовут… А-а… Абу-Хамид Мохамед Газали. Кажется, так. Точно не помню. Еще ничем не проявил себя сей одаренный. Шейх уль-ислам в письме советует выслушать юношу – и пристроить к делу, если мы найдем это возможным.
– Хорошо. Пусть явится ко мне. Совет шейх уль-ислама для нас уже закон. А слухи дурные… их распускали даже о пророке! Царю не пристало внимать пустым разговорам.
– Абдаллах Бурхани…
– Знаю. Вот еще одно светило в небесах персидского стихосложения… Слов в стихах Бурхани куда как много! Но это – досужее нагромождение слов. Ни ума, ни души в них нет. Много слов, мало смыслу. Говорю, пустозвон. Кстати, где он, почему я его не вижу!
– Хворает.
– Пусть обратится к Омару. Может, Омар угодит ему, вылечив от всех болезней. Что касается слухов… царю надлежит карать злопыхателей, разносящих сплетни о его достойных слугах. Он должен быть рад, что у него в стране много умных, одаренных людей.
– Я и рад, благодетель! Выздоравливай скорее. Я без тебя как без рук – и без левой, и без правой…
***
– Поговори с этим Газали, – приказал визирь звездочету. – Посмотри, к чему его лучше происпособить. Может, он пригодится тебе в Звездном храме?
Сердце дрогнуло у Омара, когда он увидел Газали. Он увидел – себя! Таким, каким он был в семнадцать. Вернее, почти таким. Тоже сух, лобаст, узколиц. Но Омар в семнадцать был полнокровен, был выше, крепче, шире в плечах. Щеки его отливали здоровым румянцем. А этот – худой, болезненно-бледный, хилый.
Лишь некое подобие Хайяма, вдвое меньше и бесцветнее. Но в черных глазах, – черных, а не зеленых, как у Омара, – та же опасная бездна холодного ума.
– Ну, рассказывай, кто ты есть, что ты есть. Газали, будто прижатый к стене, сверкнул глазами исподлобья:
– Я хочу познать природу вещей! "Ишь, какой прыткий".
– Весьма похвальное желание. А зачем?
– Чтобы выявить истину, отличить ее от заблуждений и опровергнуть эти заблуждения.
– С какой целью?
Газали взглянул на него с удивлением:
– Как с какой? С единственной целью, достойной правоверного: обратить ложь в прах и утвердить во всей славе имя господне! Разве ты не с той же целью изучаешь звезды?
"А-а. Вот оно что. Теперь я вижу, кто ты такой".
В глубоких глазах Абу-Хамида, сквозь пропасть ясного разума, всплыло, как у сумасшедшего, нечто темное и грозное.
"Это изувер", – похолодел Омар.
– И что тебе нужно для этого здесь, в Исфахане? – спросил звездочет осторожно.
– Я хочу постичь науку о звездах, – ответил Абу-Хамид уверенно. И – доверительно, как единомышленнику:– Ведь, чтобы лучше судить о пороках той или иной науки, нужно знать ее, не правда ли? Так знать, что можешь спорить с известными знатоками. И, превзойдя их в знаниях, доказать, что их знания – ложь.
"Э, братец! Да ты негодяй! Лазутчик мракобесия в стане наук. Тоже, на свой лад, хашишин".
– Ты говоришь о пороках наук, об их лживости, – терпеливо заметил Омар. – Разве в них одни пороки и нет никаких достоинств?
– Всякая наука уже сама по себе порок.
– Это почему же?
– На ней клеймо безбожия. Ибо она – от разума. А бог – это дух.
"Этот опасней всех шейх уль-исламов, вместе взятых! Потому что неглуп, собачий хвост. Но бес его знает, какие пороки могут примерещиться его воспаленному мозгу, – кто из тупых его почитателей в них разберется, если он раструбит об этих мнимых пороках на весь мусульманский мир? Вредитель".
Омара уже подмывало дать юнцу по шее, схватить его за шиворот и, поддев коленом, выкинуть за дверь. Но, памятуя о своем месте во дворце, о великих замыслах своих, он решил до конца, хоть умри, держаться в пределах приличия.
– Иначе говоря, – хрипло произнес Омар осевшим голосом, – ты явился ко мне, чтобы научиться кое-чему и затем облить грязью вместе со звездами!
Газали еще больше побелел (куда еще белеть?), сник под его свирепым взглядом и промолчал. Ему, пожалуй, было даже невдомек, отчего сердится придворный звездочет. Похоже, он хотел найти в Омаре Хайяме соратника по ярой борьбе с вольномыслием…
– Звезды – они далеко, друг мой, – вздохнул Омар печально. – Так далеко, что трудно даже представить. До них не долетит земная грязь. А я… я уже и так весь обляпан тебе подобными. Отмоюсь. Оставайся. Учись, Вдруг там, где ты тщишься сыскать щебень пороков, набредешь на алмаз истины? Подлинной истины. Не заумной.
"Ведь не дурак! Ум у него пытливый. И это главное. Побудет средь нас, может, просветлеет? Сколько умных людей губит свой ясный разум лишь потому, что не находит в нужный срок, где его применить, кроме как в бреду богословия, которое всегда под рукой и одобряется властью.
Или он просто хвор? Ученый, поэт в наш век – это драчун, воитель, он должен иметь здоровое тело и крепкую голову. Хвор? Ничего. Чистый ветер Бойре выдует из него мистическую блажь".
– Ступай. Я завтра поведу тебя туда, где мы возводим Звездный храм.
– Хорошо. Но знай: я тверд в моей вере. Ну, что ж. Каменная твердость в убеждениях – первый признак их несостоятельности. Ибо нет правды без противоречий. Так иной человек упорно верит в чудотворно-великую очистительную силу воды и не знает, бедный, что именно вода и есть рассадник самых страшных болезней.
– Добро. Ступай.
Понятно теперь, почему за него хлопочет шейх уль-ислам. Богословы, конечно, в неистовом восторге от юнца. Вот как все относительно в мире! Люди не могут, не распустив слюней, говорить, например, о фламинго. А ведь, по существу, это совершенно безобразная птица – с неимоверно тонкими и длинными ногами, с уродливо тонкой и длинной шеей и нелепым клювом. Куда краше наш обычный воробей. У него все ладно; все на месте. Все соразмерно. И оперение красивое, узорное. Только приглядись.
"Эх! Попадись ты мне лет восемь назад…"
И все же Омар доволен. Не Газали – собою. Что сумел себя превозмочь, не расправился тут же, на месте, с этой бледной немочью. Трудно далось! Внутри камни друг о друга скрежетали…
Уже потом, через много лет, он горько пожалеет, что не оторвал ему голову. Но кто бы мог подумать, что сей заморыш своим гнусным сочинением "Опровержение философов" нанесет почти смертельный удар остаткам древней восточной учености?
***
После затяжной, сухой и холодной весны сразу, как здесь нередко случается, загорелись знойные дни. Не было нынче долгожданной весенней свежести. Потому что не было дождей. По селениям ошеломляюще, как слух о войне, пронеслось:
"Засуха… воды нет… засуха".
Крестьяне с утроенным рвением чинили, чистили подземные каналы – кяризы, по которым грунтовые воды текут из предгорий в долину. Но если всю зиму нет снега, весною нет дождей, земля остается сухой, а небо – пустым, то откуда же взяться воде под землей?
– О боже, что будет с нами? – вздыхали селяне. Во дворце это никого не тревожило. Главное – золото, железо. И богословие, разумеется. А поесть что-нибудь они всегда себе найдут.
Во дворце затевается пир по случаю обрезания малолетнего царевича Баркъярука.
– Знаешь, – смущенно сказал Меликшах визирю, который уже ходил. – Будет сам шейх уль-ислам. Нельзя ли сделать так, чтобы он… не столкнулся на пиру… с нашим звездочетом? Омар… нрав у него… сам знаешь, какой. Выпьет чашу вина и брякнет одно из своих злых безбожных четверостиший. Нехорошо.
– И без вина может брякнуть.
– Ты бы сказал ему, только так, чтобы он не обиделся… после втроем посидим, сотворим холостяцкую пирушку…
– Шейх уль-ислам? – Омар, стиснув зубы, опустил голову. – Ведь это бывший главный шейх-наставник медресе? Знаю его. И он меня знает. Жив еще людоед? Это головорез! Он устроил избиение ученых в Нишапуре. Нет, если б меня даже позвал сам. султан, я не пошел бы на пир, где будет таращить глаза старый стервятник. Не то, что есть и пить с одной скатерти – одним воздухом с ним не смогу дышать! Пусть Газали, любимчик шейх ульислама, в его обществе пирует. Хотя куда ему, бедолаге? Ест за троих, спит за четверых и все равно чуть живой. Никак не растолстеет. Только и остается, что мусолить вопросы богословия. Мир вам! Счастливо пировать.
Он уехал в Бойре. Знойно. Небо утратило яркую синеву, точно выцвело, по краям – совсем белесое. Как будто на дворе уже месяц Льва.[10]10
июль – август
[Закрыть] Хотя солнце совсем недавно вышло из созвездия Тельца. Телец, Телец… Один – наверху, второй, бык-телец, внизу – подпирающий, по мусульманскому поверью, плоскую матушку землю.
Один Телец средь звезд сверкает в небесах,
Другой хребтом поддерживает прах,
А между ними, – только поглядите! —
Какое множество ослов пасет аллах…
Дуракам, конечно, трудно с умными. Но – эх! – если б знали они, как трудно умному средь дураков. Доказывать им, что дураки, драться с ними? Их много, забьют. Остается только жалко усмехаться, когда они бьют, полагая, что это – тебе же на пользу.
Но… может быть, ты слишком придирчив? Может, глупость и есть норма, обычное человеческое состояние? А разум – болезнь, отклонение? Кто-то сказал: если власть возьмут горбатые, они перебьют всех прямых, объявив их калеками.
Не потому обиделся Омар, что ему не придется отведать тонких вин и редких яств. А потому, что в его лице оскорбили науку. Всякий святоша, от которого стране никакой совершенно пользы, бездарный поэт, шут-кривляка будет зван на богатый пир, даже рабы урвут свое, а для ученого, видишь, места у них не нашлось.
Ну, погодите. Придет когда-нибудь время, когда ханы, султаны уже не смогут без нас обойтись, будут бегать за нами, учеными, искать нас, просить, иначе сгинут без нас. Или их уже и не будет тогда, всех этих вождей, султанов и ханов?








