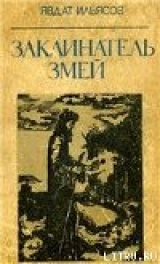
Текст книги "Заклинатель змей"
Автор книги: Явдат Ильясов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 21 страниц)
– Всем бы этим султанам да ханам – да под зад бы коленом, и власть вручить ученым да поэтам. Самые добрые, честные люди на свете. Простой народ поладил бы с ними, они – с простым народом. Свободный труд и свободный разум могли бы создать рай уже тут, на земле. Но законники вклинились между ними и не пускают друг к другу.
– Боятся, чтобы те не объединились. Ведь тогда их песенка спета.
***
– Поэты выше царей. Ибо царь властен над телом и имуществом человека, а поэт – над его душой.
***
– Со времен пророка прошло пятьсот с чем-то лет. Мир уже совсем другой, и люди – совсем другие. А улемы-законники все продолжают вопить: "Пророк, пророк! Он сказал то, он сказал это". И не видят, болезные, что они с пророком идут одним путем, – вернее, топчутся на месте, – а человечество давно уже ушло другим путем…
***
– Море? Абсурд! На земле, в этой проклятой сухой пустыне…
– Почему? На севере, юге…
– Я не видел морей!
– Но они не исчезли оттого, что ты их не видел.
***
– Они создают себе жизнь, терпеливо высиживая на богословских собраниях. Голова у них легкая, зато зад увесистый, иначе долго не усидишь…
"Лучше Экдес никого не будет. – Омар отер полой халата мокрые глаза. – Экдес! Ты поистине была «священной». Погубили они тебя. И меня погубили вместе с тобой".
***
– Чтоб оправдать свою лень, неумелость, нерасторопность, мы вечно ссылаемся на изменников и злоумышленников, на происки наших врагов. Но беда – не в них, она – в нас самих!
***
– Пьяных много! Но не каждый встречный пьянчуга – поэт. И не каждый встречный поэт – Омар Хайям…
"…Неужто старею? – думал Омар с печалью. – Раз уж начинаю жить воспоминаниями. Мне, в моем-то возрасте, еще можно мечтать о новых встречах".
Он, видно, дремал какое-то время. Удивленный тишиной, чуть приоткрыл глаза: в подвале пусто. Все ушли. Только двое проныр, забившись в Омаров дальний угол, лихорадочно шептались:
– Тихо! Услышит…
– Э, ему не до нас. Так запомни и другим передай: послезавтра в Рей уходит большой караван. Мы и накроем его в ущелье Трех ключей. Место сбора – в Ореховой роще. Черный Якуб приказал завтра вечером всем быть на месте.
Ох! У этих свои заботы. Тоже люди. Черный Якуб – известный разбойник из-под Себзевара, о нем давно не слыхали в здешних местах. Явился. Омар пожалел, что пришел сюда. Не знал, что здесь бывает подобный сброд. Да и художники, писцы, переплетчики… с их отчаянно «смелыми» разговорами украдкой, с оглядкой – что они могут изменить в стране? Болтовня. Зло, гнет, несправедливость – не капля росы, чтобы слизнуть ее языком.
Но и дома ему теперь не сидится. Он допил свою "благословенную воду". Пойду куда-нибудь. И поплелся, шатаясь, прочь. Хозяин заботливо проводил его к выходу:
– Может, домой отвести?
– Не хочу домой!
– Как знаете, сударь.
И Омар потащился в одно известное ему местечко. "Нет смысла в разгуле, – нам жизнь сокращает вино". Подстрекаемый ненавистью к обывательскому достолепию, он нарочно, со злорадством, брел по самым людным улицам и перекресткам. "И в трезвости тоже нет смысла: умрем все равно". Чтобы издевательски дать повод каждому из этих благоприличных охламонов сказать самоуважительно: "Я же говорил!.."
"Плевать, в чем утонешь: в соленой воде или пресной…" Пусть утешается, быдло, что оно, хоть и ничто само по себе, всего лишь прах, все же – пристойнее, лучше Омара Хайяма. "Для пьяных и трезвых дорога одна – на черное дно". Конечно! Куда нам до вас…
Сказано в "Махабхарате":
"Следующие десять не признают законов, о Дхритараштра, запомни их: пьяный, нерадивый, сумасшедший, усталый, гневный, голодный, а также торопливый, испуганный, жадный и влюбленный – эти вот десять".
И все десять, казалось, объединились сейчас в Омаре Хайяме. Даже мухтасиб, с опаской приглядевшись, уступил ему дорогу.
***
…Через час, опираясь о правый локоть, он возлежал на пятнистом ковре перед низким столиком, освежался шербетом и снисходительно слушал старуху Айше, хозяйку ночного заведения. С давно увядшим лицом в белилах и румянах, сводня старалась его разжалобить – чтобы, как видно, тем самым подогреть его щедрость.
– Улыбаться, когда хочется плакать. Стонать как будто от вожделения, когда больно. Развлекать мужчину нежной песней, искусной игрой на дутаре, страстными телодвижениями в танце. Всему их надо учить! Замучилась, сударь. Я беру их из разных мест: и в городе из бедных кварталов, и на базаре, и с гор и степей, деревенских. И всех корми, одевай. А жизнь какая? Дороговизна. От нужды пропадаем.
Старуха всплакнула. И, размазывая по морщинам слезы, перемешанные с краской, сквозь растопыренные крючковатые пальцы оглядывала злыми глазами его добротную одежду. Человек, видать, с деньгами.
Бедняжка! Омар усмехнулся. Как ей трудно. И, конечно, она считает свое ремесло важнейшим на свете. Приди ты к ней с целым карманом звезд небесных, она тебя прогонит с бранью, если в кармане этом средь звезд нет золотой монеты. Еще и посмеется над тобою.
– Знала ты… Ферузэ? Из мастерской Ибрахима.
– Ферузэ, Ферузэ? А! Помню. Ее забрал себе некий… как его…
– Бей Рысбек.
– Верно! Я всегда любовалась ею. Звала к себе – не хочет. Продал красотку Рысбек! Сама я хотела купить – в цене не сошлись. Он и продал ее арабу с Бахрейна. Давно это было, не так ли? Я потому ее помню, что Ферузэ мне племянницей доводилась.
– Та-ак. Хороша тетушка… – Омар поставил чашу на столик. – Прощай.
– Разве гость не останется у нас ночевать? – всполошилась старуха. – Сейчас девочки выйдут. Ах, я сама виновата! Расхныкалась. Человек, я вижу, совестливый, не пожалеет, думаю, кинуть лишний динар. Но гость пришел развлечься, а не жалобы слушать. Ах, дура я, дура, старею…
"Хе! Она еще о совести толкует. Но и впрямь совестно – ввалился, обнадежил и… ничего".
Он бросил ей последний дирхем, – один дирхем, к ее неудовольствию.
– Я ухожу.
– Но гость не видел моих девочек!
– И видеть не хочу.
– Обижаете, сударь! Есть у меня для вас Ферузэ. Другая. Ей всего шестнадцать.
– Другая? В другой раз…
***
Наутро, покопавшись в карманах, Омар обнаружил… два фельса. Н-да. За них могут налить чашку шербета. Он бродил по просторному двору, грустно размышляя, как теперь ему быть.
Работая над «Наврузнамэ», Омар думал, получив за нее хорошую плату, сразу взяться за большую поэму «Алимнамэ», об ученых. Хватит о царях! И другие замыслы были у него.
Уточнить меры, разработать новые – как советовал ему когда-то Мухтар в Самарканде.
Написать обзор тюркских племен, выявить их происхождение, сравнить языки.
Создать руководство по персидскому стихосложению.
Съездить в Индию, в Китай, на Кавказ, к булгарам на Волгу…
Все это прахом пошло.
Дом, что ли, продать? Зачем он ему одному, такой огромный? Убирать устаешь, пыль выметать. Продать и купить взамен небольшую уютную хижину. На остальные деньги жить…
…В калитку – быстрый негромкий стук. Кого там шайтан принес? Но Омар, который еще недавно никому не открывал, теперь уже рад любому гостю. Одиночество заело. Покашляв, чтобы дать знать пришедшему, что он дома и слышит, Омар открыл калитку.
Мальчишка, смуглый, быстроглазый:
– Здравствуй. Мой хозяин, купец Музафар, велит тебе скорей явиться на Шелковый базар. У него к тебе важное дело.
– Велит… мне? А ну, убирайся отсюда, пока целый! У него ко мне дело – не у меня к нему.
Омар с досадой захлопнул калитку. Еще недавно им помыкали цари и визири, теперь какой-то купчишка берется им помыкать. "Велит…" Вели своей жене, пес паршивый.
Так и не придумав, где добыть денег, он решил: ничего не буду делать! Никого не буду искать, ни у кого ничего не стану просить. Запрусь, залягу дома, как горный медведь в пещере, и буду лежать. Лежать и лежать, пока что-нибудь не произойдет. Что-нибудь ведь должно когда-нибудь произойти?
Но ему не дали залечь. В калитку вновь постучали, громко и требовательно.
– Я Музафар, – сказал дородный старик в добротной одежде.
– Проходи.
– Разве ты не слыхал обо мне? – спросил купец, как бы удивленный тем, что Омар при его имени не повалился ему в ноги.
Омар: "Ну, я собью с тебя спесь". И – простодушно:
– Нет. Купцов много, знаешь. А я – один.
– Хм. – Лицо у Музафара сделалось густо-багровым, с синевой, как гранатовая кожура.
Омар, морщась от тошноты, махнул рукой на помост под пышно-желтой осенней шелковицей. И сам сел первый, отирая со лба холодный пот.
– Хозяин харчевни сказал… что ты умеешь гадать по звездам? – угрюмо спросил Музафар, неловко усевшись на край помоста, накрытого кошмой.
– Н-ну и что? – промычал Омар недружелюбно.
– Завтра в Рей… уходит большой караван, – доложил мрачно купец Музафар. "А! – вспомнил Омар. – Те двое вчера говорили об этом". – Десять верблюдов – мои. Хороший товар. Но я тревожусь. Дороги опять стали опасными. Не погадает ли… ученый друг, – каждый звук торговец произносил с усилием, будто не слова выдавал, а деньги, – по небесным светилам… стоит ли ехать завтра в Рей?
"Так-так. И сей остолоп, тупоумный муж, жалкий торгаш, совершенно уверен, что светила небес страсть как озабочены судьбой его ничтожных барышей. Прогнать его взашей! Вся Вселенная с мириадами звезд так и корчится со страху за его товары. Но…"
– На какую сумму товары везешь?
– Это нужно для гадания? – смутился купец.
– Да.
– На… две тысячи пятьсот динаров.
– Двадцать пять.
– Что?
– Двадцать пять динаров за гадание.
– Так много? – поразился Музафар.
– А что ты думаешь, – возмутился Омар, – я за один серебряный дирхем стану спасать твои две тысячи пятьсот золотых динаров? Беру за гадание сотую часть. Пожалеешь сотую часть – потеряешь все.
– Но если, – замялся сытый старик, потирая румяные щеки, – если предсказание… не сбудется?
– Сбудется! Я гадал самому султану Меликшаху. И всегда удачно.
Музафар, тяжко сгорбившись, долго вертел в руках бархатный красный кошель. Его раздирали скупость и страх. Двадцать пять динаров! С ума сойдешь. Но две тысячи пятьсот…это десятая часть его состояния.
– Ручаешься… за предсказание? Он все озирался, все озирался, будто боясь, что на него сейчас нападут. Не нападут, болван.
– Эй, здесь что тебе – базар? – рассердился Омар. – Хочешь – гадай, не хочешь – проваливай. Лишь бы не пришлось завтра слезы лить.
Музафар со стоном вздохнул, точно он страдал с похмелья, а не Омар, отсчитал дрожащими пальцами двадцать пять звонких монет. Словно двадцать пять чаш собственной крови выцедил. Даже побелел, обескровленный.
Омар не спеша отнес монеты в дом, принес астролябию и звездные таблицы.
– Гороскоп?
– Телец.
– Опасное созвездие! Та-ак. – Омар измерил высоту солнца. – Один Телец – средь звезд сверкает в небесах, – раскрыл он таблицы. – Другой – хребтом поддерживает прах. А между ними… Жребий сокровенного, – умышленно городил он астрологическую чушь, лишь бы придать всей этой чепухе видимость серьезного дела. – Жребий счастье. Соединение и противостояние. Квадратура. Тригональный аспект – таслис. Секстильный аспект – тасдис. Вы только поглядите! Созвездие упадка. Действие неблагоприятное. Какое множество… Выход – закрыт.
Вот что, почтенный Музафар. Господь тебя сохрани выйти завтра с караваном в Рей! Он обречен. И другим передай, чтоб не смели ехать. Задержите караван на пятьшесть дней.
"За это время разбойники устанут ждать и разбредутся. Черный Якуб уйдет нн с чем".
– И не подумаю, – проворчал Музафар. – Пусть едут. Я дома посижу. Прикинусь хворым. Какой из меня торговец, если я стану остерегать соперников от убытка?
"Хорош мусульманин! А ведь вместе ест, водится с ними. Ну, ладно, – подумал Омар устало. – Мне-то что до их удач и неудач? Я не побегу пх выручать. Если бы я вчера не забрел в харчевню и не подслушал случайно разговор тех двух проныр, сидеть бы мне сейчас с динаром своим последним, дрожа над ним: истратить, сберечь. И кто бы из этих сытых, благополучных торговцев вспомнил обо мне? Пришел проведать, узнать, я живой пли уже с голоду умер? На похороны денег нс дадут! Все они – разбойники. Кто кого. И пропадите вы все".
– Как знаешь. Я свое дело сделал.
…На следующий день, во второй половике, Музафар опять постучал в калитку – уже громко и уверенно.
Сел на край помоста, отирая, как вчера Омар, холодный пот.
– Ну?
– Караван… разграблен. Четверых из охраны убили. О, мой ученый друг! – Он прослезился. – Ты спас меня от страшной беды. Теперь я – ни шагу без тебя, без твоих мудрых советов… – И он, к изумлению Омара, отсчитал ему… еще пять динаров.
***
Через несколько дней в к: литку вновь постучали. Негромко и робко. Повадились! Странный стук. Опять Музафар? Омар открыл калитку и увидел за дальним углом переулка исчезающую женскую фигуру в чадре. Что-то в ней, этой фигуре, ему знакомо. Но женщина уже скрылась за углом.
Сбоку от него кто-то всхлипнул. Омар взглянул направо, вниз и обнаружил на привратной скамейке другую фигуру в чадре, тонкую, маленькую. Плачет. Он присел перед ней на корточки, осторожно раздвинул чадру. О боже! Мокрые от слез, в густых мохнатых ресницах, изумительно зеленые глаза. Как хризопразы, только что вынутые из морской воды.
– Ты кто?
– Фе… Ферузэ.
– Какая такая еще Ферузэ?
– Я деревенская! – Она громко разрыдалась. – Мне в городе негде жить…
– Тихо, тихо! Не шуми на улице. – Он завел ее во двор, усадил на помосте.
– Старуха Айше обманом завлекла меня к себе, – рассказала она, содрогаясь. – Три дня я была у нее. Когда узнала… убежала. Я дочь порядочных родителей. Как я дойду теперь до дому? У меня ни фельса денег. Одна сердобольная женщина… показала твой дом. Может, приютишь хоть на несколько дней?
И она скорчилась на помосте, сотрясаясь от безутешных рыданий.
– Ох, не реви! Сбрось свои дурацкий балахон, покажись.
Она мигом стянула чадру, – и перед Омаром предстало нечто крохотное, с детским телом и взрослым лицом, козлиными тонкими ножками. Тут и разглядывать нечего. Одни глаза – огромные, ярко-зеленые. Таких и не бывает у людей. Это ведьма.
– Н-да… – Омар озадаченно взъерошил свою черную, без единой сединки, короткую бороду. – Из какого же ты селения?
– Из-под Серахса.
– Н-да… Далековато.
– Я еще и старухе должна осталась.
– За что?
– За проезд, одежду, еду и ночлег.
– Сколько?
– Де… десять динаров.
– Н-да… Многовато. Она знает, что ты у меня?
– Нет! Откуда? Не знает.
– Узнает. Есть хочешь?
Встрепенулась:
– Хочу! С утра голодная.
У него как раз поспел на кухне мясной суп с овощами.
– Ячменную водку, конечно, ты пить не будешь. Но чистого вина хлебнешь?
– Если господин дозволит.
– Пей. – Он налил ей полную чашу.
Через какой-нибудь час, ополоснувшись и натянув атласные штаны, она уже по-хозяйски обходила его большой унылый дом.
– Ну, как?
– Пусто! – Она сморщила маленький птичий носик. – А еще – поэт. Постель, коврик, столик да книги. Везде книги! Одни книги. Ты убери их и спрячь. Не люблю.
– А что ты любишь?
– Я люблю сладкое.
Омар – покорно:
– Уберу, спрячу.
Не успела войти, оглядеться, как уже начинает навязывать ему свои вкусы. И не хочет знать о его вкусах. Он, к примеру, терпеть не может липких сладостей. Захочется сладкого – ест дыню, груши, виноград, черешню. Ну, ладно. Все равно она но душе Омару.
– Говорят, ты получал при царе Меликшахе десять тысяч динаров в год.
– Получал, – вздохнул Омар.
– Где же они? У тебя двор и стены должны быть выложены золотыми монетами.
– Где? – вздохнул Омар. И произнес с печалью:
Рыба утку спросила: "Вернется ль вода,
Что вчера утекла? Если – да, то – когда?"
Утка ей отвечала: "Когда нас поджарят,
Разрешит все вопросы сковорода". Видно, и впрямь ему надо было сберечь для себя тысяч двадцать-тридцать. Но разве он мог тогда предвидеть, что очень скоро останется ни с чем? Ах, этот Звездный храм…
Омар – смиренно:
– Я… я их пропил.
Ферузэ – решительно:
– Больше ты не будешь пить! Слышишь? Я запрещаю. Омар усмехнулся. Забавно! Она. Ему. Запрещает. Видно, не совсем в своем уме эта девка.
– Ничего, кроме воды! Разве мало тебе одной меня? Ого! Она хочет собой заслонить от него весь белый свет, Нет, это не деревенские замашки. Когда и где успела нахвататься? Пожалуй, куда больше трех дней пробыла у старухи Айше. Куда больше.
– Денег-то нет? А еще – поэт…
– Разве поэт, – грустно сказал Омар, – фальшивомонетчик, чтобы купаться в деньгах? Есть, конечно, поэты, которых можно отнести к разряду фальшивомонетчиков. Те, кто пишет в угоду властям пустые скороспелки. Настоящий поэт – человек трудовой и, значит, бедный.
– Кончай свою дурную, беспутную жизнь! Если хочешь, чтобы я у тебя осталась. Ступай на базар. Ты ведь грамотный? Откроешь лавку, будешь прохожим писать прошения. И тем зарабатывать на жизнь. Что мне из того, что ты знаменитый поэт? Будь хоть базарным носильщиком, но человеком порядочным.
…Миг! Он мелькнул, опасный миг, когда эта козявка, вместе с нарядной чадрой, атласными штанами и уоогим узелком своим чуть не очутилась, кувыркаясь, на улице, в дорожной пыли. Базарный завсегдатай, носильщик, вор, наркоман – человек порядочный, потому что молится богу и каждый вечер приносит горсть приторных сладостей. А поэт, выходит, нет.
Н-но… перетерпим и это. После стольких дней одиночества он боялся ее упустить. И жалел ее. Куда она пойдет? Пропадет. Опять к старухе Айше?
***
Омар, чтобы ее прокормить, объявил через соседей, что лечит больных на дому. Сперва недоверчиво, робко, затем, распознав действительно дельного лекаря, охотней, смелей, – потянулись хворые к нему со всех сторон. Лечил он их, в основном, отваром из редких растений и мазями, приготовленными из тех же целебных трав. И, конечно, ячменной водкой:
– Обожглась? Ах, бедняжка! Сделай примочку из ячменной водки.
– В желудке боль? Примочку из ячменной водки. Ну, а ты чем страдаешь?
– Судорогами в ногах.
– Поставь их в ячменную водку.
И так далее:
– Лихорадка? Ячменную водку…
– Кашель? Ячменную водку…
– Горячка? Ячменную водку…
И вылечивал их! Они, довольные, хорошо платили.
Но все равно денег всегда не хватало.
– Какое чудесное платье у жены шейха Али ибн Ахмеда аль-Мохамеда, – когда у меня будет такое? Не будет завтра к утру – я умру; сколько стоит жемчужное ожерелье, и за что ты меня любишь; у соседки Зохре нос как скалка, она катает им тесто; правда ли, милый, что земля держится на роге быка, а бык на рыбе, а рыба на воде, а вода на воздухе, а воздух на влажности, а на влажности обрывается знание знающих? Конечно, правда, ведь так указано в коране, и за что ты меня любишь…
Она душу ему истерзала!
Видно, ей кто-то внушил (не старуха ли Айше?) – чтоб не надоесть мужчине очень скоро, следует как можно чаще быть другой, неожиданной, новой, или просто уж нрав у нее был такой безалаберный, вздорный, – но Ферузэ то и дело оглушала беднягу Омара какой-нибудь внезапной, из рук вон глупой выходкой.
Он никогда не мог узнать наперед, что она выкинет в следующий миг. То хохочет, то плачет. То у нее праздничный вид, то похоронный. Причем все беспричинно. И вполне преуспев в своих неусыпных стараниях, она надоела ему смертельно уже на третий день.
– Почему у торговца шелками Музафара аль-Мустафы целая конюшня красивых лошадей для выезда, а у тебя нету даже осла, а еще – поэт; у него даже дворничиха каждый день меняет платье; будь хоть базарным носильщиком, но человеком порядочным; как, милый, зовут тех двух ангелов, что бьют покойника, как его погребут, горящими палками? Ох, как страшно…
И впрямь – орудие сатаны!
– Что ты все чертишь, кому и зачем это нужно, ох, как хочется есть; брось свои паршивые бумажки, свари мне плову, что ты все пишешь, сколько денег за это дадут, может, нисколько, а еще – поэт; почему ты опять пьешь свою ячменную водку проклятую, оставь сейчас же, а то уйду, и за что ты меня не любишь…
– Не мешай, – усмехался Омар снисходительно.
– Милый, ведь ты сейчас ничего не делаешь, не пишешь?
– Не пишу – значит думаю.
– Разве нужен досуг, чтобы думать?
– Нужен. Досуг длиною в жизнь. И еще хоть немного ума, конечно.
"Это моя последняя любовь", – думал он с горечью.
***
Теперь в калитку стучали так часто, что Омар не удивился, когда, постучав в свою очередь, перед ним возник небольшого роста плотный старик. Хворый? Нет, не похож на хворого. Крепкий, румяный. Правда, бос, и халат у него рваный, но от таких недугов нет у Омара средств.
– Чем могу служить?
– Старуха болеет. – У старика забегали глаза, будто он хочет скрыть, что сам повинен в ее болезни.
– Почему же ты ее не привел?
– Не может ходить, – юркнул глазами старик.
– Тогда посиди, подожди. Отпущу других больных, пойду смотреть твою старуху.
– Ее не надо смотреть. – Старик вздохнул, опустил глаза к земле. – Не о ней речь.
– О ком же?
– Сын… нас покинул. Вот нынешние дети! Ушел три года назад в проклятый Балх, с тех пор и глаз не кажет.
Слышно, деньги у него завелись. Написал бы ты ему письмо от меня, а? Балх, караван-сарай у Нишапурских ворот. Мустафе аль-Мансуру, башмачнику. Такое письмо, чтоб до слез… чтоб, его прочитав, он бросил все, подхватился – и скорей домой, в Нишапур. И чтоб денег привез. Мол, мать умирает, истосковавшись, хочет сына увидеть в последний раз. Отец, мол, бедствует, нужда заела. Напишешь? Я заплачу. Чтоб – до слез! Ведь ты поэт.
– Напишу. – Омар, осмотрев и выпроводив больных, взял бумагу, чернильницу, тростниковое перо. Ферузэ, накинув чадру, порхала поблизости. Постарался Омар! Сам чуть не рыдал, читая письмо старику. Очень чувствительно получилось.
– Отошлю с караваном, – всхлипывал старик, одной рукой пряча письмо за пазуху, другой отирая слезы. – Эх, бедность.
Он развязал узелок, долго перебирал медяки, со вздохом выудил серебряную монету.
– Один дирхем могу дать. Больше нет. Хватит?
– Не надо, – покачал головой Омар. – Я не возьму твои дирхем. Лучше старухе своей купи что-нибудь повкуснее.
При этих его словах Ферузэ, возившаяся у очага в летней кухне, с яростным звоном уронила медный черпак в чугунный котел.
– Благослови тебя господь! – Старик, довольно юркнув светло-карими глазами, живо убрал узелок с монетами. – Я пойду.
– Приедет сын – приходите в гости, – проводил его Омар.
– Почему ты не взял с него деньги? – Ферузэ сорвала чадру, скомкала, швырнула в сторону. – Ишь, какой богатей! По дирхему каждому дарить.
– Это его последний дирхем, – сказал Омар примирительно.
– А мне что за дело до этого?! – взвизгнула Ферузэ.
– Старуха у него хворает, – пробормотал испуганный Омар.
– Зато он сам здоров, как лошадь!
– Вот когда ты сама станешь старухой и заболеешь, а сын твой будет скитаться где-то в чужих краях…
– Ты думаешь, им нужен сын? Им нужны его деньги! Заработал, бедняга, в поте лица, перебиваясь с хлеба на воду, один-другой золотой динар, по медному фельсу копил, так они не дадут ему истратить их на себя. Из рук вырвут
– Ну, не знаю. Меня попросили написать письмо – я его написал.
– И хорошо, что написал! Почему деньги не взял?
– Как можно… у бедняка… последний дирхем…
– На дирхем можно день прожить!
– Разве тебе нечего есть? – удивился Омар. – В кладовой всего достаточно.
– Все равно!!! Это – деньги, понимаешь, ты, несчастный поэт, дирхем – это деньги!
– Не понимаю! Дирхемом больше, дирхемом меньше… Разве монета – солнце, чтобы из-за нее вопить, как петух на ограде?
– Ну, погоди! Вот я уйду от тебя. Останешься ни с чем, будешь знать, что такое дирхем. Ум жены – в красоте, красота мужа – в деньгах.
Он уныло махнул рукой и побрел в харчевню "Увы мне". Через несколько дней старик пришел опять. На сей раз Ферузэ не отходила от них.
– Отправил письмо?
– Отправил, да благословит тебя аллах.
– Чем еще я могу тебе помочь?
– Сосед у меня… – Старик юркнул глазами по закрытой чадре Ферузэ. – Он художник. Каждый день смотрю сквозь щель в ограде – никогда не молится. Безбожник. Вино пьет, разных женщин… водит. Каждый вечер у них – песни, танцы. Бубен гремит, заливается флейта…
– Ну, и что? – насторожился Омар.
Старик, вошедший во вкус:
– Давай напишем об этом! Ты хорошо пишешь. Отошлем письмо городскому имаму…
– Почему же не сразу шейх уль-исламу? – усмехнулся Омар, холодея от ненависти.
– Верно! – воодушевился старик. – Изобличим отступника, может, получим награду, а?
Омар – угрюмо:
– Вот что, почтенный…
– Пиши! – прошипела Ферузэ ему на ухо. – И потребуй шесть дирхемов.
– Прочь! – рявкнул на нее Омар – впервые с тех пор, как она у него поселилась. Ферузэ, потрясенная, свалилась с террасы, где они сидели. – Вот что, зловредный старик. Аллах даровал человеку грамоту для вразумления. А доносы писать – какое уж тут вразумление? Дело подлое. Не к лицу мужчине. Не затем бог наградил меня способностью к словесности, чтобы я ею травил кому-то жизнь.
– Но ведь он – безбожник! – Глаза у старика перестали бегать и уставились, неумолимо честные, правые в своей слепоте, прямо Омару в глаза.
– Я сам безбожник! – взревел Омар. – А ну, убирайся отсюда. – Омар сбежал с террасы, выхватил из груды саксауловых дров тяжелую корявую дубину. – Сейчас я тебе покажу, старый кляузник…
– Тогда я… тогда я на тебя напишу! – пригрозил старик, вмиг оказавшийся у калитки. – Найду другого грамотея. Вот негодяй! Сам и писать-то не умеет, а туда же…
– Пиши! Пиши донос. Иначе тебя продерет кровавый понос!
Омар, потерявший голову от ярости, с такой силой метнул кривую дубину, что она, грохнувшись о столб закрытых ворот, с треском распалась на куски и осыпала старика щепками. Саксаул – он твердый, но хрупкий.
Старик, смертельно испугавшись, застыл у калитки, не смея шевельнуться.
– Убирайся, – устало кивнул ему сразу остывший Омар. – Но запомни: если ты еще раз появишься в нашем переулке, я тебе ноги переломаю.
Старик благополучно скрылся.
– Шесть дирхемов, шесть дирхемов, – рыдала Ферузэ в стороне, на помосте.
– Вот что, милая, – холодно и жестко сказал Омар, присев рядом в нею. – Если ты еще раз произнесешь в этом доме слово «деньги», я тебя в тот же миг перекину через ограду. Даже калитку не стану открывать.
"Повторяюсь, – горько усмехнулся Омар. – Если ты еще раз… ноги переломаю, через ограду перекину. И переломаю! – воскликнул он мысленно с вялой решимостью. – И перекину".
Повторяющиеся угрозы – очень часто угрозы пустые.
– Но… как же мы будем жить? – давилась слезами Ферузэ.
– А что ты понимаешь под словом "жить"? – сказал Омар спокойно и проникновенно. – Ты сыта, одета, обута. Есть крыша над головой, есть постель. Никто тебя не обижает. Я тебя люблю. Чего еще? Сколько платьев нужно одной женщине? Допустим, сто. Или тысячу. Но кого ты ими хотела бы удивить? Весь мир? Или старуху Айше? Мир велик, его ничем не удивишь. Старуху – можешь, но она ничтожна, не стоит стараться ради нее.
– Я думала… думала, раз ты поэт, да еще знаменитый – у нас будет какая-то особая жизнь.
– А разве у нас не особая жизнь? – вскинул брови Омар. – Мы ни от кого на свете не зависим. Живем, как хотим, как умеем. Никому поклонов не кладем. Мы свободны, как дети! Весь мир наш. С горами, реками, зелеными долинами. С небом в ярких звездах. И с нашей страстью.
– Что мне звезды? Я живу на земле.
– Ну, хорошо. – Омар принес стопку исписанных листов. – Вот, я работаю сейчас над новой книгой…
Он задумал написать яркую сказку по рассказу Али Джафара о самаркандском юноше, который угодил ночью в селение гулей-людоедов. Она должна стать небывалой сказкой! Он подробно разработает каждый шаг, каждое движение. И так достоверно, как будто все происходило на самом деле. Уж он позаботится о красках! Не чернилами – разведенным золотом будет писать. И посыпать строки, чтобы просохли, не песком, а толченой бирюзой. И придаст своей сказке смысл хоть и печальный, но философский. Кто поймет – тот поймет.
– Закончу – преподнесу окружному правителю. Он здесь у нас – чем не царь? И мы сразу разбогатеем. Полы устелем коврами, стены увешаем шелковыми сюзане. Углы заставим сундуками, ниши завалим посудой. Будешь весь день есть сладкое. Будешь есть что захочешь, из десяти сразу мисок, если не хватает одной. Кур, куропаток, жареных соловьев. Хоть крокодилов индийских. Растолстеешь! Сиди, озирайся – и радуйся. Найму тебе служанку, будет мух от тебя отгонять, будет слух твой услаждать нежной песней. Отхожее место – и то превратим для тебя в уголок рая. Будешь… сквозь дыру в роскошном ковре.
Такой бы жизни ты хотела?
Будет!
Но подожди, потерпи. Не прогадаешь. Все равно все мое останется тебе, – я проживу еще лет двадцать, не больше, а тебе сейчас только шестнадцать. Успеешь насладиться жизнью.
– Ждать, терпеть…
– Ну, конечно, – печально вздохнул Омар. – Мужчина может ждать и терпеть. Женщина – нет. Ей сейчас – вынь да положь.
"О боже! – подумал он с тоской. – До чего я докатился. Обрыскав всю нашу Вселенную, искупавшись в лучах далеких звезд, пронзив острой мыслью бесконечность и соприкоснувшись с вечностью, свалился в грязную яму – и лезу из кожи, чтоб угодить… кому? Позор!"
– Вяжут у вас в селе?
– Вяжут, – удивилась она его вопросу.
– Что именно?
– Платки, покрывала. И прочее.
– Значит, ты знаешь, что вязание начинается с одной, первой петли, и так, терпеливо, цепляя петлю за петлю – до конца. Сколько внимания нужно, усидчивости, прилежания. Огромный труд, тяжелый и долгий! Можно ослепнуть. Пропустишь одну петлю – и все расползется. Так и писатель вяжет книгу: слово к слову, строку к строке, страницу к странице. Нить он вытягивает из головы, превратив в пряжу свой мозг. Понимаешь?
– Не понимаю!
Он встал. Губы и руки у него дрожали.
– Вот тебе десять динаров. Отдашь старухе Айше. Будет рада. У нее твое место. Собирайся! Я больше не могу нести бремя твоего присутствия.
– То есть как? – оскорбление встрепенулась Ферузэ. – Ты меня гонишь? Меня? Я сама уйду! Ты, корявый старик, никчемный поэт, пьянчуга, меня гонишь? На что ты мне нужен? Посмотрись в зеркало – разве ты мне пара? – Она лихорадочно принялась собирать свои вещи. – Старуха Айше… пятки мне станет лизать, если я к ней вернусь! И какие любовники у меня заведутся: молодые, красивые, щедрые.
– Давай, давай, – тяжко вздохнул Омар. – Ступай к своему носильщику.
– Всем скажу, что ты злой и жестокий! Что ты ячменную водку пьешь, что ты сумасшедший! Ни одна женщина больше к тебе не придет.
Ферузэ ушла, обругав его последними базарными словами. Но он не слышал ее. Даже вслед ей не посмотрел.
Он, тяжко сгорбившись, сидел на краю помоста и долго глядел в пустоту пустыми глазами.
***
"Не открою, – сказал себе Омар, когда наутро в калитку опять постучали. – Я ни в ком не нуждаюсь. Постучат и уйдут".
Но стук – неотступен, настойчив и даже грозен. Вот люди! Что там у них еще стряслось? Открыл калитку – вломились в красных кушаках, с палками в руках.
– Ты Абуль-Фатх Омар, сын Ибрахима?
– Допустим. А что? Убили кого, обокрали?








