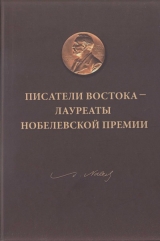
Текст книги "Писатели Востока — лауреаты Нобелевской премии"
Автор книги: Ясунари Кавабата
Соавторы: Орхан Памук,Кэндзабуро Оэ,Нагиб Махфуз,Рабиндранат Тагор,Дмитрий Воскресенский,Майя Герасимова,Наталия Колесникова,Валерия Кирпиченко,Мария Репенкова,Гао Синцзянь
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 25 страниц)
В статье «Восток и Запад» (1908) поэт писал: «Если бы Индия не вступила в контакт с Западом, она не обрела бы того, что существенно необходимо ей для достижения совершенства… Будто посланники небес, британцы проникли сквозь проломы в разрушавшихся стенах нашего дома и принесли нам веру в то, что и мы нужны миру…» В статье «Смена эпох» (1933), представляющей собой одно из итоговых изложений его взглядов на историю, Тагор высказался так: «Затем пришли англичане. Они пришли не просто как люди, а как символ нового европейского духа… Динамизм Европы взял приступом наши пассивные умы. Он подействовал на нас, как ливень из тучи, пришедшей издалека, действует на пересохшую землю, пробуждая в ней жизненные силы. После такого ливня в глубинах земли начинают прорастать все семена… Влияние такого же рода захлестнули всю Европу в период Возрождения, когда они шли из Италии…»
Основные ценности европейской культуры, которые Индии необходимо было усвоить, Тагор видел прежде всего в верховенстве разума, бесстрашно стремящегося к истине без оглядки на предписания и запреты священных текстов (в практическом плане это проявлялось в успехах европейской науки), а также в идеале равенства людей.
В известном стихотворении «Молитва» (сборник «Дары») Тагор в поэтической форме так выразил свой общественный идеал[5]5
Англоязычная версия этого стихотворения вошла в книгу «Гитанджали» под номером 35:
Where the mind is without fear and the head is held highWhere knowledge is freeWhere the world has not been broken up into fragmentsBy narrow domestic wallsWhere words come out from the depth of truthWhere tireless striving stretches its arms towards perfectionWhere the clear stream of reason has not lost its wayInto the dreary desert sand of dead habitWhere the mind is led forward by theeInto ever-widening thought and actionInto that heaven of freedom, my Father, let my country awake.
[Закрыть]:
Где дух бесстрашен, где головы высоко подняты,
где знание свободно, где ограды домов
и дворов денно и нощно
землю не делят на мелкие клочки,
где слова из глубины сердца
возникают, где беспрепятственно
во все стороны света потоки деяний устремляются
к многообразным осуществлениям,
где пустых обычаев мертвый песок
не преграждает путь разума,
не распыляет силы людей, где вечно
Ты – всех деяний, мыслей и радостей предводитель,
собственной рукой безжалостный удар нанеся, о Отец,
Индию там, в этих небесах, пробуди!
Идеал равенства людей перед богом (или иначе понимаемым абсолютом) известен был в Индии и прежде (буддизм, ислам и некоторые другие учения), но британцы принесли идею равенства всех перед законом, вытекающую из нее идею ответственности власти перед обществом – и принцип верховенства права в общественной и политической жизни. Как и для большинства других образованных индийцев, британская правовая и политическая (но не социальная!) система оставалась для Тагора идеалом.
Индии, согласно Тагору, предстояло выработать синтез всех тех разнообразных культур, которые волею судьбы приходили на ее территорию. В этом Тагор видел даже особую миссию Индии в мире, определенную ей провидением: «…провидение словно открыло на земле Индии огромную лабораторию, чтобы получить небывалый общественный сплав» (статья «Независимое общество», 1904). «Цель истории Индии – не в том, чтобы утвердить индусское или чье-либо еще превосходство, но в том, чтобы достичь высокого человеческого идеала – достичь такого совершенства, которое было бы приобретением для всех людей» (статья «Восток и Запад»).
Подобные идеи лежат и в основе романа «Гора» (1910), который индийские исследователи единодушно называют самым значительным романом Тагора. Герой романа проделывает идейную эволюцию, в чем-то, вероятно, повторяющую эволюцию взглядов самого автора: от воинствующего индусского традиционализма Гора приходит к пониманию того, что подлинная душа Индии объемлет различные культуры и объединяет их в гармоническом синтезе.
В 1910 г. было создано и известное стихотворение «Индия – священное место паломничества» (сборник «Приношение из песен»):
О мой дух, на этой священной земле пробудись,
на берегу великочеловеческого океана – Индии.
Здесь я стою и, простирая руки, приветствую человека-бога…
Никто не знает, по чьему зову многочисленные людские потоки
врывались сюда откуда-то – и терялись в этом океане.
Здесь арийцы и неарийцы, здесь дравиды и китайцы,
скифы, гунны, патаны и моголы – все слились воедино.
На Запад ныне открылась дверь,
оттуда принесли нам дары.
Дадут и возьмут, встретятся и соединятся, никого не отвергнут
на берегу великочеловеческого океана – Индии.
Приходи, арий! Приходи, неарий, индус и мусульманин!
Приходи, приходи сегодня ты, англичанин, приходи, приходи, христианин!
Приходи, брахман, очистив свой дух, протяни руку всем!
Приходи, отверженный, – да отринется бремя позора!
Приходите, приходите под благословение матери,
наполняйте жертвенные чаши
святой водой, освященной прикосновением всех,
сегодня на берегу великочеловеческого океана – Индии!
В 1918 г. Тагор основал университет под названием «Вишва-Бхарати» (что можно перевести как «Всемирно-индийский») для воплощения в жизнь общемирового культурного синтеза на почве Индии. Этот комплекс идей Тагора можно назвать своеобразным «культурмессианизмом». Одно время (особенно в 1920-е гг.) Тагор даже пытался проповедовать нечто вроде «паназиатского мессианизма», то есть идею о том, что существует некая единая «азиатская культура», общие ценности которой являются необходимым дополнением к ценностям западной (европейской) культуры. Однако, ближе познакомившись с культурой Японии, Китая и других стран Азии (в частности, во время своих путешествий), Тагор пришел к выводу, что единой «азиатской культуры» не существует и мир еще более многообразен, чем представлялось ему прежде. Но это не охладило его стремления к общемировому культурному синтезу. Поиски Тагора в этом направлении отражены, например, в известной книге под названием «Религия человека», в которую вошли лекции, прочитанные поэтом в Оксфорде в 1930 г. Название книги очень характерно: ища некий общий знаменатель для различных человеческих культур, Тагор нашел его именно в человеке. Человек без каких-либо сужающих определений касты, религии или нации, вселенский человек (universal man), способный воспринять и усвоить все лучшие проявления человеческого, – таков был идеал поэта.
Нельзя не отметить, однако, что реальные достижения Тагора в области общечеловеческого и даже общеиндийского культурного синтеза принадлежат к сфере именно весьма общих и даже абстрактных идей и практическое их претворение оказалось делом неимоверно трудным. В 1947 г. индийский субконтинент и родная Тагору Бенгалия раскололись надвое, но и в нынешней Республике Индии (то есть за вычетом миллионов мусульман, проживающих в Пакистане и Бангладеш) проблема единства – политического и культурного – остается одной из острейших.
И при жизни поэта его родина приносила ему много разочарований, отказываясь следовать тому идеальному пути, который он ей предлагал. Тагор не раз вступал в конфликт со своими соотечественниками и их лидерами, даже с самим М. К. Ганди, предпочитая оставаться хоть и в меньшинстве, но с истиной, как он ее понимал. Вторая половина жизни поэта – это также история все увеличивавшегося разочарования в европейской цивилизации в целом и в британском управлении Индией в частности. Говоря кратко, Тагор чем дальше, тем больше утверждался во мнении, что западная цивилизация предает собственные идеалы и дает свободу низменным сторонам человеческой природы: эгоизму, алчности, жестокости. Проявления этих низменных страстей Тагор видел как в жизни самого Запада, так и особенно в его отношениях с иными народами.
Подобные взгляды проявились, например, в известном стихотворении «Африка» (1937), в котором есть такие строки:
…они пришли с железными наручниками —
те, чьи когти острее, чем у твоих гиен;
пришли похитители людей —
те, чья слепая гордыня темней твоих беспросветных лесов.
Цивилизации варварская алчность
обнажила свою бесстыдную бесчеловечность…
В конце того же года Тагор написал короткое стихотворение без названия, своего рода завещание, знаменательно датированное: «Рождество Христово, 25.12.37».
Змеи со всех сторон испускают ядовитое дыхание,
нежный голос мира прозвучит пустой насмешкой,
поэтому, перед тем как проститься, я взываю
к тем, кто на борьбу с демонами готовится в каждом доме.
Первая мировая война открыла Тагору, как и многим другим, наиболее неприглядные черты европейской культуры. Вторая мировая война, начало которой он увидел под занавес своей жизни, ввергла Тагора в еще больший пессимизм. В статье «Кризис цивилизации», написанной в начале 1941 г. к своему 80-летию, Тагор с горечью признавался: «Когда-то я от всей души верил, что духовное богатство Европы станет источником новой, подлинно прекрасной цивилизации. Теперь, в час прощания с жизнью, этой веры больше нет». И непосредственно за этим признанием идут слова в духе индийского «культурмессианизма»: «И все же я не утратил надежды, что Избавитель грядет, и кто знает, возможно, ему суждено родиться в нашей нищенской хижине. Он понесет с Востока божественное откровение, ободряющие слова любви».
Особая тема – отношение Тагора к России и позже к СССР. К сожалению, эта тема изучена еще очень плохо, и ее можно наметить здесь лишь пунктиром. Прежде всего следует учесть, что в течение всего XIX в. британская пропаганда в Индии культивировала русофобию, порой принимавшую совершенно абсурдные формы. Россия была пугалом, которым британцы постоянно стращали индийцев и оправдывали некоторые свои военные предприятия (например, англо-афганские войны). Россия рисовалась страшной силой, нависающей над Индией с Севера, и индийцы должны были благодарить судьбу за то, что британцы защищают их от русских. Что до внутренних порядков в России, то британская пропаганда противопоставляла царивший там самодержавный произвол «закону и порядку», установленным в британской Индии.
В «Воспоминаниях» (1912) Тагора есть любопытный эпизод, относящийся к 1868–1870 гг. «Однажды, – пишет Тагор, – когда мой отец был в Гималаях, все вдруг стали оживленно говорить о якобы угрожающем русском нашествии – этом давнишнем пугале британского правительства… Мать моя была не на шутку встревожена. Очевидно, другие члены семьи не разделяли ее опасений, и, отчаявшись в сочувствии со стороны взрослых, она искала поддержки у меня. „Не напишешь ли ты отцу о русских?“ – спросила она. Это письмо, извещавшее о беспокойстве матери, было моим первым письмом к отцу… На письмо свое я получил ответ. Отец просил меня не бояться; если русские явятся, он сам отгонит их прочь». Очевидно, Дебендронатх Тагор относился к официальной русофобии довольно скептически. По остроумному замечанию современного бенгальского исследователя Кешоба Чокроборти, первое письмо Рабиндраната отцу было одновременно и его первым «письмом о России». Через 60 лет, в 1930 г., во время и сразу после визита в Москву, Тагор написал своим близким и знакомым еще некоторое количество писем – и часть из них (общим числом 15) составили книгу «Письма о России» (издана в 1931 г.).
Большинство индийцев, даже европейски образованных, вплоть до середины XX в. имело довольно туманные представления о России и СССР. Тагор в этом смысле вряд ли был исключением. Однако в 1920-е гг., во время путешествий по Европе, Азии и обеим Америкам, внимание поэта не могло не обратиться к Советской России. Вероятно, определенную роль тут сыграл Р. Роллан, многолетний корреспондент и друг Тагора. В 1926 г. в своем письме А. Я. Аросеву, бывшему тогда советским посланником в Стокгольме, Тагор писал: «Я узнал Россию и восхищаюсь ею благодаря ее великой литературе, и я чувствую в своем сердце зов ее человечности». При личной встрече в Стокгольме Тагор сказал Аросеву: «Ах, вы не знаете… вы не представляете себе, как мне уже с давних пор хочется попасть в вашу страну, которую я люблю по ее литературе. А теперь, когда ваш народ стал совсем новым, совсем другим, чем раньше, как рассказывали мне мои приятели, я с тем большим нетерпением рвусь туда, я хочу узнать вашу музыку, ваш театр, ваши танцы, познакомиться с вашей литературой».
Тагор приехал в СССР только в 1930 г., уже после «великого перелома». К сожалению, визит продолжался всего две недели и был ограничен пределами Москвы. Не вполне удачен он был и в других отношениях: пик популярности Тагора в СССР, пришедшийся на середину 1920-х гг., уже миновал; в стране разворачивались индустриализация и коллективизация, газеты публиковали сообщения о разоблачениях и расстрелах «вредителей». В этой ситуации фигура поэта-пророка, проповедовавшего единение человечества и всеобщую гармонию, должна была выглядеть довольно странной[6]6
Визит Тагора в СССР еще ждет всеобъемлющего и беспристрастного исторического исследования. В частности, интересные дополнительные сведения, наверное, могут быть найдены в архивах КГБ и МИД СССР. Так, А. П. Гнатюк-Данильчук в своей книге, со ссылкой на опубликованные документы МИД, пишет, что согласно первоначальным планам Тагор должен был пробыть в СССР более месяца, посетить Ленинград, Крым и Кавказ, а затем через Сибирь отправиться в Японию и далее – в США. Однако по каким-то причинам поездка была «ужата» и в отношении времени, и в отношении пространства. Погостив две недели в Москве, Тагор уехал не на восток, а на запад – в Германию, а затем – в США.
[Закрыть]. Гость и хозяева далеко не всегда и во всем понимали друг друга. Свидетельство тому, например, глава «Индийский гость» в знаменитом романе И. Ильфа и Е. Петрова «Золотой теленок», где Тагор выведен в комическом свете.
Тем не менее, на Тагора его поездка в СССР произвела очень сильное впечатление. В письме из Москвы от 25 сентября 1930 г. поэт писал: «Наконец я в России. Если б я не приехал сюда, паломничество моей жизни было бы не завершено. Еще не настало время судить, что хорошо, а что плохо в их делах, но первое, что поражает меня, это их невероятная смелость. Старое опутывает мозг и душу тысячами нитей… а они вырвали его с корнем, без всякого страха, сомнений или сожалений. Старое смели с лица земли, чтобы дать место новому»[7]7
Ср. следующий отрывок из известной книги о Тагоре, написанной человеком, который его хорошо знал: «За два года до смерти он сказал одному гостю-англичанину, что был бы рад, если бы на Индию нахлынул атеизм, потому что он, подобно лесному пожару, уничтожил бы весь мертвый мусор. Когда я был в последний раз в Индии, в октябре 1939 года, после начала войны, он сказал – и это было шуткой лишь наполовину, – что ему жаль, что он не доживет до того времени, когда Советский Союз завоюет Индию, потому что это единственная Держава, которая могла бы беспристрастно сбросить бомбы на два символично соседствующих сооружения: мусульманскую мечеть и храм Джаганнатха в Пури» (Thompson Е. Rabindranath Tagore. Poet and Dramatist. With an Introduction by Harish Trivedi. Delhi etc., 1991, c. 281). Первое издание этой книги вышло в 1948 г. В Библиотеке им. В. И. Ленина (ныне – Российская государственная библиотека) из-за этого и подобных пассажей книга была сослана в «спецхран» и «реабилитирована» только в эпоху «перестройки». В том экземпляре этой книги, которую я читал в начале 1980-х гг. в библиотеке МГУ, процитированная фраза была замазана черными чернилами цензора.
[Закрыть]. В другом письме, написанном уже по дороге в Америку, посреди Атлантического океана (4 октября 1930 г.), Тагор признавался: «…То, что я увидел, повергло меня в изумление. У меня было слишком мало времени, чтобы выяснить, в какой мере здесь существует, а может быть, вовсе не существует Закон и Порядок… Мне говорят, что здесь нередко прибегают к принуждению и даже, случается, осуждают без суда, что здесь существуют все свободы, кроме свободы противодействия властям. Но это всего лишь теневая сторона Луны, а я хотел увидеть ее светлую сторону. И свет, который я увидел, поразил меня – мертвое ожило!»
Из всех явлений советской жизни наиболее поразило Тагора повсеместное распространение образования, усилия по преодолению неграмотности. В этом он увидел один из важнейших аспектов того решительного разрыва с прошлым, который, по мнению поэта, Индия никак не находила в себе силы совершить. Не меньше интересовали Тагора и взаимоотношения между различными народами и религиями в СССР, особенно то, что касалось народов, исповедующих ислам. Весьма впечатлили поэта демократизм и целеустремленность советского общества. Поэт сравнивал положение в СССР с положением в Индии и по всем этим пунктам находил, что сравнение – не в пользу Индии, не в пользу политики британцев.
Многое, однако, осталось для Тагора в СССР неприемлемым. Поэт увидел в «советском эксперименте» попытку воплотить в жизнь решительными методами лучшие идеалы западной цивилизации, хотя и выразил сомнение в том, вполне ли пригодны такие методы для воплощения этих идеалов[8]8
Эти соображения Тагор высказал в интервью газете «Известия» 25 сентября 1930 г., перед отъездом из Москвы. Однако газета впервые опубликовала это интервью почти через 58 лет – в номере от 10 июня 1988 г. Англоязычная версия этого интервью, разумеется, стала известна миру еще в 1930 г. (См.: Tagore R. Letters from Russia. Calcutta, 1984, c. 212–216.)
[Закрыть].
Часто можно встретить утверждение, что «Письма о России» – это безоговорочная хвала СССР. В действительности дело обстоит сложнее. Примечательно уже то, что в самом СССР они были впервые опубликованы в русском переводе лишь в 1956 г., да и то сильно урезанные. Были исключены письмо № 13, где Тагор сравнивает коммунистов с фашистами[9]9
Под «фашистами» Тагор подразумевал, по-видимому, прежде всего итальянских фашистов. В 1926 г. поэт посетил Италию, был обласкан самим Муссолини и высказался в благоприятном смысле о его «фашистской революции». Но затем Р. Роллан и другие европейские друзья Тагора объяснили ему, что фашизм – это зло, а Муссолини – злодей, и тогда Тагор опубликовал в европейской печати письмо с осуждением итальянского фашизма. По-видимому, нечто подобное произошло и в случае России. Письма, написанные Тагором под непосредственным впечатлением от увиденного в Москве, в целом скорее наивно восторженны, хотя и содержат некоторые критические замечания (как, например, письмо № 13). «Заключение» же, написанное после бесед в Германии и США об увиденном в России, содержит гораздо больше критики (см. далее в тексте статьи).
[Закрыть], и «Заключение».
В письме № 13 среди прочего довольно восторженно описывается некий дом отдыха для рабочих. Но затем Тагор пишет: «Однако я не думаю, что они смогли провести должную разграничительную линию между личностью и обществом. В этом они несколько похожи на фашистов. Поэтому они не хотят ставить никакого предела подавлению личности во имя коллектива. Они забывают, что, ослабляя личность, нельзя усилить коллектив. Если личность – в оковах, общество не может быть свободным. У них здесь диктатура сильного человека. Правление одного многими может случайно принести хорошие результаты – на время, но не навсегда…»
Из «Заключения» же стоит процитировать такие высказывания Тагора:
«Большевизм возник в обстановке всеобщего страдания… Эта неестественная революция разразилась потому, что человеческое общество потеряло равновесие… Человек никогда не сможет долго терпеть нереальность безличностного коллективизма… Возможно, что в этом веке большевизм – это лечение (для России. – С. С.), но медицинское лечение не может быть постоянным; поистине, тот день, когда режим, установленный врачом, будет отменен, станет праздничным днем для пациента»[10]10
«Письмам о России» с переводами вообще не повезло. Еще в 30-е гг. в Калькутте был подготовлен их перевод на английский язык. Но издан этот перевод был впервые лишь в 1960 г. При сличении этого перевода с бенгальским оригиналом становится ясно, что некоторые пассажи, очевидно предосудительные с точки зрения британской цензуры в 1930-х гт., были из перевода изъяты и не восстановлены даже в 1960 г. Таким образом, полный текст «Писем о России» доступен пока лишь тем, кто может прочесть их на бенгальском языке. Было бы поучительно сравнить русский и английский переводы – это было бы исследование по «сравнительному цензуроведению».
[Закрыть].
В уже упоминавшейся статье «Кризис цивилизации» (1941) Тагор снова обращается к России – и в довольно своеобразном контексте. Осуждая британцев за проведение политики, которая пагубна для Индии, поэт противопоставляет своей стране несколько других стран, избегнувших иноземного господства и добившихся успехов своими собственными силами. Первой в списке идет Япония, затем Россия, за нею – Иран и Афганистан. И, говоря о России, Тагор больше всего места уделяет отношениям с мусульманскими народами, высоко оценивая национальную политику в СССР.
Кроме того, как и многие другие люди в мире, Тагор в конце своей жизни видел в России ту силу, которая способна противостоять фашизму. Близкий друг Тагора, известный индийский ученый П. Махаланобис, свидетельствует: «Во время своей болезни в июле 1941 г. Тагор каждое утро с нетерпением ждал новостей с фронта из России. Он снова и снова повторял, что победа России принесла бы ему огромное счастье. Каждое утро он надеялся услышать хорошие вести. Когда же сообщение оказывалось плохим, он бросал газету и больше не читал ее. За полчаса до операции (оказавшейся роковой. – С. С.) Тагор спросил меня: „Скажи, что слышно о России?“ Когда я сказал, что дела на фронте поправляются, его лицо просияло, и он воскликнул: „О, разве могло быть иначе? Так должно быть. Должно было наступить улучшение. Они могут добиться этого. Только они добьются этого“.
Это были последние слова, сказанные мне Тагором. Я был счастлив видеть его лицо, озаренное твердой верой в победу человека».
В заключение статьи «Кризис цивилизации», которая стала своего рода завещанием, сам Тагор писал: «Потерять веру в человечество – страшный грех; я не запятнаю себя этим грехом. Я верю, что после бури в небе, очистившемся от туч, засияет новый свет – свет самоотверженного служения человеку. Откроется новая, незапятнанная страница истории… Придет день, когда человек вступит на путь борьбы, чтобы, преодолев все препятствия, возвратить себе былую славу. Думать, что человечество может потерпеть окончательное поражение, – преступно!»
М. П. Герасимова
КАВАБАТА ЯСУНАРИ
Япония
Премия 1968 года
…за писательское мастерство, позволяющее необыкновенно и тонко и глубоко раскрыть японскую душу

«За писательское мастерство, позволяющее тонко и эмоционально выразить суть японской души», – таково было заключение комитета по присуждению нобелевских премий в области литературы в 1968 г. Ею был удостоен Кавабата Ясунари (1898–1972).
В Японии Кавабата Ясунари называют «нингэн кокухо» – что в переводе означает «человек-сокровище»[11]11
В 1955 г. японским правительством было учреждено звание «человек-сокровище», которое присуждается мастерам традиционных видов искусства в знак признания их заслуг в сохранении национального культурного наследия.
[Закрыть]. Однако, несмотря на столь высокое признание его вклада в национальную культуру, среди произведений писателя есть рассказы, не особенно пользующиеся вниманием ни критиков, ни читателей. К их числу относится и рассказ «Природа», в котором в свойственной Кавабата опосредованной форме выражения изложены его взгляды на жизнь и на смерть. Возможно, именно в силу того, что авторское понимание вопроса «жизнь – смерть», с точки зрения японцев, является самим собой разумеющимся и ничего нового в себе не несет, рассказ «Природа» не был особо отмечен.
С точки зрения же западного читателя, этот рассказ примечателен прежде всего тем, что в нём ничего не говорится о природе. Нет описаний прекрасных пейзажей, хотя действие происходит в местности, славящейся красотой закатов на берегу моря. Герои рассказа – писатель, заехавший на пару дней в гостиницу, расположенную в этой местности, и актер, приехавший на несколько дней раньше него. Их беседа и составляет содержание рассказа. Знаменательно, что это происходит в комнате, из окна которой даже не открывается вид на море.
Актер рассказывает писателю о том, что во время войны, ненавидя насилие и стремясь избежать воинской повинности, он выдавал себя за женщину и играл в труппе, гастролировавшей в провинции и деревнях, женские роли. После окончания войны, приняв мужской облик, он все же продолжал играть женские роли, а потом решил вернуться к естественности, к природе, ушел из труппы и приехал в гостиницу, расположенную в местности, славящейся закатами на море. В разговоре актер вспоминает своего девяностосемилетнего дедушку, который прожил долгую спокойную жизнь и умрет естественной смертью, и с грустью говорит о молодых людях, которым во время войны давали яд, чтобы воспользоваться им в критическую минуту.
Из разговора героев вырисовывается авторская мысль о том, что в основе понимания естественности лежит мягкое, женственное начало, а понятие природы помимо всего прочего означает не только естественный образ жизни (что предполагает мысли, чувства, поступки, соответствующие гармоничным законам мирового порядка), но и смерти, то есть то, каким образом человек уходит в мир иной.
Как уже говорилось, возможно, подобное суждение настолько типично для японцев, что рассказ, пронизанный им, не привлек внимание читающей публики даже после того, как Кавабата Ясунари ушел из жизни в 1972 г. самым неестественным способом. Он покончил с собой, будучи в зените славы и пользуясь всеобщим признанием, не оставив даже посмертной записки. Изменил ли он своим убеждениям? Или в сложившейся ситуации, когда надо было отдавать дань всемирной известности, в обстановке суетности, противной натуре писателя, это был, с его точки зрения, единственно возможный естественный протест?
Возможно, самоубийство Кавабата – это акт, совершенный как художественный минус-приём, к которому он прибегал в своих произведениях?
О причинах, побудивших писателя, который всегда стремился продолжать те национальные традиции, которые способствуют достижению внутренней уравновешенности и гармонии с окружающим миром, совершить самоубийство, можно только догадываться, достоверно лишь то, что осталось в его произведениях, за которые Кавабата Ясунари была присуждена Нобелевская премия.
Суть души любого народа – это духовные и нравственные ценности, сформировавшиеся на основе традиционного взгляда на мир, на понимание жизни, смерти, времени, пространства, природы, человека. Они определяют критерии красоты и находят материальное воплощение в памятниках культуры. К числу таких памятников относится и творчество Кавабата.
Мироощущение, пронизывающее произведения писателя, и порожденные им художественные особенности произведений Кавабата роднят его с прославленными поэтами, мыслителями и художниками Японии. Именно в этом заключается преемственность связи с традиционным культурным наследием. Отметить это важно, поскольку в его произведениях неизменно присутствует «специфически японский» колорит: действие, как правило, происходит в местах, так или иначе связанных с японской историей и культурой, герои носят кимоно, занимаются традиционными искусствами, чайной церемонией, любуются сакурой и алыми кленами, говорят о гейшах и театре Ноо, наравне с героями в произведении участвуют предметы чайной утвари, – словом, присутствует все то, что в сознании европейцев ассоциируется с Японией.
Все эти детали, безусловно, придают особое очарование его произведениям, но для правильного восприятия их в целом, а также для понимания значений отдельных фактов, реалий, символов, явлений, описываемых в них, необходимо учитывать весь комплекс представлений, формирующих традиционный для японцев взгляд на мир. Именно он, а не «специфически японский» колорит, является причиной, по которой Кавабата признали «выразителем японской души».
Большинство исследователей его творчества, как в Японии, так и за ее пределами, единодушно признавая Кавабата писателем «традиционного толка», подчеркивают влияние буддизма (в особенности школы Дзэн) на мироощущение писателя и характерное для японцев с времен классического Хэйана[12]12
Эпоха Хэйан (794–1185) – время формирования самобытной японской культуры и создания произведений, признанных японской классикой.
[Закрыть] любование красотой в любом ее проявлении.
Действительно, парадоксальное, казалось бы, сочетание порожденных буддийским учением «безличностного», «бесстрастного» (ошибкой было бы считать это безразличием, это скорее своеобразная эмоциональная ровность) отношения ко всему и спокойно-торжественного ощущения красоты Вечного Небытия с эмоциональными переживаниями, стремлением передать тончайшие оттенки человеческих чувств, воспеванием красоты окружающего человека мира и ощущением присутствия «мира иного» придают всему японскому искусству философскую поэтичность и определяют специфику творчества Кавабата Ясунари.
Одной из главных особенностей его произведений является их своеобразная многоплановость. Это не полифоничность, к которой привык западный читатель. Это – четкое существование характерных для большинства произведений Кавабата, условно говоря, «реального», «космического» и ассоциативного планов, которые наплывают друг на друга как «двойной кадр в кино», подобно тому, как наплывают друг на друга отражение в зеркале вечернего пейзажа, мелькающего за окнами поезда, и девушки, сидящей в вагоне, в одном из лучших произведений Кавабата – романе «Снежная страна».
Соотношение этих планов может варьироваться, равно как каждое произведение может отличаться степенью акцентированности того или иного плана или наличием плана, характерного только для данного произведения, но в любом случае переплетение этих планов абсолютно гармонично.
Многоплановость произведений Кавабата – одна из наиболее захватывающих и интригующих особенностей его творчества. Об этом можно было бы говорить в разных аспектах и о каждом произведении отдельно. На это потребовалось бы много времени и места, поэтому сейчас речь пойдет лишь о том, что четко прослеживается и является общим, если можно так сказать, в «программных» произведениях Кавабата, то есть тех, где в концентрированном виде предстают черты, характерные для художественной традиции японцев, а именно: философская поэтичность и ассоциативный подтекст.
В «реальном» плане произведений Кавабата реализуется сюжет. Встречи, расставания, раздумья, переживания, события, поступки – словом всё то, что составляет основу человеческого бытия. Здесь всегда присутствует характерная для японской классики «утонченная эмоциональность», связанная с переживанием красоты гармонии (тёваби), печали (хиайби) изящества (юби) и душевной взволнованности (кандоби), без которых невозможно постижение моно-но аварэ[13]13
моно-но аварэ (букв. – очарование вещей) – мировоззренческая и эстетическая категория, предполагающая постижение сути окружающих предметов, явлений, человеческих чувств и поступков и испытываемое при этом душевное волнение.
[Закрыть] – очарования вещей.
Кроме того, в «реальном» плане много внимания уделяется предметам японского быта, что делает его еще более «реальным».
О произведениях Кавабата Ясунари можно было бы сказать, что они в высшей степени «фактурны», подразумевая под «фактурой» «ощущение вещественного мира, переданное в искусстве», как говорил Белинский, разбирая произведения Пушкина. (К слову сказать, в этом отношении Кавабата также является преемником классиков японской литературы Мурасаки Сикибу[14]14
Мурасаки Сикибу (ок. 970–1009) – японская писательница, автор романа «Повесть о блистательном принце Гэндзи». Гэндзи-моногатари. М., 1994.
[Закрыть] и Сэй Сёнагон[15]15
Сэй Сёнагон (966–1017) – японская писательница, автор «Записок у изголовья». Записки у изголовья. М., 1988.
[Закрыть], которые живо воспроизвели в своих произведениях вещественный мир эпохи Хэйан.) Появляясь в ходе повествования, иногда, казалось бы, случайно, любая вещь, любой предмет всегда является тем «ружьем, которое должно выстрелить». Это и ветхий, но роскошный комод из павлониевого дерева с тонким рисунком древесины, старинный чугунный чайник, инкрустированный серебряными птицами и цветами, – в «Снежной стране», старинная бронзовая ваза, в которой особенно красивы белые и черные лилии, – в «Стоне горы», черный лаковый поднос, в котором отражается веер, – в романе «Мастер». Примеров можно было бы привести очень много.
Введение в повествование образа вещей как самостоятельных «действующих лиц» – один из приемов Кавабата, благодаря которому писателю удается одновременно показать и течение времени и совместить далекое прошлое с настоящим абсолютно в японском духе. У японцев, высоко ценящих налет времени на старинных вещах, подобные предметы и, соответственно, их образы в произведениях вызывают благоговейный трепет, преклонение перед мастерством древних, ощущение связи с прошлым и будущим, в котором вещи – произведения искусства – останутся жить. Однако это не совсем то, что на Западе формулируется как «ars longa vita brevis» (искусство вечно, жизнь коротка). Здесь вещи – скорее символы нерушимости «связи времен». Именно в этой «роли» они выступают в романе «Тысяча журавлей», являясь носителями идеи, заложенной в чайной церемонии, вокруг которой и разворачиваются события. Идеи, которая по словам М. М. Бахтина, является «принципом самого видения и изображения мира, принципом выбора и объединения материала», и «может быть дана как более или менее отчетливый или сознательный вывод из изображаемого». Но носителем идеи М. М. Бахтин называет героя, в то время как у Кавабата носителями идеи, наравне с героями, зачастую являются вещи.
Так, в романе «Тысяча журавлей» в самом начале повествования появляется черная чашка орибэ[16]16
Орибэ – название неглубокой, широкой чашки – по имени мастера Орибэ (конец XVI в.), изготовлявшего посуду подобной формы.
[Закрыть] с изображением побега папоротника, которую столетиями бережно хранили многие любители чайной церемонии. На протяжении времени, описываемого в романе, эта чашка проделывает путь от давно умершего владельца (г-на Оота) к его вдове, от нее к отцу главного героя романа (Кикудзи), а от него – к мастеру чайного действа (Тикако) – женщине, которой предстоит сыграть в повествовании определенную, далеко не благовидную роль. На чайной церемонии, с которой начинается роман, прелестная девушка – будущая жена Кикудзи Юкико подает ему в ней чай. У каждого персонажа связаны с чашкой свои воспоминания и ассоциации. В конце романа, по воле героя, чашка через торговца чайной утварью переходит в руки «не омраченного воспоминаниями обладателя». То же самое происходит с прекрасным кувшином сино[17]17
Сино – старинное высокохудожественное изделие из керамики, фаянса или фарфора.
[Закрыть], который принадлежал вдове обладателя чашки орибэ (г-же Оота). После ее смерти он переходит к ее дочери Фумико, но та отдает его Кикудзи. Затем кувшин оказывается в «грязных» руках мастера чайного действа Тикако. И в конце концов кувшин сино, так же как и черная чашка орибэ, «уходит в неизвестность».
Жизнь героев и вещей соотносятся в произведениях Кавабата так же, как привлекшие внимание героя «Тысячи журавлей» цветок повилики и старая тыква: «Кикудзи некоторое время смотрел перед собой и думал о том, что в трехсотлетней тыкве стоит повилика (поставленная служанкой. – М. Г.), которая не доживет до следующего утра». Для японского искусства это очень понятный образ, имеющий глубокий смысл и символизирующий своеобразное восприятие времени: тыкве триста лет, а повилика цветет всего один день, но оба в равной степени проходят свой путь, имеют свою судьбу, переживаемую в течение определенного времени. Этот эпизод и может служить подтверждением того, что не «ars longa vita brevis» лежит в основе замысла Кавабата, а характерное и необходимое для японцев ощущение связи времен.








