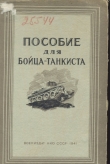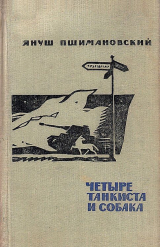
Текст книги "Четыре танкиста и собака"
Автор книги: Януш Пшимановский
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 41 (всего у книги 55 страниц)
15. Клин
Последняя декада апреля 1945 года началась обстрелом Берлина советской артиллерией. Не какие-либо специальные дальнобойные орудия, а самые простые стопятидесятидвух– и стодвадцатидвухмиллиметровые пушки били по центру гитлеровской столицы. Двадцать первого, в субботу, несколько пятидесятикилограммовых снарядов попало в Бранденбургские ворота, пробило крышу рейхстага и взорвалось внутри рейхсканцелярии.
Рассеченный танковыми клиньями, немецкий фронт рвался в клочья, отходил под ударами наступающей за танками пехоты. Передовой отряд поручника Козуба почти сутки удерживал захваченный Крейцбург, пулеметными очередями рассеивая или отбрасывая в стороны группы противника, а потом вдруг оказался в тылу своих войск и в полосе затишья ожидал дальнейших распоряжений.
На остатках металлических конструкций сорванных ворот, ведущих на территорию бывшего концлагеря, на легком ветру трепетали флаги. На самом верху два больших, советский и польский, а ниже десятка два размером поменьше, сшитые в последние дни из чего придется и прикрепленные к решетке узниками, которых гитлеровцы свезли под Берлин со всех концов Европы. По сочетанию белого, красного и голубого угадывались французский, голландский и чешский флаги; по горизонтальным крестам – норвежский и британский. Американские звезды, вырезанные из консервных банок, блестели на солнце как маленькие зеркальца. Вот и теперь несколько человек в арестантских робах, подсаживая друг друга, прикрепляли полосатый бело-голубой флаг Греции с крестом в верхнем углу.
Раздавленные гусеницами «ежи» оттащили в сторону. У ворот выставили регулировщика – желтым, как подсолнух, флажком боец открыл путь на территорию лагеря дымящейся кухне, запряженной двумя лошадьми, а за ней – высоко нагруженному грузовику с одеялами и большими котлами.
С того времени, как экипаж «Рыжего» выступил из Ритцена в составе отдельного разведывательного отряда, прошло всего несколько дней, но все сильнее пригревающее солнце успело уже раскрыть цветы на яблонях. Мозаика из бледно-розовых и белых цветов, из тени густых ветвей, зазеленевших первыми листьями, надежно маскировала «Рыжего», стоявшего несколько поодаль от въезда в лагерь у стены небольшого дома, в неглубоком укрытии между фруктовыми деревьями.
Черешняк ходил по саду в одной рубашке с высоко засученными рукавами и кривым, острым как бритва ножом срезал сломанные ветви, замазывал глиной царапины на деревьях.
Кос сидел на борту танка и, пользуясь затишьем, наверное, уже в третий раз читал Саакашвили письмо отца.
– «…Обещал, что отдаст танк вам, как лучшему экипажу».
– Генерал нас уважает. – Григорий нежно похлопал по броне.
– «Пусть он приведет вас к победе, а потом и домой…»
Ни один из них не заметил, как Шарик, крадучись, взобрался на башню, схватил в зубы шапку, висевшую на замке открытого люка, и куда-то с ней юркнул.
– «Руковожу оперативной группой, состоящей из гражданских товарищей, – читал дальше Янек. – Как только Щецин будет освобожден, мы установим в нем польскую власть».
Со стороны еще низко стоящего на востоке солнца донеслась вдруг артиллерийская пальба. Кос прервал чтение и повернул голову.
– На востоке, – заметил он удивленно.
– Мы на фланге, за каналом немцы. Может, это двинулся Рокоссовский?.. Читай дальше.
– Уже почти конец. «Буду ждать здесь твоего возвращения с фронта, а еще лучше – приезжайте всем экипажем. Крепко обними Густлика, Григория…»
– Так и пишет: Григория?
– «…Григория и Томаша. И пожми переднюю лапу Шарику».
– Постой-ка, – вспомнил вдруг Янек, – я ведь от самого Ритцена вожу с собой две фотографии. Генерал передал для тебя и Вихуры.
Саакашвили обрадованно схватил фотографии, но лицо его тут же потускнело: обе фотографии были почти одинаковы.
– Кацо, как я могу узнать…
– Тут на обороте написано: «Любимому Григорию…» Это, значит, твоя, – пояснил Янек и, снова повернувшись в сторону канонады, доносившейся километрах в двадцати, стал прислушиваться.
Саакашвили всматривался в небольшой квадратик бумаги, и сердце у него билось все сильней. Это, конечно, Ханя. Вот и беленькая кофточка на ней, как тогда… с рукавами выше локтя, с матросским воротничком, обшитым в три ряда синенькой тесемкой. И тот же широкий галстук с большим бантом над вырезом…
Наверное, в память о том дне специально сфотографировалась так… Лукавые глаза, высокий лоб под шапкой чудесных темных волос, рот с чуть приподнятыми в легкой улыбке уголками губ. Да, это Ханя… Он взглянул на оборотную сторону фотографии: «Любимому Григорию…»
Неописуемую радость доставила ему эта фотография, и когда он поднял голову и посмотрел вокруг, то и деревья, и дома показались ему и выше, и красивее.
– Бьют вовсю, – проговорил Янек, – больше сотни стволов, и звук как бы…
– Соседи пошли, – заверил Саакашвили, нежно глядя на фотографию. – Твой отец, может, уже в Щецине.
Из-за угла показался Густлик:
– Вот клей принес. Что хочешь приклеивай, намертво.
– И к металлу тоже? – поинтересовался Кос.
– Не оторвешь.
Все трое спустились в башню и на покатую шершавую броню стали приклеивать фотографию своего первого командира. Они трудились не сговариваясь, но очень старательно: Густлик наносил на металл тонкий ровный слой клея, Янек прикладывал к нему фотографию, Григорий носовым платком тщательно ее разглаживал.
Через нижний люк забрался в танк заинтересованный Томаш, пробрался на свое место в башне справа от пушки.
Кос повесил рядом оба боевых креста Василия и задумчиво проговорил:
– Вот бы порадовался новой машине…
– В двигателе на полсотни лошадиных сил больше, по шоссе за пятьдесят выжимает, – начал перечислять Григорий.
– А пушка прошивает «Тигр» ото лба до хвоста, – включился в свою очередь и Густлик. – Вот только снарядов маловато: на старом сто, а тут – пятьдесят пять.
– Зачем тебе больше, ты все равно не стреляешь! – подтрунил над ним Кос.
– И то верно. Пока все только из «Дегтярева». Этот Испанец не дурак, умеет воевать без шума.
Над ними в открытом люке на фоне голубого неба показался Вихура. Григорий кивнул ему головой:
– Франек вон тоже стрелял. Не знаю только, метко или нет, но часто.
– Он хороший парень, – подтвердил Густлик, делая вид, что не замечает вновь прибывшего. – Мастер крутить не только баранку. Там, глядишь, одного, тут другого подхватит по дороге, вот тебе пачку сигарет или банку консервов и заработал, а на танке…
– Не дури, Елень. – Капрал схватил его сверху за чуб, встряхнул; потом опустил в танк связку бутылок, перевязанных телефонным кабелем.
– Чтобы не тужили о девчатах, вот вам доброе вино.
– Какое? – оживился Григорий.
– Испанское. И вообще, вылезайте-ка из коробки. Кроме вина есть и новости.
Первым на броню выпрыгнул Саакашвили.
– Сестры фотографии прислали. – Он достал и, проверив по надписям на обороте, отдал карточку. – Ханя – мне, Аня – тебе.
Вихура взглянул на карточку, спрятал ее в нагрудный карман и, присев на башню, стал выкладывать новости окружившим его танкистам:
– На юге армия генерала Сверчевского заняла Будишин, ее танки подошли к Дрездену, но здесь во фланг нашим ударили немцы, прорвали фронт, и теперь там бой не на жизнь, а на смерть.
– А сзади нас что? – спросил Кос. – Слышишь?
Артиллерийский огонь стал реже, чем был, но не стихал.
– Слышу.
– Не знаешь, что там?
– Неважно, – шофер махнул рукой, – южнее Берлина советские войска окружили дюжину дивизий. Две танковые армии давят их, как клещами… Осталось вот… – он показал ноготь мизинца, – чтобы Гитлера в котел, и конец.
– Как сказать, – покачал головой Кос, – чтобы город взять, тоже надо попотеть.
– Зато дело почетное. И вообще это как торт на десерт. А знаете, что говорят? – Вихура понизил голос, словно опасаясь, как бы кто не подслушал тайну. – Польские войска тоже должны идти в Берлин. На парад. Саперный батальон уже пошел, гаубичная бригада пошла…
– Откуда ты все это знаешь? – недоверчиво спросил Густлик.
– Наверно, капралу все во сне привиделось, как наяву, – съязвил Томаш в отместку за насмешки на привале в Шварцер Форст.
– Прибыла армейская санитарная часть. – Франек пропустил колкость мимо ушей. – Узников из лагеря будут вывозить в тыловой госпиталь. От санитара узнал.
– А санитар от кого? – допытывался Густлик.
– От раненых генералов.
Григорий снова вынул из кармана фотографию Хани и, чуть отвернувшись, внимательно ее рассматривал.
– Вихура, покажи-ка свое фото.
– Мое?
– Второй сестрички.
Капрал довольно равнодушно протянул ему карточку с дарственной надписью на обороте. При этом на броню нечаянно выпал голубой бант, взятый у девушки в Гданьске. Густлик, не любивший, чтобы на танке валялись какие-нибудь ненужные предметы, поднял его и сунул в карман.
– А знаете, – стал сравнивать фотографии Саакашвили, – похоже, они, когда подписывали, перепутали свои карточки…
– В общем, не забудьте, я первый вам сказал, что поедете на парад в Берлин.
– А ты не поедешь? – спросил Кос.
– Я же говорил – мне в танке душно, – неохотно напомнил Франек и тут же переменил тему: – Идемте, я вам покажу докторшу, которая с санитарными машинами приехала. Ух! Пойдешь, Григорий?
– Конечно. – Саакашвили спрятал обе фотографии в карман.
– А ты, Кос?
Янек замялся. Ему очень хотелось взглянуть на чудо-докторшу, но было как-то неудобно.
– Надо бы еще в танке кое-что…
– Никуда он не денется. Пойдем! – соблазнял Франек.
– Посмотреть можно, – поддержал его Густлик. – Я хоть за версту готов идти… – Он подтянул брюки, поправил ремень на мундире, потом поднял руки, как бы собираясь поплотнее натянуть шапку, но ее на голове не оказалось.
Саакашвили, стоя на земле, шарил рукой в танке.
– Ты что там ищешь?
– Шапку, – пробормотал Григорий, по пояс забравшись в танк.
– Посмотри, моей там где-нибудь нет? – спросил Густлик. – Не ходить же с непокрытой головой.
– Нет твоей, – ответил Григорий. Из танка торчали одни только его ноги. – Уланская здесь, а больше нет.
– Я помню, повесил свою здесь, на крышке люка. – Кос с удивлением смотрел на открытый люк.
– Мне докторша ни к чему, я останусь, покараулю, – заявил Томаш. – Но куда же подевались шапки? Моя висела на яблоне, на сучке, и куртка тоже там была, а теперь нету.
На востоке непрерывно громыхала артиллерия. К грохоту уже успели привыкнуть и не обращали на него внимания.
По улице на полной скорости промчался мотоцикл.
– Нашел! – закричал в этот момент Саакашвили.
Одновременно с возгласом изнутри донеслось грозное глухое рычание, и вслед за ним послышалась какая-то возня.
– Янек, забери этого разбойника, – взмолился Григорий.
– Шарик!
Собака, услышав призыв, выпрыгнула из танка и устремила на хозяина внимательный взгляд. Вслед за ней полетели вышвыриваемые Григорием шапки, а в заключение и куртка Черешняка.
– Разбойник, буржуй ненасытный! – обрушился на собаку механик, выбираясь через передний люк. – Жестко ему, видите ли, стало, так он устроил себе подстилку, – повернулся он к товарищам.
– Это я виноват, – признался Кос, но с упреком посмотрел на Шарика: нельзя так, если даже и жестко.
– Вот и тогда, в дозоре, он меня, дрянь такая, всю дорогу лапами с сиденья спихивал, – пожаловался Вихура и погрозил овчарке пальцем.
– Надо было пошевелить мозгами и придумать что-нибудь другое, – вразумлял собаку Янек. – Наказать бы тебя для порядка…
Шарик, выслушав выговор, опустил морду и с виноватым видом сел возле гусеницы.
– Ну, пошли! – Франек двинулся первым.
Когда они вышли на улицу, мимо промчался мотоцикл с пригнувшимся над рулем водителем в шлеме в очках. На спидометре у него наверняка было больше ста.
– Машина трофейная, – проговорил Кос, когда они свернули в сторону ворот лагеря, – а за рулем, похоже, подхорунжий.
Все обернулись. В это время водитель в ста метрах от них рывком нажал на тормоза так, что мотоцикл с писком занесло на сто восемьдесят градусов, и снова дал полный газ.
– Ошалел он, что ли?
Кос выскочил на дорогу с поднятой рукой. Водитель гнал, словно не замечая его. Только в последний момент он затормозил – из-под колес пошел дым и остро запахло жженой резиной.
– Привет, Магнето, мотоцикл хочешь разбить или голову? – спросил Янек, протягивая руку. Но тот ее не заметил. Резким движением он вскинул на лоб очки:
– И то и другое.
Магнето перекинул ногу через руль и соскочил с сиденья. Потом резким толчком прислонил машину к металлическим балкам бывших ворот, на которых реяли флаги, снял рукавицы с длинными раструбами и, хлопнув ими по сверкающему баку, обратился к окружившим его в изумлении танкистам:
– Вы вот все чистите, холите свою железную скотину, – указал он взглядом в сторону танка, – и что?
Выражение лица у него было странное, глаза – в светлых обводах на запыленной коже, белки – в красных прожилках.
– Холите, – повторил он, – и даже понятия не имеете, что они здесь творили.
– Кто? – спросил Саакашвили.
– Фрицы. Вы знаете, почему на грядках у заводской стены такой сочный и ранний салат? Потому что туда ссыпали пепел сожженных людей для удобрения вместо навоза. А знаете, для чего эти бетонные клетки?
Магнето потащил Янека за руку в сторону от лагерных ворот, свернул в решетчатую калитку и ввел танкистов в небольшой квадратный дворик, огороженный со всех сторон бетонной стеной, на которой дожди оставили ржавые потеки.
Здесь было пусто. На утрамбованной земле не было ничего, кроме двух куч рыхлого песка в противоположных углах.
– Сюда заводили заключенных, делили их на две партии, – рассказывал Лажевский приглушенным голосом, – и заставляли на тачках перевозить песок. Туда и обратно, туда и обратно. Кто быстрей. Понимаете? Кто быстрей. И не в течение пятнадцати минут или часа, а года, двух, трех… Или меньше – до смерти.
Из-под темного песка торчал голубой лоскут – обрывок арестантского халата. Кос снял шапку, вытер рукой лоб. За ним сняли шапки и все остальные, кроме Лажевского, который, вскрикивая, словно в беспамятстве, шел к калитке. У выхода он приостановился и повернулся к танкистам:
– Видели вы старух в госпитале, возле лаборатории? Им по восемнадцать, девятнадцать лет. Это наши девушки, участницы восстания, на которых гитлеровские врачи делали опыты. Как на кроликах или крысах. На людях получалось дешевле. Я все здесь обошел, всех опросил, заглянул в каждый угол.
– Зачем тебе это? – буркнул Вихура и пожал плечами.
– Сестру ищу. – Подхорунжий подошел к нему с выражением безумия в глазах. – Ребята! – произнес, он громким шепотом. – Их нужно убивать, пока не кончилась война. Давить, как клопов. А то потом будет поздно.
Секунду стояла мертвая тишина. Кос посмотрел в лицо Лажевскому, потом наклонился, из-за голенища его сапога вытащил обломок кнута, начертил им на песке пять крестов, обвел их прямоугольником, как это сделал на куче щебня пастух, и только после этого спросил:
– Таких, как он, тоже?
Лажевский не ответил, отобрал у Коса кнут и сунул обратно за голенище. Опустив голову, пошел к своему трофейному мотоциклу.
– Кто хочет прокатиться? – спросил он хриплым голосом.
– Я, – вызвался Густлик. – Только вот командиру слово скажу. – Он отвел Коса в сторону и стал объяснять торопливым шепотом: – До моста – один миг, а там уже недалеко, и сразу обратно. Не могу же я ее одну оставить. На Одре, Янек, я тебе сам говорил: «Если должен – иди».
– Если должен – гони! – решил Кос.
– Мы – в момент! – крикнул Густлик.
Он подбежал к Лажевскому, перебрасывая по пути автомат с груди за спину, вскочил на заднее сиденье и глубже надвинул шапку.
– Поехали, пан подхорунжий, на мост. Поглядим, не украл ли его кто.
Даниель опустил очки на глаза, рванул ногой стартер. Секунду или две мотор выл на холостом ходу, потом мотоцикл, как пришпоренная лошадь, рванулся вперед, вышвыривая из-под колес гравий.
Танкисты смотрели вслед мчащимся сломя голову товарищам, пока те не исчезли из виду за поворотом, а потом долго еще стояли молча, не произнося ни слова.
Янек с горечью думал, что, хотя он вроде и вышел победителем из спора с Лажевским, поколебал в нем решимость чуть ли не поголовно уничтожать немцев, у него самого в груди кипит гнев. Можно ли считать людьми тех, кто годами измывался над заключенными, кто находил удовольствие в истязаниях и пытках? Черные, коричневые, гнило-зеленые, отмеченные знаками черепа и свастики, они, как болезнетворные бактерии, заразили мир безумием. Они смели бы с лица земли не только села и города, по и целые страны, если бы не Сталинград, не героическое сопротивление народов.
Даниель боится своей и нашей гуманности. Он знает, что если сегодня мы не захотим отплатить смертью за смерть, то тем более не станем мстить завтра, после окончания войны. Эсэсовцы схватили его сестру в пылающей пожаром восстания Варшаве. Поэтому он и умолк, видно, тогда в карьере, когда Саакашвили сказал, что в экипаже для Лидки все как братья…
– Я же хотел вам докторшу показать, – напомнил Вихура.
– Покажи, – согласился Кос без особого энтузиазма и двинулся за Франеком.
Возле машин стояли шоферы и пожилые санитары.
– Где ваше начальство? – спросил капрал.
– Пани хорунжая с вашим поручником беседует, – показал жилистый санитар в сторону барака.
На границе солнца и тени стояла перед Козубом светловолосая женщина в ладно подогнанном обмундировании. На расстоянии нескольких метров отчетливо доносился ее теплый, мягкий альт.
– Гражданин поручник, – убеждала она, – половина санитарных машин готова в путь. Я могла бы отправляться.
– Заканчивайте погрузку остальных.
– Они так истощены, что важен каждый час.
– У меня мало людей и машин, чтобы давать охрану для двух колонн.
– Зачем нам охрана?
– Выполняйте, – приказал Козуб и, полагая вопрос решенным, повернулся к узнику-французу с повязкой на рукаве, который некоторое время молча ждал поодаль. Француз что-то спросил, Козуб ответил.
– По какому это? – поинтересовался Григорий.
– По-французски, – гордо объяснил Вихура. – Тот спрашивал, когда им дадут что-нибудь пожрать, а поручник обещал через час.
Врач пожала плечами и отошла к своим машинам. Когда она проходила мимо танкистов, те удостоверились, что Вихура говорил правду: она была красива – глаз не оторвать. Однако не пристало им вот так бежать за первой встречной юбкой, и они продолжали стоять, слушая, как Козуб разрешает просьбу нового просителя.
Теперь разговор шел по-немецки.
– Больные из голландской группы сегодня отъезжают?
– Нет. Послезавтра.
– А как с английскими летчиками? – спросил высокий, худой рыжий парень в выцветшем мундире английского летчика.
– Для вас дом номер семь по Берлинерштрассе, – по-английски ответил Козуб.
Танкисты все еще стояли на прежнем месте.
– Ух сколько языков он знает! – уважительно проговорил Вихура.
– Война научила, – ответил Кос. – Он был в Испании, в Интернациональной бригаде.
Через главные ворота въехал запыленный вездеход с пробитым пулями стеклом. Из него выпрыгнул сержант, покрытый пылью с головы до ног, и подбежал к офицеру.
– Пакет от генерала, – протянул он левой рукой конверт.
Правая, которой он отдавал честь, была перевязана бинтом, набухающим кровью.
– Когда ранены? – спросил Козуб, разрезая перочинным ножом пакет и взламывая сургучные печати.
– Десять минут назад.
По мере того как Козуб читал, лицо его мрачнело. Он сложил бумагу, сунул ее в полевую сумку и крикнул:
– Хорунжий!
Врач слышала, но сочла, что это относится не к ней. Саакашвили тронул усы и, решив воспользоваться моментом, подбежал к ней, отдал честь и показал в сторону поручника.
– Хорунжий, ко мне, – повторил Козуб.
– Есть.
– Больным оставаться в санитарных машинах. Машины поставить под стену завода. Шоферов использовать для прикрытия. В помощь можете взять заключенных из числа здоровых. Всем санитарам с оружием через десять минут прибыть ко мне. Выполняйте.
Тон не допускал возражений. Не спрашивая объяснений, доктор отдала честь и торопливо направилась к своим.
– Сержант Кос!
– Слушаю.
– Машина?
– В порядке.
– Въезжайте в лагерь и займите позицию в восточном углу. Позже придам вам немного пехоты.
– Из санитаров?
– Из кого удастся, – ответил Козуб и, подойдя ближе, тихо добавил:
– С севера противник перешел в наступление силами до трех дивизий и вбил клин в наш фланг. Генерал приказал оборонять лагерь.
– Где немцы?
– За каналом. Там, где мы были ночью.
16. Вдвоем
Елень коленями обхватил Лажевского, а руками уцепился за ручку сиденья, предвидя, что поездка вряд ли будет спокойной. Свалиться же и разукрасить себе физиономию в предвидении предстоящего свидания у него не было ни малейшего желания.
В бешеной гонке замелькали навстречу домики предместья. Оба наклонились вперед, чтобы уменьшить сопротивление встречного воздуха, и буквально через минуту были уже за городом. Повернув голову налево, Густлик взглянул на промелькнувшую мимо зенитную батарею, разбитую снарядами тяжелых танков, и уважительно вздохнул. Ему стало досадно, что так и не довелось выпустить тогда хотя бы пару снарядов из своей восьмидесятипятки. Хороший был случай испытать, как она способна крушить сталь.
Мчась, не сбавляя скорости, при съезде с насыпи они взмыли в воздух, опустились прямо на мост, проскочили его и затормозили только у рва, разрушенного и покрытого на дне жидкой грязью.
– Хоть и невысоко, но летаешь, – заметил Елень.
– Тебя ждать? – спросил Лажевский.
– Так я же… не один буду возвращаться.
– Тогда я сначала Гонорату отвезу, а потом еще раз за тобой вернусь.
– Спасибо. – Силезец хлопнул его по плечу.
– Через сорок пять минут буду здесь, – заверил Магнето.
– Ладно.
Густлик сбежал на дно рва, перепрыгнул через лужу и выбрался на противоположную сторону. Оглянулся назад, но от Лажевского осталось только облако пыли над насыпью.
Елень широким шагом двинулся вперед и через минуту уже забыл о мотоциклисте. И не только о Магнето, но и о «Рыжем», экипаже, войне… Его стали одолевать такие мысли, что он, то подтягивая пояс, то расправляя складки мундира, то поправляя на голове шапку и оглядываясь, не слышит ли кто, во весь голос запел:
Замок стоит на холме, Любимая там ожидает, Сидит на заре у окна И белых орлов вышивает.
И хотя шел он не в замок и не было там холма, а любимая, вероятнее всего, не собиралась вышивать белых орлов, песенка эта подходила к его настроению. Он улыбнулся, покрутил головой: вот ведь чудеса – идет он себе ясным днем не таясь к своей Гонорате. И затянул второй куплет.
Сверху донесся резко нарастающий свист. Елень прыгнул вперед, упал в глубокую колею от гусеницы танка и вжался лицом в песок.
Снаряд перелетел, но разорвался недалеко в поле, взметнув столб земли и дыма.
– Некуда вам стрелять, черти?! – выругался Елень, поднялся и, отряхнувшись, двинулся дальше.
Его скрыли кусты ивняка, в которых он то появлялся, то исчезал, но продолжал петь.
Он сам потом не мог понять, случайно так вышло с этим пением или он специально это придумал, но факт остается фактом: Гонората издалека услышала его приближение и у нее было время выглянуть в окно, а потом изобразить крайнее изумление, когда он появился на пороге.
Одета она была так же, как и в первый вечер, но днем ярче пылали красные маки у нее на юбке, а веснушки на носике были, пусть простят нас за сравнение, так аппетитны, как изюминки в пасхальном куличе, и надо было приложить немало сил, чтобы удержаться на месте и не броситься собирать их губами.
Только минуту смотрели они друг на друга, но она, видимо, сразу все поняла и тут же велела ему сесть и ждать, не двигаясь с места, а сама, порозовев, как майская яблонька, выбежала на кухню.
И остался плютоновый Густлик Елень один в увешанной коврами и рогами убитых зверей гостиной генеральской виллы, в той самой гостиной, под полом которой были заперты в убежище ее обитатели. Он сел, как ему было ведено, за стол, сервированный дорогими серебряными приборами, множеством всяких тарелок и различной посудой старинного сервиза. Страшно подумать, что бы случилось, если бы он вдруг что-нибудь нечаянно задел.
Перегнувшись через подлокотник кресла, Густлик заглянул в большое трюмо, висевшее прямо против входной двери, поправил воротник мундира и, поплевав на ладонь, пригладил непослушные вихры. Во время этих манипуляций он толкнул стол, все на нем зазвенело, задребезжало, но, к счастью, ничего не разбилось.
Сквозь открытые двери из кухни доносились стук кастрюль, сковородок, шипение жареного сала и нежный девичий голос, напевающий песенку.
«Похоже, сегодня день такой, что всех на песни тянет», – подумал Густлик и потянул носом, вдыхая аппетитный аромат. Вслушиваясь в слова песни, в которой речь шла о большой печали влюбившейся девушки, Густлик нахмурил брови и даже пощупал свой автомат, висевший дулом вниз на подлокотнике кресла.
Песенка оборвалась, и вошла Гонората, неся на блюде яичницу не меньше чем из дюжины яиц, поджаренную с мясом, и вместительный кофейник с черным кофе. Поставила все это на стол и встала рядом, поправляя в косах красные ленты.
– Панна Гонората как соловей.
– Ой, что вы, пан Густлик… – зарделась девушка.
Прижав к груди буханку хлеба, она отрезала две громадные краюхи.
– Кто ж управится с таким куском? – взмолился Густлик.
– Пан Густлик, если захочет, с чем угодно управится, – ответила девушка, не задумываясь, и тут же, словно испугавшись чего-то, слегка прикусила нижнюю губку.
Густлик лихорадочно соображал, как бы поизысканнее ответить на эти лестные слова, но ничего подходящего придумать не смог и, чтобы не показаться тугодумом, поспешил набить рот хлебом.
Гонората достала из буфета вместительный хрустальный графин и налила гостю полный бокал.
– Один я не буду.
Она налила и себе, но на самое донышко, как и пристало девушке.
– А вы здорово умеете готовить.
– Это просто: нарезать свежей свинины, поджарить ее с лучком, а потом – яйца…
– А откуда у вас свежая свинина?
– У генеральши было три поросенка, а когда вы уехали и пришли польские солдаты…
– Солдаты приходили?
– Ну да, разве я не рассказывала? Приходили и, прежде чем уйти, нашли этих свиней. Я им говорю: «Ладно, будет у вас хороший гуляш, но и мне дайте половинку окорока». А они отвечают: «Дадим, а вы нам что?»
Елень слушал этот рассказ, все больше раздражаясь и нервничая. И чем больше он злился, тем стремительнее очищал блюдо от яичницы. Наконец он взорвался:
– Лопухи эти пехотинцы! Когда во время атаки нужно танки прикрывать, они забьются в канавы и лежат.
– А я им и говорю: «Ладно. Есть у меня кое-что…»
Густлик поперхнулся с досады, но Гонората с размаху стукнула его по спине и подняла свой бокал.
Танкист выпил залпом, а она едва смочила губы и продолжала рассказывать, тараторя все быстрее:
– Ну и вот, как только я получила мясо, тут же открыла убежище и отдала им всех: старика, четырех охранников и генеральшу. Они их забрали. Оружие вот только брать не захотели. Сказали, что придут трохейщики и заберут это добро.
– Трофейщики, – поправил ее Елень. – Они специально выделены собирать трофеи и всякое там имущество. А уж если бы такой клад отыскали, как панна Гонората…
– Какой же я клад!
Девушка налила солдату второй бокал и снова коснулась его своим, вслушиваясь в мелодичный звон. Елень выпил с облегчением и снова принялся за еду.
– Пан Густлик, а скажите, кто вы по специальности?
– Танкист.
– А точнее?
– Наводчик.
Он прервал на минуту еду и показал, как наводят пушку, вытянув вперед руку, которая должна была изображать орудие.
– Ба-бах!
Рука дернулась назад, имитируя откат, а когда вернулась в исходное положение, то нечаянно коснулась плеча девушки. Гонората успела шлепнуть его по ладони, но придвинулась ближе, чтобы ему не приходилось так далеко тянуться.
– Но на этой стрельбе много не заработаешь, а война кончается. Генералом, вам, конечно, не стать…
Елень покосился на свои погоны, перегнулся к зеркалу, чтобы целиком обозреть себя, и в знак согласия кивнул головой.
– Вот я и спрашиваю: как вы думаете прокормить себя и семью?
– Кузнечным делом, – расцвел Елень, поняв наконец, о чем идет речь.
– Отец мой сызмальства в кузнице работал, и я тоже. У молота. Снизу подкладывается раскаленное железо, а сверху по нему…
Гонората успела удержать грозивший опуститься кулак Густлика и тем спасла фарфор от неминуемой гибели. И как-то так получилось, что они оказались совсем близко друг к другу.
– А чего жалеть это немецкое барахло! – проворчал Густлик, имея в виду посуду на столе.
Девушка отодвинулась и, гремя тарелками, стала собирать посуду, чтобы отнести ее на кухню.
– Неправда, она не немецкая, – проговорила Гонората с досадой. – Тарелки датские, графин польский, рюмки французские. Захочу – будет мое.
– Если уж брать, то черную машину, о которой вы тогда говорили, – заявил захмелевший слегка Елень и, не заметив, что девушка вышла с посудой на кухню, продолжал: – И вас – в эту машину…
Подвыпив, Густлик расхрабрился. Теперь он и сам удивлялся, как это минуту назад ему не хватило смелости и он, как никудышная собака зайца, упустил такой редкий случай. Именно никудышная, не то что Шарик…
Густлик встал, притопнул и, слегка покачиваясь, двинулся, улыбаясь, навстречу девушке. Гонората как раз выбежала из кухни, но вдруг с испуганным лицом метнулась к окну и тут же повернулась к Еленю:
– Немцы.
– Где немцы?
– Кругом. С винтовками.
Елень протянул руку за автоматом.
– Не трогай! – крикнула ему девушка и топнула ногой.
Она налила черный кофе в бокал из-под вина:
– Пей!
Елень послушно осушил один и вслед за ним второй бокал.
Гонората тем временем притащила из кухни полное ведро воды.
– Подставляй голову, ниже.
Густлик, не прекословя, наклонился, и она вылила ему на голову и плечи целое ведро.
– Немцы вернулись, – подавая полотенце, прошептала она.
Елень сразу же протрезвел. Вытирая на ходу лицо, он подскочил к одному окну, к другому.
– Третий выход есть?
– Нет.
– А в гараж?
– В гараж есть, но снаружи ворота заперты.
– Где та железяка, которой был закрыт подвал?
– Вон, – показала девушка в сторону камина.
– Давай веревку, покрепче и подлиннее.
Елень принялся срывать старинные сабли и пистолеты, развешанные на колоннах, подпирающих лестницу, а потом, вытащив из угла трофейные немецкие автоматы, стал их развешивать на освободившиеся места.
Гонората принесла большой моток бельевой веревки и, с ходу разгадав замысел плютонового, принялась помогать ему проталкивать веревку через спусковые скобы.
За те несколько минут, что прошли с момента, когда Гонората заметила немцев, через парк к вилле подошел взвод солдат – передовой отряд пехотного полка ударной группы генерала Штейнера.
Сосредоточив севернее канала Гогенцоллерн, называемого теперь Хафель-канал, 7-ю танковую и 25-ю пехотную дивизии, а также с десяток собранных по тылам батальонов, Штейнер нанес внезапный удар во фланг 1-го Белорусского фронта. Гитлер приказал генералу пробиваться к Берлину. Наткнувшись на поляков, на передовые отряды 1-й армии Войска Польского, немцы с ходу отбросили их численным и огромным огневым превосходством и продолжали продвигаться на юг.