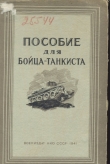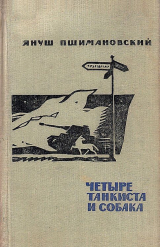
Текст книги "Четыре танкиста и собака"
Автор книги: Януш Пшимановский
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 55 страниц)
Мост, похожий на квадратный туннель, был уже прямо перед танкистами, а за ним на противоположном высоком берегу виднелись дома, над ними дым и красные языки пламени от пожаров. От въезда на мост их отделяло двести, сто пятьдесят, сто… метров.
Посреди моста взметнулся огромный яркий сноп света. Ферма как будто нехотя приподнялась вертикально вверх, разломившись пополам, и вслед за этим до них донесся грохот разрыва.
Едва он успел заглушить все остальные звуки, Василий приказал механику:
– Стой!
Если даже Саакашвили и услышал бы приказ, то не успел бы его выполнить. Танк вдруг сам остановился, словно путник, на которого спереди неожиданно налетел порыв урагана, а потом, бессильно молотя гусеницами по камням, сдвинулся с места, развернулся и замер у самого въезда на мост.
Сверху падали изогнутые железные балки. Василий успел заметить, что с нашей стороны реки сохранился один пролет, и в этот момент на броню обрушился тяжелый удар.
Янек увидел, что Григорий с запрокинутой назад головой осел на сиденье. Янеку хотелось перехватить управление, но тут и у него в глазах потемнело, руки перестали слушаться. Он еще смог ощутить, что танк после удара снесло с мостовой и отбросило назад и вниз.
– «Граб-один», я – «Висла», – звал голос Лидки в наушниках. – «Граб», где ты?.. Ответьте… Прием.
Хотелось ответить, губы шевелились беззвучно. В глазах поплыли оранжевые круги. Янека охватил страх: а вдруг это конец и он уже больше никогда ничего в жизни не увидит, не сможет прочитать Марусино письмо, которое она, наверное, уже послала из госпиталя. Янек еще услышал, как взвизгнул от боли Шарик, и сразу вокруг все угасло в его сознании, перестало существовать, растворилось в тишине.
Мотор заглох. Василий вытер с лица кровь и открыл люк. Да, танк съехал по откосу задом и теперь стоял с высоко задранной в небо пушкой, со стороны противника прикрытый насыпью. Ощутив острую боль вверху позвоночника, Василий позвал:
– Янек! Густлик!
Ответом ему была тишина.
– Гжесь! Ребята!
Тишина. Снизу тянуло чадом от горевшего масла. Каждое мгновение мог вспыхнуть пожар. Василий протянул руку к Еленю, который бессильно свисал на ручке замка, обхватил его и начал осторожно вытаскивать из танка.
По мостовой дробно застучали сапоги – это подбегали пехотинцы.
19. Полевой госпиталь и полевая почта
Первым начал действовать Шарик.
Поваренок, который принес ему утром кашу, оставил дверь приоткрытой. Пес, не вставая со своей подстилки, полизал немного, но до конца доедать не стал. Тоска была сильнее голода.
Шарик знал, что его привезли сюда вместе с Янеком Косом и его друзьями, что все вместе были они в большом помещении, пахнущем кровью, где кто-то чужой с ласковыми руками занялся его сломанной лапой. Потом боль стала такой сильной, что все заслонила темнота, лишенная запахов и звуков. Когда к нему опять вернулась способность наблюдать, чувствовать запахи, он лежал один в этой небольшой комнатке, куда принесли ему еду. Он не знал, где его хозяин, и это было причиной того, что ел он без аппетита, без радости.
Дверь всегда была тщательно закрыта, и только сегодня осталась там узкая щель. Шарик поднялся на трех лапах, но все завертелось у него перед глазами, он покачнулся и упал. С минуту он лежал на левом боку и тяжело дышал. Быстро поднималась грудь, покрытая взъерошенной, свалявшейся шерстью, подергивалась кожа на запавшем животе. Правая передняя лапа Шарика была покрыта толстым слоем гипса, а голова перевязана бинтами.
Но Шарик не отступил после первой попытки: осторожно поднялся и немного постоял без движения, опираясь боком о стену. Теперь дело пошло лучше; он чувствовал, как у него кружится голова, но темнота не застилала больше глаз. Шарик медленно заковылял к двери вдоль стены. Он не мог открыть ее ни лапой, ни забинтованной мордой, поэтому толкнул боком. Дверь подалась, но он снова упал, зато теперь путь перед ним был открыт. В коридоре ярко светила не прикрытая абажуром электрическая лампочка, двери в палаты были прикрыты, и за ними застыл теплый полумрак осеннего раннего утра.
Шарик поднялся в третий раз и заковылял по коридору, упорно стремясь напасть на след. Запах лекарств заглушал все остальные. Нюх не подсказывал ему, где спрятали Янека. Шарик решил искать. Он двинулся вдоль стены, проскользнул из коридора в палату; здесь, пропутешествовав под койками, он обошел все углы.
На койках лежали люди, но все чужие. Нет, это не здесь. Он проковылял к следующей двери. Дверь эта вела в маленькую палату с кафельной печью в углу, с тремя койками у стены и еще одной – у окна. Счастье улыбнулось Шарику. От радости он завизжал и лизнул свесившуюся руку. Это была рука его хозяина! Потом он опять тихонько заскулил. Янек, очевидно, спал. Шарик не отважился залаять, боясь его разбудить.
Радость придала ему силы. Шарик той же дорогой вернулся в свой чуланчик, схватил зубами подстилку – тюфяк, сшитый из солдатской шинели и набитый соломой. Теперь он тащил его по коридору, останавливаясь через несколько шагов и тяжело дыша от усталости. Наконец он добрался до палаты, протиснулся в дверь и, услышав чьи-то приближающиеся шаги, быстро, как только мог, спрятался под койкой.
Он еще раза два дернул тюфяк, затаскивая его в угол, и тут у него снова потемнело в глазах. Он упал на бок, не в силах сделать ни одного движения.
Шарик чувствовал, что этот кто-то, вошедший за ним в палату, присел на корточки. Шарик хотел на него зарычать, но почувствовал легкое прикосновение и уловил в запахе что-то знакомое. Он захотел посмотреть. Ему удалось приоткрыть один глаз, и он увидел знакомую девушку в белом халате, из-под которого на правом плече виднелась повязка из бинтов.
Шарик попробовал вспомнить. Виделось ему поле, каша с мясом, человек, который был врагом и сидел на дереве… Он не мог все это связать и понять. Однако он успокоился и закрыл глаза; ласковое поглаживание было так приятно. К нему возвращались силы.
В палату опять кто-то вошел, заговорил решительным, резким голосом. Шарик ощетинился, двинул головой и увидел высокого человека в очках, с лысой блестящей головой, а за ним – еще двух других. Девушка, которая только что его гладила, стояла по стойке «смирно» и говорила звонким, чистым голосом:
– Благодаря ему не только я осталась жива, но и батальон гвардии капитана Баранова уцелел и вышел из окружения.
– Перестаньте морочить мне голову. Здесь вам не пионерский лагерь, чтобы рассказывать сказки о героических собаках.
На четвертой койке, той, что стояла у окна, приподнялся раненый, сел. Его левая рука была в гипсе и торчала на подпорке перпендикулярно телу.
– Товарищ профессор, гвардии старшина Черноусое докладывает, что она говорит правду. – Старшина здоровой рукой пригладил усы и добавил:
– Товарищ профессор, выпишите меня из госпиталя.
– Этот опять за свое. Как же я тебя выпишу с такой рукой, она же у тебя в гипсе. Вздор! – Врач махнул рукой и вернулся к начатому разговору. – Условия и так трудные, я борюсь за жизнь людей, а вы мне тут хотите внести инфекцию…
– Я продезинфицирую…
– Хватит. Собаку отнести обратно. – Он показал рукой на дверь и с удивлением спросил: – А вы что здесь делаете?
На пороге в шлемофонах и шинелях стояли два танкиста.
– Сейчас не время для посещений, – рассердился профессор. Подойдя ближе и рассмотрев генеральскую змейку на погонах одного из танкистов, он повторил: – Не время, товарищ генерал.
– У нас сейчас самое время… Вчера мы взяли Яблонную, а пока затишье на передовой, мы сразу сюда. Очень спешим: скоро рассвет. Тут у вас лежат трое моих парней из танковой бригады. Я хотел бы узнать, когда они вернутся в строй.
– Все посходили с ума с этим возвращением в строй. Ваши трое тяжело ранены. Мы их залатали, зашили, но ведь еще контузия. Хуже всего вот с этим пацаном. Посылаете в бой детей…
– Детей? Да, посылаю… – Генерал задумчиво кивнул. – Может быть, им что-нибудь надо?
Два санитара, протиснувшись в дверь, направились в угол, где лежала собака. Шарик глухо заворчал и обнажил клыки. Санитары в нерешительности остановились.
– Забирайте, забирайте, я же сказал.
Второй танкист шагнул вперед и обратился к начальнику госпиталя:
– Товарищ профессор, оставьте собаку в палате. Она ведь тоже солдат, член экипажа, моего экипажа.
– В конце концов, что здесь: полевой госпиталь или заведение для душевнобольных? С самого утра идет это идиотское сражение из-за собаки. Уже третий ее защищает. Я видел бляху на ее ошейнике, прочитал надпись. Мне все известно. И я лечу собаку так же внимательно, как и бойцов. Мы наложили ей на лапу гипс, но находиться здесь, вместе с людьми, она не будет.
– Оставьте собаку, – сказал генерал.
– Здесь, товарищ генерал, не вы приказываете.
– Я прошу.
– У меня не хватает лекарств, мяса, сахара. У меня тысячи забот, я работаю до поздней ночи, а вы мне морочите голову с этой собакой, отнимаете время.
– А может быть, мед подойдет вместо сахара? – спросил Василий.
– Фантазия! Где вы сейчас найдете мед в этом разоренном голодном крае?
– Будет мед, и мясо будет. Оставьте собаку, – попросил генерал.
– Если можете, помогите, но условии мне не ставьте. Приезжайте недели через две: возможно, они будут чувствовать себя лучше. А сейчас
– сами видите.
Врач отступил, давая им пройти. Генерал и Семенов прошли за ним на середину палаты. На улице уже немного посветлело. Они увидели лицо Саакашвили, серое, как будто покрытое пеплом. Янек был весь в бинтах, открытыми оставались только глаза и рот. Густлик, который, казалось, был в сознании, смотрел в потолок ничего не видящими глазами.
Рыжеволосая санитарка подошла ближе и протянула руку Семенову:
– Помните?
– Конечно! Огонек!
– Да, это я. Старшина тоже здесь лежит. Опять все вместе встретились, как в засаде у Студзянок.
Семенов поздоровался с Черноусовым и вернулся к девушке:
– Наш танк называется «Рыжий». Это в вашу честь.
– Позаботьтесь о них получше, – обратился к ней генерал.
– Да, конечно… – покраснела девушка и замолчала.
Встретив нетерпеливый, суровый взгляд профессора, танкисты отдали честь и вышли.
Санитары вновь нагнулись к собаке, но врач остановил их движением руки:
– Отставить. Тюфяк обшить белым, продезинфицировать шерсть. Маруся, ты за это отвечаешь.
– Так точно, я отвечаю за собаку, – весело отрапортовала Маруся.
Вечером, дымя помятым радиатором, на госпитальный двор въехал грузовик. На одном борту грузовика была сделана смолой надпись по-русски, а на другом – по-польски. Обе одного содержания: «Ешьте за здоровье Шарика».
Госпитальный повар с помощью санитаров выгрузил из машины корову, убитую снарядом, и дубовую бочку. Заклепки ее пахли немного кислыми огурцами, немного – спиртом, а внутри был загустевший от холода мед.
Сообщили об этом профессору и понесли ему на пробу ложку меду. Он взял ее, не говоря ни слова, долго держал над печуркой, чтобы мед оттаял. В тепле от комочка меда запахло лесом и цветами Козеницкой пущи. Врач попробовал, покрутил головой:
– Превосходный. Где они достали мед, буржуи? – проворчал он себе под нос и начал диктовать медсестре Марусе список раненых, которым надлежало выдавать это лекарство.
Адрес, написанный химическим карандашом, в одном месте стал фиолетовым от сырости, а в углу стерся, но, несмотря на это, без труда можно было прочитать имя и фамилию: Ян Кос. Номер полевой почты был перечеркнут красным карандашом, а внизу кто-то написал большими буквами: «Переслать в госпиталь». Конверт расклеился, и из него легко можно было достать письмо.
«Янек!
Пуля перебила мне ключицу и задела легкое. Врач сказал: „Хорошо, что тебя быстро привезли. Скажи спасибо шоферу“.
Спасибо водителю, который перевез меня на другую сторону Вислы и там передал прямо санитарке, но самое большое спасибо – тебе.
Сейчас я уже здорова, правда, еще ношу повязку на плече и от слабости у меня часто кружится голова. Я помогаю здесь, в госпитале. Людей не хватает, а я все же могу делать перевязки. Как наберусь сил, вернусь в полк. Может, еще встретимся, может, ваши танки опять будут воевать вместе с нашей пехотой.
Я бы хотела тебя встретить, поблагодарить. Об этом я уже писала, а вот то, что я чувствую, почему так хочу тебя встретить, мне трудно выразить…
Когда началась война, я только что окончила первый курс медицинского института. Мне очень хотелось стать врачом, но фронту ведь нужно много санитарок, поэтому я пошла добровольцем.
До того как я начала учиться, я жила в деревне. У нас в деревне весенними вечерами парни и девчата собираются на улице, поют под гармонь и пляшут. Если девушке нравится парень, то она во время пляски подходит к нему и приглашает его. Сейчас, во время войны, не знаю, пляшут ли вечерами в моей деревне. А в Польше, наверно, вообще нет такого обычая.
Если бы не война и если бы в Польше был такой обычай, то я бы хотела именно так перед тобой плясать. А потом, около полуночи, когда гармонь играет все жалобней и тише, мы бы пошли в тень сада, в запах жасминовых кустов. Там никто бы нас не увидел и, если бы ты меня поцеловал, я бы не обиделась.
Прочитала я сейчас последние слова и испугалась. В глаза бы этого не сказала, но в письмах люди всегда бывают смелее, да, кроме того, мы, наверно, никогда не встретимся.
Всего доброго, Янек. Пусть тебя от снарядов оберегают броня и мои мысли.
Маруся-Огонек».
Это письмо пришло в танковую бригаду ровно через неделю после взятия Праги. Письмо полежало немного в штабе, а потом, направленное по новому адресу, попало в госпиталь и легло на табурет около койки Янека Коса.
Все трое были еще без сознания, а Шарик только понюхал конверт и перестал им интересоваться, поскольку читать не умел.
Письмо нашла сама Маруся. Она спрятала его на груди в кармане своей гимнастерки и решила: «Когда поправится, незаметно подложу. Пусть тогда прочитает, узнает».
После переселения на новое место Шарик почувствовал жажду жизни, вкус к еде и быстро набирался сил. Он считал, что силы ему нужны, поскольку он, конечно же, должен присматривать за Янеком и его друзьями. Когда раненые стонали во сне, он, скуля у двери медсестры Маруси, звал ее на помощь.
Овчарка поправилась. В весе она не прибавила, но взлохмаченная шерсть начала укладываться, блестеть, а черный кончик носа опять стал подвижным и влажным. А потом врачи сняли ему гипс, и пес с удивлением долго разглядывал свою лапу, худую, голую, как будто чужую. Привыкнув ковылять на трех лапах, он боялся наступить на четвертую и, лежа на подстилке, долго и старательно вылизывал ее языком. При этом он чувствовал приятное подрагивание, зуд под кожей и все более быстрое движение крови. Уверенный в том, что раз это помогает ему, то должно помогать и другим, Шарик применял это же лечение к Янеку и лизал пальцы его правой руки, которая бессильно свешивалась с постели. Возможно, он был прав, потому что иногда случалось, что Кос слегка шевелил пальцами.
Дня через два после снятия гипса с лапы Шарика ожил Елень. В обед он съел две порции и попросил третью. После третьей он немного передохнул и с разрешения врача получил четвертую. Укрепив таким образом подорванные силы, он сел, посидел минут пятнадцать, встал и с раскрасневшимся от усилия лицом двинулся вдоль койки, а затем дальше. Опираясь о стену, он грохотал по полу ногой, неподвижно закрепленной в металлических шинах.
Саакашвили внимательно следил за ним, потом глубоко вздохнул.
– Бра-аво, Густлик, – сказал он, запинаясь, – ге-ерой…
– Дайте мне пить, – прошептал Янек.
Они оба были еще перевязаны – у Григория грудь, а у Коса голова, и у обоих были руки в гипсе. У Янека – левая, а у Саакашвили – правая.
– Я вижу, экипаж начинает возвращаться к жизни, – констатировал старшина Черноусов и, погладив усы, тихонько крикнул: – Ура, товарищи!
Крикнул потому, что «ура» надо кричать, а тихонько – чтобы не привлечь в палату кого-нибудь из врачей или санитаров. Старшина как раз занимался делом запрещенным и сурово искореняемым во всех госпиталях – он чистил оружие, которое тайно хранил.
Этим оружием был пистолет системы «Маузер», с длинным стволом, с вместительным прямоугольным магазином, с деревянной кобурой, которую можно было присоединить к пистолету как приклад. Вещь была хорошая, радовавшая глаз и сердце солдата. Только ему одному известными способами протащил Черноусов контрабандой свой маузер через все контрольные пункты, через все бани, прятал его в матрасе, под подушкой, время от времени доставал оттуда, чистил и рассматривал, следя, чтобы никто не захватил его врасплох за этим занятием.
Черноусов посмотрел на дверь, выглянул в окно и быстро спрятал пистолет.
– Товарищи, внимание: кто-то к нам приехал. Разрешите пойти на разведку и потом доложить.
Ему уже давно сняли гипс, но руку он носил осторожно, двигал ею несмело. Зато ноги у него были здоровые, и он бодро зашагал, шлепая по коридору госпитальными сандалиями. Вскоре он вернулся и с удивлением сообщил:
– Новогодние подарки привезли, только не понятно, почему так рано?
– Так это же не сочельник. А где они? – спросил Елень.
– В клубе. С ними врач разговаривает и сюда не пускает. Приехали и наши, и ваши. Там одна дивчина вами интересуется.
– Я схожу. Только поддержи меня немного под руку.
Старшина помог Еленю надеть голубой госпитальный халат, и они оба вышли. Шарик хотел побежать за ними, но оглянулся на Янека и вернулся на свое место.
Их не было довольно долго.
– Где-е их черти носят, – ворчал Григорий, прислушиваясь к гомону в другом конце коридора, а потом к шуму мотора во дворе.
Наконец они вернулись, неся три комплекта обмундирования.
– Вы-ыписывают? – не понял Григорий.
– Как же, тебя вместе с койкой должны были бы выписать, – съязвил Елень и, улыбаясь, показал форму. – Погляди-ка лучше сюда, на погоны.
Погоны действительно были интересные. Саакашвили, узнав свою форму, увидел на ней красивые позументы сержанта, а на двух других – тройные нашивки плютонового.
– Теперь видишь? Все мы в чинах. И бумаги дали. Янек, посмотри, Янек. – И он поднес форму к постели Янека.
– А тебе вот еще шерстяной шарф. Сказала, что сама вязала…
Кос повернул голову, внимательно посмотрел и зашевелил губами. Елень не расслышал и наклонился к нему.
– Письмо?
– Письмо не дала.
Открылась дверь. Вошла Маруся, неся стакан, до половины наполненный розовым раствором, из которого торчали термометры. Она поставила стакан на подоконник и всплеснула руками.
– Кто вам принес форму? Я должна сейчас же все унести. Если профессор увидит такой беспорядок, он мне шею намылит. – Она забрала обмундирование и, уходя, добавила: – Как захотите посмотреть, скажите, и я потихоньку принесу.
Она вышла, но почти тотчас же они опять услышали ее быстрые шаги; она вбежала в комнату и присела на край койки Коса.
– Сегодня такой хороший день: ты чувствуешь себя лучше, получил новое звание, и от меня тебе тоже подарок.
Она засунула руку за белый халат и в эту самую минуту увидела лежащий на табурете шарф из голубой шерсти, перевязанный лентой.
– Ой, какой красивый и мягкий. От кого получил?
– Его любят девушки, – сказал Черноусов. – Я сам видел ту, что этот шарф принесла. Красивая девушка, волосы у нее словно спелая пшеница.
Маруся отвернулась к стене, развернула носовой платочек и вынула из него письмо. Она хотела дать ему и то и другое, но теперь передумала – положила на одеяло только квадратный кусочек вышитого материала. Янек минуту смотрел, а потом неожиданно звонким и сильным голосом сказал:
– Дай, в руку.
Он протянул правую руку, сжал пальцами платок и поднес его к глазам.
– Да здравствует Янек! – крикнул Елень. – Теперь он сразу выздоровеет. И тебя, Огонек, должен благодарить за это.
Маруся покраснела, а Густлик подковылял к ней и обнял за шею.
– Спрашивай разрешения у Янека, – отшутилась она, колотя Еленя по спине. – Он мой парень. Я его лечу, кормлю.
Она вскочила, принесла термометр и, взглянув на ртутный столбик, сунула его Косу под мышку. Янек медленно, с усилием двигая рукой по одеялу, дотронулся до Марусиной руки и нежно сжал ее пальцами.
Трудно решить, что помогло: лекарства, теплый язык Шарика или радость при виде подарка. Вероятно, все вместе. Неподвижность в плече, вызванная раной, нервным шоком и контузией, отступила. Человек выздоравливает намного быстрее, если он этого очень сильно хочет.
Утомившись, Кос заснул и спал до вечера и всю ночь, а на следующее утро проснулся бодрый, веселый и, увидев, как Черноусов принимается чистить маузер, попросил громким шепотом:
– Покажи.
Старшина принес разобранный на части пистолет и на обеих ладонях поднес к глазам Янека.
– Хорошо бьет?
– Хорошо. Ствол длинный, и приклад можно приставить. – Старшина быстро собрал маузер и показал, как его надо соединять с кобурой.
– У меня была снайперская винтовка, – вздохнул Янек. – Пропала в танке.
Незадолго до Нового года выпал глубокий снег, мороз забирался в окна, разрисовывал их замысловатыми узорами, а в палате было тепло. Густлик передвигался уже хорошо, без посторонней помощи перемещался по всему госпиталю, заглядывая на кухню, на склад, принося под синим халатом то смолистое полено, то ведро прессованных брикетов.
Все трое теперь быстро набирались сил, Янек даже смог сам написать письмо в Приморский край, Ефиму Семеновичу. Они получали усиленное питание и, воспользовавшись этими благоприятными возможностями, начали делиться едой с более нуждающимися, чем они сами. Янек вместе с Черноусовым высыпал хлебные крошки на подоконник, это привлекало шумных, взъерошенных воробьев. Потом появились синицы, разноцветные, как на картинке: голубые, зеленые, с ярко-желтыми брюшками и длинными клювами. Но они были робкие, пугливые, и если им и удавалось изредка что-нибудь поклевать, то только тогда, когда стая воробьев улетала на обед к кухне.
Янек предложил прилепить немного масла или прибить гвоздиком кусочек сала в углу, на оконной раме. Теперь наконец и синицы могли поесть. Воробьи и здесь пытались им мешать. Хлопая крыльями, они цеплялись коготками за деревянную перекладину, опирались хвостами о стекло, но то одна, то другая лапка соскальзывала, и с отчаянным чириканьем они съезжали вниз. Зато синицы, ловко опираясь на хвосты, клевали масло. Янек и Григорий просили Марусю поправить им подушки и, лежа на боку, целыми часами следили за птицами.
Примерно неделю спустя появился новый гость. Утром их разбудило решительное, властное постукивание, напоминающее очередь из автомата. На окне сидел дятел с розоватым брюшком, в вишневой изящной шапочке на голове. Вероятно, он был стар и не брит, потому что от клюва в разные стороны торчали седые перышки.
– Я знаю, на кого он похож, – сказал Янек.
– Ну, конечно, известно, на кого! – воскликнул Елень. – Он такой же заросший, как пан Черешняк. Интересно, поставил старик себе избу или нет?
– Где-е там поставил, – Григорий махнул здоровой рукой. – Ведь укрепления проходят там же, где и раньше, и фро-онт стоит там, где мы его о-оставили. – Он на минуту задумался и попросил Еленя: – Густлик, скажи вра-ачу, чтобы сдвинули наши койки.
– Я уже просил, но он не соглашается.
– Поговори с ним еще раз.
У Янека была в гипсе левая рука, а у Григория – правая, вот они и хотели, чтобы их положили друг около друга, потому что они тогда действовали бы вместе, как один человек.
– У нас бу-удут две руки и Ша-арик на посылках.
Шарик освоился с госпитальными порядками: ходил за сестрой, лаем сообщал на кухню, что они хотят чаю, и даже несколько раз приносил в корзинке хлеб, сахар и масло, пока врач категорически не запретил это делать.
Профессор заглядывал к ним ежедневно, время от времени осматривал и хмурил брови, когда ему начинали «морочить голову»: Черноусов просил, чтобы его выписали, Елень от имени своих друзей просил сдвинуть койки. Из этого, естественно, ничего не получалось. Но сегодня, не успел еще Елень и слова вымолвить, как врач, оглядев палату, дал указание санитарам:
– Сдвиньте эти две койки. И третью тоже поближе. Так, чтобы можно было две-три новые поставить.
Они удивленно смотрели на него, а когда врач скрылся за дверью, Черноусов сказал:
– Ну, братцы, сегодня будем прощаться.
– Не отпустят тебя.
– Увидишь.
Он ушел и долго не возвращался. Вернулся улыбающийся, неся перекинутые через левую руку форму и шинель, а в правой – сапоги.
– Выписали на фронт? – удивились все.
– Не в тыл же. А стоит мне попасть в свою дивизию, старшину Черноусова не заставят раздавать кашу. Там знают, на что я гожусь.
– А как ты узнал, что тебя сегодня выпишут?
Черноусов ответил не сразу. Он долго и тщательно переодевался, затем сложил свои госпитальные вещи на койке, куском зеленого сукна протер награды, чтобы блестели, и разгладил усы, глядя на свое отражение в гладком кафеле горячей печки. Потом приоткрыл окно, прилепил новую порцию масла для синиц, закурил толстую самокрутку и, выпуская дым на улицу, чтобы в палате не пахло, сказал:
– Запомните, ребята: когда в госпитале освобождается место, добавляют новые копки, то это значит, что фронт скоро двинется. Тогда старых отпускают, чтобы можно было принимать новых. Перед каждым наступлением госпитали должны быть свободными.
– Что же, мы здесь одни останемся?
– Почему одни? Вас же четверо… Ну, мне пора. С кухни как раз едут за продуктами на фронтовые склады, и я с ними отправлюсь. На эти самые склады должны и наши приезжать. Дорога, может быть, и длиннее, зато быстрее и вернее. Не пройдет и трех дней, как я буду в своей дивизии.
Теперь он переходил от одной койки к другой, наклонялся, обнимал и целовал всех по очереди, щекоча пушистыми усами, и Янеку показалось, что у грозного старшины глаза вдруг стали влажными. Но, видно, ему это только показалось, потому что гвардеец выпрямился, остановившись посредине палаты, стукнул каблуками и поднес руку к шапке.
– Гвардии старшина Черноусов докладывает о своем отбытии. До свидания в Берлине.
– Напишешь нам?
– Напишу.
Он вышел.
Елень подошел к окну. Дятел, уже привыкший к людям, быстро стучал клювом и только изредка, наклонив голову, посматривал черной бусинкой глаза и как бы прислушивался к тому, что говорил Густлик.
– Идет через двор, грузовик уже стоит… Сел… Поехал.
Они слышали, как зашумела отходящая машина, но видеть ее не могли, потому что окно внизу замерзло.
Спустя полчаса Елень, укладываясь на свою койку, выругался, наткнувшись вдруг на что-то твердое под простыней, и вытащил оттуда маузер в деревянной кобуре.
– Эх, видно, забыл!
– Дурак, под твоей простыней забыл? – разозлился Саакашвили. – Прочитай, там есть записка.
На листке бумаги было написано по-русски: «Подарок отличному стрелку». У них не было сомнения, кому следует отдать оружие, и, хотя Янек еще не вставал, они спрятали «Маузер» именно у него в матрасе – не слишком глубоко, а так, чтобы, поворачивая голову на подушке, он мог почувствовать, что там что-то спрятано.
Неделю спустя, под утро, неожиданно залаял Шарик, а потом начал тормошить всех, дергая зубами за края одеяла. Все разом проснулись и почувствовали, как слегка дрожит земля и издалека несется к ним, стелясь под снегом, низкий, мощный гул. А еще через мгновение дрогнули и зазвенели оконные стекла.
Мрак за окнами начал рассеиваться.
На конверте стояли четыре фамилии. Четыре или три. Что касается трех, то здесь все было ясно: Саакашвили, Елень, Кос. Не ясно было только одно: считать ли слово «Шарик» как имя или тоже как фамилию. Но определенно письмо было адресовано им всем.
«Дорогие мои!
То место, которое мы вместе обороняли в августе, было выбрано хорошо. Мы еще раз переехали через Вислу по тому же самому мосту. Поля и лес сейчас в снегу, их трудно узнать, и все-таки мое сердце забилось там сильнее. Оттуда мы двинулись на столицу, а потом дальше и дальше.
Бригада участвовала в боях за большой город у реки, но противник оборонял его только арьергардами. На аэродроме мы захватили тридцать самолетов, которые не успели взлететь.
Оттуда мы повернули на запад, пехота с ходу прорвала полосу укрепления, мы протиснулись в эту щель, как в приоткрытую дверь, совершили стремительный танковый рейд и захватили еще один город. Это были тяжелые бои. Когда вернетесь, опять не досчитаетесь нескольких знакомых.
Сейчас нам досаждает холод. „Рыжий“ обогревается от своего мотора, но и он, бывает, устает, а на броне у него появилось еще больше шрамов.
Экипаж у меня хороший, составлен из молодых ребят, они все окончили танковое училище. Но скажу вам по секрету: жду того часа, когда мы опять будем все вместе.
Мы стоим в обороне как резерв. Сегодня праздник Красной Армии. Проводятся встречи, выдали немного спирту. Мои ребята ушли, а я остался в „Рыжем“ и при свете ремонтной лампочки пишу на твоем, Янек, сиденье, в уголке, потому что здесь тише всего.
Место, где броня была пробита снарядом, заделано изнутри толстой плитой. Края приварены, и все это выглядит как рана с толстыми рубцами.
Может быть, и вы уже скоро поправитесь. Отвечайте побыстрее, а то и мне интересно, и генерал часто спрашивает, что с вами.
Я ношу теплые рукавицы Янека. Они мне хорошо служат. У меня есть трофейный ватник, сгодится для новой подстилки Шарику, старая сгорела. Я кончаю, потому что пальцы мерзнут и деревенеют. Завтра день обещает быть солнечным, ясным, температура около пяти градусов мороза, после полудня увеличение облачности до одной четверти.
Сердечно обнимаю вас, ребята, и чешу Шарика за ухом, сейчас только в мыслях, но, возможно, скоро и на самом деле.
Василий».
Письмо шло десять дней и прибыло в начале марта. Прочитали письмо вслух утром, сразу после завтрака, а потом вырывали его друг у друга из рук, потому что каждый хотел увидеть его еще раз собственными глазами. Шарик решил, что это игра, и, стоя на задних лапах, тоже старался схватить бумагу зубами.
Жили они теперь в другом мосте, в маленькой комнатенке на чердаке, куда их перевели еще в конце января, чтобы освободить место раненым, прибывшим прямо с фронта. Они едва размещались здесь. Койка Янека стояла около окна, под скатом крыши, а сбоку – две другие в два этажа, одна над другой. На верхней разместился Елень, утверждая, что там ему удобней и что, кроме того, он должен тренировать ногу, чтобы снова владеть ею.
Птицы быстро заметили происшедшую перемену и каждый день навещали их. Шарик, поставив передние лапы на подоконник, с интересом наблюдал за ними, пугая синиц, но дятел оказался не из трусливых и только иногда, если Шарик уж слишком приближал свой нос к стеклу, отгонял овчарку шумными взмахами крыльев и грозно стучал клювом по фрамуге.
В тот день, когда пришло письмо, небо было солнечное, голубое, солнце сильно пригревало через стекла. Весной трудно усидеть дома. Как-то Елень отправился на кухню рубить дрова – в оздоровительных целях, а также для того, чтобы поддержать хорошие отношения с поваром. Потом Григорий пошел в лес попеть в одиночестве; он говорил: