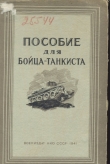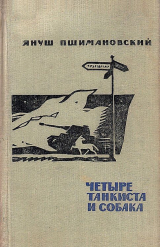
Текст книги "Четыре танкиста и собака"
Автор книги: Януш Пшимановский
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 55 страниц)
– Могу дать тебе эти рукавицы. Они у меня еще сохранились.
– Вместо колечка? – Она тесней прижалась к нему.
Минуту они кружились молча, и зал кружился вместе с ними.
– Нет, – серьезно ответил Янек. – Просто так. Не сердись…
– Я не сержусь. Ты пойми: она сразу после войны уедет. И что тогда?
Он не ответил. Танцевал, глядя в зал поверх головы Лидки, как будто искал кого-то и не мог найти.
Оба генерала наблюдали за танцующими.
– А нас, стариков, не приглашают.
– Такая уж наша судьба, – ответил командир бригады и добавил: – Кажется, пора?
– Пора.
Они подошли к оркестру, поднялись на возвышение, и оркестр в тот же миг замолчал. Трубач заиграл сигнал: «Внимание, слушай мой приказ». Все повернулись лицом к генералам. Один только Густлик быстро прошмыгнул к двери и выскочил на улицу.
– Солдаты, – начал командир бригады, – в результате взаимодействия наших частей, неоднократно проверенного на поле боя, мы решили сегодня отдать общий приказ международного значения…
Дальнейших слов Елень не слышал, потому что во весь дух бежал к немецкому орудию, брошенному в развалинах, но совершенно исправному. Он зарядил орудие подготовленным заранее снарядом и захлопнул замок. И только размотав длинный спусковой шнур и вернувшись под окно бального зала, он с облегчением вздохнул и вытер пот со лба; генерал не только не кончил, а читал еще только пункт первый:
– Присваиваем звание сержанта санитарке Марусе-Огоньку и командиру танка Яну Косу.
Оба названных вышли вперед.
– Есть!
– Естем!
Для них двоих это повышение было неожиданностью. Остальные друзья знали о нем заранее, и Черноусов тут же сменил погоны Марусе на новые, с широкой красной полосой на темной зелени, а Саакашвили молниеносно приметал на погоны Янеку серебряный галун и римскую пятерку.
После аплодисментов и дружеских приветствий генерал стал читать дальше:
– Пункт второй: объявляем о помолвке двух вышеназванных сержантов союзных армий.
– Да здравствуют молодожены! – закричали поляки.
– Ура-а-а! – раскатисто вторили им русские, украинцы, белорусы и кто там еще был.
И как раз в этот момент стоящий под окном Густлик потянул за шнур. В развалинах сверкнуло пламя, и так мощно грохнуло, что со звоном треснули последние стекла, посыпалась штукатурка и слетела со стены гитлеровская ворона над оркестром, обнаружился старый высеченный из камня крест на Гданьском гербе и крыло польского орла.
Музыканты, которым немало всякого случалось видеть на фронте, и глазом не моргнули. Барабан начал отбивать ритм, гармонь и труба запели прерванную мелодию. Опять закружились пары…
– Он меня уже не любит, – жаловалась Лидка, кладя свою голову на плечо грузину. – Единственная надежда, что, когда кончится война, она должна будет уехать.
– У меня ситуация еще труднее, – объяснял Саакашвили. – Мне понравилась Анна, а я объяснился в любви Ханне. Ну как мне теперь быть?
Янек и Маруся молча танцевали вальс и не могли наглядеться друг на друга. Остальной мир кружился вокруг них: зеленые пятна гимнастерок, красные пятна флагов, просветленные лица людей. Они не заметили, как в какой-то момент офицер, в фуражке по-походному, подошел к советскому генералу, отрапортовал и вручил конверт. Они не видели, как генерал сломал печать и, взглянув на текст, попрощался с командиром бригады и вышел. Они не заметили, что по залу из уст в уста передается приказ, чтобы советские солдаты извинились перед девушками, пожали руки танкистам и удалились.
Паркет был уже свободным, когда старшина Черноусое подошел к помолвленной паре и хлопнул Янека по плечу.
– Что, партнершу сменить хочешь? – весело спросил Кос.
– Нет. Мы уходим. На берлинское направление. Прощайтесь.
Молодые окаменели. Охотнее всего они обнялись бы и ласково прижались друг к другу, но между ними уже стояла война, поэтому только тень промелькнула на их лицах и побелела ладони в коротком пожатии, погасли глаза.
– Ян, я каждый день…
– Огонек…
В углу зала Ханя и Аня украшали Григория и Густлика голубыми ленточками, к ним подошел запыхавшийся Вихура, в руках у него была старая, изношенная шляпа.
– Вот смотрите. Не хотели верить, а вот вам доказательство.
– Утихомирься, – прервал его силезец. – Русские на фронт уходят, и Маруся с ними.
Он смотрел ей вслед, пока она не исчезла в темноте, и только потом взял в руки военную добычу капрала, внимательно осмотрел и заявил:
– Если бы мы не так далеко были, я сказал бы, что где-то тут Черешняк близко.
– Кто?
– Да тот крестьянин, что помог нам под Студзянками. У него был именно такой цилиндр.
25. Томаш и конь
Во время августовского сражения деревня четырнадцать раз переходила из рук в руки, и можно было бы сказать, что в ней камня на камне не осталось, если бы не уцелели стены одной из риг фольварка, сложенные из колотого гранита. До января фронт проходил совсем рядом, солдаты копали окопы, строили землянки и блиндажи, разбирая последние грубы на кирпичи и подпаленные балки.
Когда фронт отодвинулся и крестьяне вернулись из-за Вислы в Студзянки, они даже не смогли найти места, где была деревня, разобрать, где чей двор, потому что дороги в снегу были протоптаны другие: от орудий к командным пунктам, от окопов к землянкам, от наблюдательных пунктов к огневым позициям, в общем, такие, какие нужны солдатам. И только когда сошел снег, вылезли крестьяне из землянок, осмотрелись и начали думать и гадать, как и где строиться.
А в это время Черешняку военная машина привезла лес для дома: бревна, тес, а сверх того еще два топора и ящик гвоздей. Одни говорили, что это за сына Томаша, который будто бы был связным у партизан, а другие – что сам старый показал русским, где один немецкий генерал прятал карты.
Черешняк об этом помалкивал, зато от темна до темна не выпускал топорища из рук. Сын, Томаш, на полголовы выше отца, помогал ему, а жена варила им еду. К середине марта, когда в деревню пришли саперы, работа уже далеко продвинулась, и в избе Черешняка стал на постой хорунжий. А в начале апреля, после праздника святого Францишека, Черешняки закончили работу.
День был теплый, на выстиранном дождями небе светило солнце, когда Томаш вынес на крышу шест, разукрашенный красными ленточками, а отец, сдвинув на затылок мятую пропотевшую шляпу, прибил его двумя гвоздями к стропилам.
Он вытер лоб и, улыбаясь, смотрел то на шест, то на сына, сидящего на крыше, и пытался пригладить пальцами развевающиеся на ветру волосы. Сверху были видны неогороженный двор, ящик из-под извести, козлы для дров, разбросанные всюду стружки, а поодаль, среди, засохшего чертополоха, поржавевший плуг. Со стороны поля к дому приближался молоденький сапер с автоматом за плечами и с длинным щупом в руках.
– Закончили, пан Черешняк? – спросил сапер, задирая вверх голову.
– Почти, – ответил тот и дал знак сыну, чтобы слезал.
Сначала вниз по соломенной крыше съехал сын, потом отец. Томаш слегка поддержал его при приземлении.
– Жить можно, за воротник не накапает, – сказал Черешняк, не глядя на солдата. – Он поправил съехавшую набекрень шляпу цвета подсохшей картофельной ботвы и с минуту с гордостью рассматривал свою работу, потом взглянул в поле, на стоявший невдалеке подбитый танк. – Сколько сегодня?
– Четыре, – развернув тряпку, паренек показал взрыватели, обнажил в улыбке зубы. – Поработать еще до захода солнца – и ваше поле будет чистым.
Черешняк постучал в окно, в которое было вставлено только одно стеклышко, а остальные квадраты между переплетами залеплены бумагой и кусками немецкого маскировочного полотна.
– Жена, подавай обед.
Жена приоткрыла раму и подала миску, два ломтя хлеба, две ложки.
– А третью ложку?
– Своей нет? – пробурчала она, и окно с треском захлопнулось.
– Есть?
– Чего стоил бы солдат без ложки, – ответил сапер. – Когда отправлялся на войну, мать дала. – Он вытащил из-за голенища деревянную ложку красивой резьбы, а из кармана – восьмушку хлеба, завернутую в чистую льняную тряпицу.
Они уселись на бревнах, миску пристроили на пни. Томаш уже протянул к миске ложку, но Черешняк остановил его взглядом, перекрестился, подождал, пока хлопцы последуют его примеру. Потом они начали есть неторопливо, по-крестьянски, строго придерживаясь очередности: Черешняк, его сын и сапер, приглашенный в гости. В тишине слышно было только, как хлебали они картофельный суп, как постукивали горшки в доме и радовались весне жаворонки.
По меже подошел молодой офицер. Первым увидел его сапер и, сунув ложку за голенище, встал по стойке «смирно». Черешняки оглянулись и тоже встали.
– Шест, пан хорунжий, – показал старик.
– Я издалека заметил и поспешил, чтобы успеть на обмывание.
– Бедность у нас. В воскресенье святой воды принесу, окроплю.
– А я не святой принес. – Офицер поставил на пенек бутылку.
Томаш по знаку отца отнес миску и тут же вернулся обратно с четырьмя стаканами. Все они были разного цвета и разной формы, но хорунжий разливал поровну, отмеряя ногтем уровень на бутылке. Хорунжий и старик, чокнулись. Хлопцы тоже потянулись за стаканами, но Черешняк остановил их жестом.
– Ты обещал сегодня закончить поле, – сказал он саперу. – Вечером выпьешь. – И крикнул: – Мать, иди же сюда!
Черешняк подал хорунжему еще один стакан, а другой протянул жене, которая, стыдливо отвернувшись, отпила чуть-чуть, скривилась и оставшееся вернула мужу.
Сапер козырнул, взял свой щуп и молча пошел в сторону разбитого танка. Офицер внимательно смотрел ему вслед, угощая табаком хозяина и Томаша.
Женщина, забрав стаканы, вернулась в хату, а мужчины принялись крутить цигарки. Черешняк, ударяя обломком стального напильника о камень, высек искру и зажег фитиль, заправленный в винтовочную гильзу, дал прикурить хорунжему и сам затянулся. Отобрал у сына уже готовую козью ножку из газеты и спрятал за ленту своей шляпы.
Первые затяжки они молчали, а потом заговорил хорунжий:
– Ну как, пан Черешняк? Получили вы землю, построили хату, начинаете заново жизнь?
– Это так, да только нечем пахать, нечего сеять. А если вернется графиня, она не только землю у нас вырвет, но и ноги. – Он щурил глаза на солнце и с беспокойством потирал руки о заплаты на коленях.
– Если вы этого не захотите, то не вырвет, – заметил Томаш.
– Что ты понимаешь? – Черешняк хлопнул парня по спине. – Здесь тебе не партизанский отряд, здесь я, Томаш, лучше тебя разбираюсь.
– Странный вы человек, пан Черешняк: получили много, а все вам еще мало.
– Землю, гражданин хорунжий, всем дают, а некоторых трусливых так даже уговаривают брать, а лес я честно заработал. Целый батальон из окружения…
– Слышал. А когда Томаш в армию?..
– Не пойдет. Мы старые, он у нас единственный кормилец. Пахать надо.
– И не стыдно вам, что мальчишка на вашем поле мины обезвреживает, а вы такого здоровяка дома держите? Я понимаю, пока строились… – Хорунжий замолчал, пожал плечами и, встав, поправил ремень. – Вечером вернусь, – добавил он, уходя.
Черешняк посмотрел ему вслед и тоже пожал плечами.
– Пахать надо, – пробормотал он про себя, а потом обратился к сыну:
– Пошли, Томаш, попробуем.
Разбитый танк стоял посредине невспаханного поля. Издали он был похож на причудливую черную скалу, а отсюда, вблизи, казался не таким уж грозным. Сорняк пророс между траками гусениц, на ржавом металле морщились зеркальца воды после недавнего дождя. Из лужицы в лужицу перепрыгивала лягушка, зеленая, как молодой листок, и разбрызгивала по сторонам мелкие капельки.
Острый щуп, раз за разом погружаясь в землю, на что-то наткнулся. Сапер опустился на одно колено. Раздвигая траву, он вспугнул из-под танка глупого маленького зайчонка, который удрал в глубокую борозду у межи. Сапер с минуту наблюдал, как колышется трава над серым, а потом начал осторожно, медленно вывинчивать взрыватель. Он поддался легко, но мальчишечье, совсем еще детское лицо с курносым носом и горстью веснушек покрыли крупные капли пота. Когда он, вот так нагнувшись, стоял на коленях, было видно, что гимнастерка для него слишком просторна, а автомат слишком велик.
Обезвредив мину, он встал, снял фуражку, вытер лицо вынутым из кармана чистым полотенцем и, закрыв глаза, подставил лицо солнцу и ветру. Спиной он опирался на остов танка. Рядом, в цветущем терновнике, сговаривалась пара синиц, и самец пел все громче и громче, казалось, в горле у него играли серебряные колокольчики.
Открыв глаза, солдат оглянулся на избу Черешняков. Над новенькой крышей торчал шест с венком и лентами. Сапер вздохнул, смерил глазами, сколько еще осталось ему работы на этом поле и как высоко стоит солнце, и снова взялся за щуп.
Склонившись и вглядываясь в землю и поблескивающее острие своего щупа, он не заметил, что командир взвода с шинелью через руку и с вещмешком, заброшенным на одно плечо, несет на место своего постоя радиоприемник. Если бы видел, наверное, побежал бы ему на помощь мимо разбитого танка, через разминированное поле. А сейчас хорунжий сам тащил неуклюжий прямоугольный ящик вплоть до того места около хаты, откуда он увидел вдруг три неглубоких отвала земли на ржаной стерне. «Где старик взял лошадь?» – подумал он с удивлением, потому что в деревне не было ни одной.
И тут показался Томаш, низко склонившийся как под огромной тяжестью, с хомутом наискось груди. Он упирался ногами в землю, веревками без валька тянул плуг, который направлял отец.
– Пая Черешняк! – окликнул хорунжий.
Плуг остановился. Старик медленно разогнул спину.
– Что? – спросил он охрипшим голосом.
– Вечер.
– Вечер? Ну, тогда конец. Выпрягайся, Томусь.
Оба подошли к офицеру, и в этот момент что-то сверкнуло, они услышали взрыв и короткий крик. Тучка серой ныли повисла над разбитым танком.
– Черт! – выругался хорунжий.
Бросив приемник и вещи на землю, он побежал через поле в сторону, где раздался взрыв.
После ужина жена Черешняка понесла корм поросенку, а мужчины остались в избе. Карбидная лампа своим ярким пламенем рассеивала мрак. Томаш чинил простреленную гармонь, которую купил на рынке в Козенице у раненого красноармейца. Затыкая пальцами дыры, он пробовал проиграть несколько тактов. Старик скобелем стругал валек.
Хорунжий в задумчивости оперся головой о ладони, а локтями о стол, сколоченный из досок. На столе лежало несколько картофелин в мундире, половинка солдатского хлеба, стояла банка консервов, разрезанная надвое. И одиноко лежала ложка – резная деревянная ложка молодого сапера.
Черешняк продолжал рассказывать неторопливо, с паузами, обстругивая для валька кол:
– …После боя я не хотел даже и напоминать, а генерал меня догнал и говорит: «Заслужил»… – Упала толстая стружка, блеснуло лезвие. – «Ты заслужил, как никто другой. Вот тут квитанция на дерево, бери». Так и сказал. И орден я должен был получить, но они сразу пошли дальше, на Варшаву.
Хорунжий слушал и не слушал. Потянулся за ложкой сапера, взял ее в руку.
Черешняк прервал свой рассказ, потер заросший подбородок и сказал:
– Выживет.
– Конечно, выживет, – ответил хорунжий, – только без кисти останется. Поплачет его мать! Такой молодой…
– Пан хорунжий! – шепотом заговорил Черешняк. – У меня ведь было двое сыновей, остался один. Но я уже свое отплакал. Надо сеять. Пахать и сеять. – Он ударил кулаком по столу, глянул на сына и крикнул: – Да перестань ты пиликать!
– Гармошка-то пулей пробита. Вот починю, по-другому запоет.
– Да вы, пан Черешняк, не сердитесь. Я ничего не прошу, ничего не требую, – сказал хорунжий, взглянул на часы и буркнул: – Черт! Уже передают известия.
Протянув руку к подоконнику, он включил приемник, настроил его и поймал последние фразы сообщения:
«…Вместе с советскими войсками в боях за освобождение Гдыни и Гданьска принимала участие 1-я танковая бригада имени Героев Вестерплятте. На Длинном рынке, на башне старинной ратуши, при звуках национального гимна был поднят польский флаг. Гданьск, когда-то наш, снова стал нашим…»
– Моя бригада! – не выдержал старик.
Он хотел еще что-то сказать, но только махнул рукой и замолчал. Не слышал ни гармошки, ни жены, просившей его о чем-то, а только исступленно строгал. Пахнущие лесом стружки свивались в спирали, падали на пол и там, в тени, белели, как бумажные цветы.
Закончив, Черешняк осмотрел валек при свете, поставил его в сени и тоном, не терпящим возражений, распорядился:
– Пора спать!
Лег он первым. Другие, уже давно заснули, а он все ждал, когда его одолеет сон. Задремал, казалось, ненадолго, но, когда очнулся, было уже далеко за полночь. Ему не нужны были часы, чтобы определить время, потому что свет месяца через единственное стеклышко в окне падал ему прямо в лицо. Он лежал, нахмурив лоб, с открытыми глазами, прислушиваясь, как дышит жена.
Потом встал, тихо подошел к окну, открыл его и посмотрел на поле, перерезанное узкой полосой вспаханных борозд. На отшлифованной поверхности плуга поблескивал свет.
Он глубоко вздохнул раз-другой, вернулся назад и, остановившись у постели сына, долго думал, так долго, что со двора потянуло предрассветным холодом. Тогда он приподнял полу куртки, которой был прикрыт Томаш, чтобы увидеть его лицо. Парень неспокойно пошевелился во еле, отбросил в сторону тяжелую руку, стиснул и вновь разжал кулак. Вторая рука лежала на подушке. Отец решился – перекрестился, осенил крестом и сына и начал будить его:
– Вставай.
– Зачем? Так рано?
– Вставай, – упрямо повторил отец. – В армию пойдешь.
Томаш сел, удивленно потряс головой.
– Я же был, и меня уволили. Я им сказал, как вы приказали…
– Но! – грозно поднятая рука прервала разговор.
Проснулась мать, быстро перекрестилась, набросила через голову юбку и встала.
– А ты чего вскочила?
– Приготовлю что-нибудь на дорогу.
Гремя горшками, она начала суетиться в темной кухне.
Скрипнула дверь, и из соседней комнаты выглянул разбуженный хорунжий.
– Что-нибудь случилось?
– А, случилось, – заворчала Черешнякова. – Старый ошалел, сына гонит.
– Куда?
– В Гданьск, в танковую бригаду, – объяснил Черешняк.
– Как я туда попаду? – со злостью заворчал парень, натягивая брюки.
– Висла тебя доведет. Да я и сам покажу дорогу.
К восходу солнца оба Черешняка были уже в нескольких километрах от дома. В коротких лапсердаках, босиком, перебросив ботинки за шнурки через плечо, шли они широким шагом по противопаводковому валу вдоль Вислы. Томаш нес за спиной небольшой мешок с запасами, а у старика в руках был длинный прут. Они не разговаривали, да и о чем говорить? Никаких помех в пути они не встречали вплоть до того момента, когда увидели перед собой полосатый шлагбаум и часового.
Они подошли, не замедляя шага, и отец нырнул под бревно на другую сторону. Русский солдат преградил ему дорогу штыком.
– Куда?
– Здравствуй, товарищ, – поприветствовал его по-русски старый Черешняк. Сделав еще полшага вперед, он одной рукой отвел острие штыка, с поклоном приподнял шляпу и начал объяснять, мешая русские и польские слова:
– Лачята1414
Пестрая (польск.).
[Закрыть] нам учекла, корова удрала. Не видел? Лачята, туда…
– Корова ушла, – часовой кивнул головой. – Вон там, – показал он на пасущуюся вдали скотину.
Черешняк еще раз отвесил поклон, кивнул головой сыну, и оба двинулись рысью прочь. Однако удалившись на безопасное расстояние, они пошли тише, вернулись к ритмичному, широкому шагу людей, устремленных к далекой цели.
– Из-за этой твоей железки меня аж пот прошиб, – сказал отец. – Не надо было брать.
– В дупле бы оно заржавело, – ответил Томаш и, засунув руку под куртку, поправил на животе оружие. – Может, еще пригодится.
Прошло три, а может быть, четыре часа, как старый вдруг засеменил, ну прямо как в польке. Томаш сменил ногу раз и другой, все старался попасть в ритм, но напрасно. Отец, видно, что-то в уме подсчитывал, прикидывал, беззвучно шевеля губами, и то замедлял, то ускорял шаг вслед за своими мыслями.
– Все-таки трудно с вами, отец, в одной упряжке… – пробормотал Томаш.
– В упряжке должна быть лошадь, – ответил старый. – Человек не годится. Вчера за полдня мы с тобой только три борозды вспахали.
Какое-то время они шли молча. Черешняк пошел быстрее. Сын следовал за ним, все увеличивая шаги, и, когда отец внезапно остановился, он чуть не налетел на него. Видя, что старый остановился, сын снял со спины мешок с запасами, начал развязывать веревку.
– Ты что? Проголодался? Еще не время.
Черешняк двинулся вперед, а Томаш снова забросил мешок за спину.
– У них не только танки, – начал отец, замедляя шаг. – У них есть машины. И лошади тоже.
– У кого?
– В бригаде, у генерала.
– А зачем им? – безучастно спросил Томаш.
– Наверное, если мотор испортится… А может, продукты на кухню возят: картошку, хлеб, капусту.
– Эх, в животе начинает бурчать.
– Купим где-нибудь хлеба. А сухари на потом.
Хлеба купить было негде, но старый все не давал остановиться и неутомимо топал вперед. Остановились они только под вечер, когда наткнулись на песчаном большаке на грузовик с продырявленными задними колесами, сильно накренившийся набок. Шофер сидел и ждал лучших времен, потому что домкрат он как нарочно одолжил приятелю, а в эту сторону никто не ехал. Черешняки помогли ему разгрузить машину, поднять и снова нагрузить, за что получили по два ломтя хлеба с консервами, и всю ночь спали на мешках с крупой в кузове мчавшегося грузовика, а утром, намного приблизившись к цели, тепло попрощались с водителем.
На скромном костре из сухих шишек сварили пшено, высыпавшееся из одного дырявого мешка, и пошли дальше.
Вскоре им опять посчастливилось: попался небольшой поселок над самой Вислой, а в нем на окраине – магазин. Когда они толкнули дверь, у входа зазвонил колокольчик, на пороге магазина появился хозяин, но полки были почти пустые: черный гуталин, желтые шнурки для ботинок да на прилавке большая стеклянная банка с солеными огурцами.
– Благослови вас господь. Дайте, пан, буханку, – сказал отец, снимая шляпу.
– Хлеба нет.
Старый потянулся к банке, покопавшись в ней, выбрал самый большой огурец, отгрыз половину, остальное отдал сыну. Вытерев пальцы о полу пиджака, он вытащил мешочек, висевший на груди, а из него свиток банкнот и положил одну бумажку на прилавок.
– Нам бы хлеба…
– Утром был, сейчас нет. – Продавец стукнул ладонью по доске прилавка.
Черешняк метнул второй банкнот, выждал немного и пристроил рядом третий.
Хозяин, внимательно наблюдая, подвинул руку ближе к деньгам.
– Могу дать половину, – предложил он.
– Целый, – потребовал Черешняк, кладя четвертый банкнот и прикрывая все четыре ладонью.
Продавец нырнул под прилавок, достал круглый хлеб. Томаш забрал у него буханку, сунул ее в мешок, а старый быстро отдернул руку с деньгами, оставив на прилавке только один банкнот. Хозяин схватил длинный нож для хлеба, стукнул им по прилавку.
– Остальные! – грозно потребовал он.
– Остальные вам не причитаются. Благослови вас господь.
Старый наклонился, нахлобучил шляпу на голову. Хозяин смерил молодого глазами, сделал шаг, чтобы выйти из-за прилавка, но, поразмыслив, отступил и махнул рукой, дескать, ладно. Томаш наклонил голову и вместе с отцом вышел.
Хозяин подошел к окну и наблюдал, в какую сторону они пойдут. Потом сплюнул на давно не подметавшийся пол, надел шапку и, повернув ключ в дверях, быстрым шагом пошел улицей в сторону поселка.
Черешняки, поев хлеба с луком, шли дальше широким трактом, с левой стороны его тянулся лес, а с правой, внизу, была видна Висла. Томаш время от времени поглядывал назад. Они как раз вышли на солнце из тени ив, когда он, не меняя шага, потянул за рукав отца, шедшего впереди.
– Отец…
– Что?
– Трое на велосипедах едут. Нырнем за деревья?
Черешняк остановился, посмотрел, задумался на мгновение и, не говоря ни слова, спокойно двинулся дальше. Томаш – за ним. Велосипедисты подъезжали все ближе, они уже почти догоняли, но старый как будто не видел их. Один из велосипедистов – хозяин магазина – немного замедлил ход, а двое, худой и толстый, съехали на левую сторону дороги. Они сильнее налегли на педали, опередили и, соскочив с седел, поставили велосипеды под ивой.
– Расстегни куртку, – не поворачивая головы, сказал отец.
В десяти метрах сзади их подстерегал хозяин магазина с тяжелым насосом в руках, а впереди преградили им дорогу эти двое. Они стояли на расставленных, чуть согнутых ногах, и когда отец и сын подошли ближе, те как по команде выхватили ножи.
– Гони всю монету, – приказал худой.
– А вот этого не хочешь? – Томаш распахнул куртку и блеснул автоматом. – Бросай ножи и три шага назад… А теперь мордой вниз и лежать. Ты тоже! – крикнул он пятившемуся назад хозяину магазина.
Тем временем отец поднял ножи, пальцем попробовал лезвия. Один он закрыл и спрятал в карман, а с другим в руке приблизился к велосипедистам.
– Вот этот велосипед совсем никудышный, – сказал он со вздохом и перерезал ножом шины на дамском велосипеде хозяина магазина. – Да поможет вам бог, – добавил он вежливо на прощание, когда они оба с сыном устраивались на сиденьях.
– Плохо они воспитаны, – заявил Томаш, потому что ни один из лежавших не поднял головы.
На велосипеде, даже если дорога песчаная, а тропинка узкая и извилистая, ехать намного быстрее, чем идти пешком. Впрочем, дорога вскоре слегка изогнулась и вывела на шоссе. Старый поправил шляпу, склонился над рулем и сильнее нажал на педали. Томаш следовал за ним сзади на расстоянии колеса. Они обгоняли конные повозки, а однажды, едучи под уклон, даже обогнали грузовик. Так доехали они до таблички с Надписью: «Гданьск, 172». Из-под надписи едва заметно проглядывали замазанные свежей краской буквы: «Данциг».
За табличкой был пригорок, и с него они вновь увидели Вислу и город, лежащий у самой реки. Шоссе вело вдоль реки, влево не было ни одного поворота, поэтому хочешь не хочешь пришлось им ехать по городу.
Весь берег в этом месте был каменный, а улица выложена квадратными плитами. Через каждые два метра торчали железные пни, и к двум из них толстыми канатами была пришвартована баржа. На баржу вели мостки для входящих на палубу и сходящих с нее. Невысокий, коренастый капрал в промасленном тиковом комбинезоне руководил погрузкой мешков с мукой. Черешняки остановились и прислушались, как он грозно покрикивает на рабочих и помогающих им солдат.
– Подержи, Томек, – приказал отец, слезая с седла, и подошел ближе.
– Пан капрал… – обратился он, но тот даже не оглянулся, наверно, не слышал, что к нему обращаются.
– Пан сержант… – громче сказал Черешняк, подождал минуту и крикнул: – Пан поручник!
– Звания, гражданин, не различаете? – Капрал повернулся. – Я не поручник.
– Но наверняка будете. С такой внешностью.
– Что надо, отец?
– Возьмите с собой, пан капрал.
– Не могу, транспорт военный.
– Так ведь не оружие, а только мука.
– Откуда вы знаете?
– Вижу.
– Это еще ничего не доказывает. А может, в муке гранаты?
– А может, я сына везу в Гданьск, в армию?
– Для этого есть военкоматы. – Капрал шмыгнул веснушчатым носом и исподлобья взглянул на собеседника.
– А я хочу в свою танковую бригаду.
– А почему эта наша бригада должна быть ваша?
– Потому что я под Студзянками провел на помощь батальону Баранова танк под номером «102».
– «Рыжий»!
– Не было там рыжего. Поручник, который командовал, был черный, а другой, у радио, – светлый как лен…
– Этот светлый теперь командует… Быстрее вы с этими мешками! – поторопил он грузивших и добавил: – Теперь я в этом экипаже. Капрал Вихура.
– Черешняк. – Старый приподнял шляпу.
– Ну что ж! Если в нашу бригаду, то садитесь. Где сын?
– Томек! Ну иди же сюда.
– Подождите, – капрал задержал подошедшего, пощупал мускулы. – Может, он нам поможет?
– Это можно. Помоги им, Томаш. – Черешняк взял велосипеды, ловко провел их по мосткам и уложил на палубе около штурвальной будки.
Томаш широким шагом направился к открытым дверям склада. Ему взвалили на спину мешок, а он взял еще и второй под мышку и направился по мосткам на баржу.
На этой груженной мешками с мукой барже, которую тащил маленький, но густо дымящий и черный как смоль буксир, плыли они вечер, всю ночь и еще половину следующего дня. И плыли бы, может, до самого Гданьска, если бы Томаш не перестарался сверх меры. А началось с того, что у солдат была гармошка, они совали ее друг другу в руки, пробовали играть, но ничего не получалось.
– Дайте-ка сюда, – сказал Вихура. – Я спрошу гостей. Крестьяне любят играть…
Он взял инструмент и направился вдоль борта на корму баржи, где у штурвальной будки сидели на своих куртках Черешняки.
– Умеете играть, отец?
– Сын умеет.
Томаш молча взял гармонь, сделал несколько переборов, и лицо у него сразу просветлело. Он подмигнул капралу и после лихого вступления запел:
– Сундучок стоит готовый,
Сундучок уж на столе.
Принеси мне, моя люба,
Ты его на поезд мне.
Капрал усмехнулся, оперся о пестро выкрашенную будку и начал в ритм постукивать по жестяной крышке.
Буксир предупреждающе прорычал сиреной, но Томаш продолжал играть:
– Будут обо мне девчата плакать,
Что я с ними…
Со стороны буксира раздалась резкая автоматная очередь, за ней вторая и третья.
– В чем дело? – закричал Вихура тем, кто находился на носу, вытаскивая из кобуры пистолет.
– Мина! Мина по курсу! – закричали в ответ солдаты.
Буксир резко повернул, потащил баржу наискось вправо, но было уже слишком поздно, и левый борт все ближе и ближе подплывал к торчащему из воды полукругу мины.
– О черт! – выругался Вихура, схватил шест и, широко расставив ноги, стал у борта.
Черешняк крестился и шептал одними губами молитву. Томаш спрятал за себя гармонь, как будто хотел прикрыть ее собственным телом. Мина продолжала приближаться, толстые рога взрывателей грозно торчали в сторону. Вихура мягко дотронулся шестом до металлического корпуса, нажал.
– Только бы не выскользнула, – прошептал старый.
Капрал, отпихивая мину, сделал несколько шагов вдоль борта к корме. Потом с огромным трудом, как будто шест стал вдруг намного тяжелее, вытащил его и сел, потому что страх подкосил ему ноги.
– Господи, если бы я задел какой-нибудь из этих пальцев…
– Кто другой задел бы… – с уважением сказал Томаш.
– С буксира стреляли, чтобы сдетонировать, но в нее трудно попасть. От нее люди могут еще погибнуть.
Томаш встал так стремительно, что пискнула гармонь. Достал из-под полы куртки свой автомат и, набросив ремень на локоть, лег на корме, готовясь стрелять.
– Подожди немного, – сказал Вихура и закричал солдатам: – Ложись, все ложись!
Томаш, не взглянув назад, прицелился. Ствол автомата ходил вниз и вверх в ритме мягкой волны от винта. Томаш попробовал следовать за целью, но не вышло. Тогда он расслабил затвердевшие мускулы. Набрал в легкие воздуха, выдохнул и задержал дыхание, начал мягко нажимать на спуск и снова отпустил.