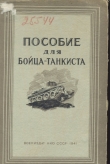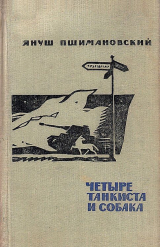
Текст книги "Четыре танкиста и собака"
Автор книги: Януш Пшимановский
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 37 (всего у книги 55 страниц)
– Не погасить! – крикнул Густлик, выпуская очередной снаряд.
– Прыгай, – приказал Кос.
Не зная, где еще канал, а где мель, они прыгали за борт, стараясь попасть поближе к деревьям.
– В спину печет, а в сапогах мокро, – ругался Елень, выпуская последний фаустпатрон.
– За мной!
Отдав приказ, Янек побежал первым и прыгнул в окно кирпичного дома. За ним Григорий, потом Кугель с вещмешком и последним Густлик, который присматривал за ним. Скрылись вовремя, так как немецкие пули ложились все гуще, стучали о стальные щитки и стволы исчезающих по очереди под водой орудий.
Пылающая баржа скрылась за домами. Через минуту среди покинутых орудий и машин только плескалась вода. Затем, строча из автоматов по окнам, ворвались наши пехотинцы во главе с хорунжим и Томашем.
Из дома, шлепая по колено в воде, выходили артиллеристы с поднятыми вверх руками.
– Знакомые. Это те, что меня ночью подвезли, – объяснял Черешняк и громко считал: – Восемь… двенадцать… пятнадцать… девятнадцать…
– Что это за идиот нам пленных считает? – загремел из глубины сеней грозный бас.
За последним немцем показался ствол пулемета, который, как винтовку, несли в одной руке, а затем грязное измученное лицо силезца.
– Томек! – Елень широко раскинул руки, но заколебался и, вместо того чтобы схватить в объятия, начал объяснять: – Твой мешок приехал на обер-ефрейторе Кугеле, а вот гармонь разбило, хоть и в бункере была. Ты не огорчайся: вся баржа сгорела, все пропало…
– Э-э, ладно, – сказал Томаш, хотя ему было жаль гармошку, и сделал полшага вперед.
Они крепко обнялись.
Григорий, с лицом, измазанным грязью и кровью, сдвинул шлемофон на лоб. Янек оперся на подоконник. Они с улыбкой наблюдали за этой встречей, но тут прибежали оба Шавелло, а с ними запыхавшийся Черноусов. Начались объятия, похлопывания, оклики, из которых ничего нельзя было понять.
Рядом пробегали цепи пехотинцев, продолжавших бой, перебиралась через воду батарея минометчиков, неся на вьюках стволы и плиты своих 82-миллиметровок.
Вода уже начала сходить, опадала, едва доходя до половины голени. Подошел командир полка с несколькими штабными офицерами, связистами и радистами, несущими на плечах радиостанции. Он остановился около танкистов и, прежде чем они успели доложить, спросил:
– Кто первым был в городе?
Черноусов и Томаш глянули друг на друга и почти одновременно показали на стоящего в стороне хорунжего, облепленного грязью, с бурым пятном от мазута на рукаве, с разорванным о колючую проволоку голенищем.
– Младший лейтенант первый, – сказал старшина. – Хотелось мне получить польскую медаль, но у него ноги сильнее.
– Хорунжий два раза пехоту поднимал в атаку, – добавил Черешняк.
Полковник молча достал из кармана медаль «Отличившимся на поле боя» и приколол на грудь вытянувшемуся в струнку офицеру.
– Во славу родины!
– За документом обратишься завтра к начальнику штаба… А вы кто? – обратился он к танкистам.
Кос сделал шаг вперед и доложил:
– Товарищ полковник, мы экипаж танка «Рыжий».
– Водопроводчики?
– Не понимаю.
– Вы открыли кран. Благодарю, я этого не забуду. – Он начал по очереди пожимать руки всем троим.
Командир полка еще держал в своей руке ручищу Густлика, когда сзади к Янеку подкралась Маруся и ладонями закрыла ему глаза.
– Это ты! – догадался парень, и по его тону было ясно, кого он имеет в виду.
– Я. – Всхлипывая от радости, она бросилась ему на шею.
– Экипаж! – сдержанно сказал полковник при виде этой сцены.
Все стали по стойке «смирно», но рука Маруси оставалась на плече Янека. Нетерпеливо повизгивал Шарик, который не понимал, то ли ему бросить санитарную сумку и приветствовать своих, то ли сидеть по сигналу «Смирно».
– Оставайтесь в этом доме, вымойтесь и обсушитесь. Здесь вас найдет ваш начальник.
– Наш генерал? – спросил Густлик.
– Да. А пленных мои пехотинцы заберут.
– Только он останется. – Кос показал на Кугеля.
– Почему? – Командир полка нахмурил брови.
– Мы его уже знаем. Он пригодится коменданту города, когда начнут здесь наводить порядок.
– Хорошо, – кивнул головой полковник, козырнул и ушел за своим полком.
Только сейчас Маруся, которая стояла, прижавшись к Косу, забрала у Шарика сумку, и он начал прыгать от радости, забрызгивая всех грязью и водой.
– Не радуйся, Шарик, – грустно сказал Саакашвили, придерживая лохматые лапы на своей груди. – «Рыжий» сгорел. Остались мы без брони над головой.
– Поздравляю, – обратился Черноусов к хорунжему.
– Я тоже, хотя позавчера и не желал вам добра, – пожал ему руку Кос и добавил: – Действительно, пойдемте сушиться.
Они двинулись в прихожую, толкаясь в дверях.
– С вами лучше потерять, чем с другими найти, – сказал хорунжий.
– Что мы! – ответил Черноусое. – Люди как люди.
– Пан хорунжий! – Идущий сзади Черешняк придержал офицера за руку.
– Вы бы отдали мне нож и мазь, а то потом забудете.
11. Бой часов
Нередко время бывает дороже хлеба и патронов. Только не искушенный в солдатской службе новобранец станет раздумывать, мешкать, терять драгоценные минуты в ожидании часа отдыха. Бывалый же фронтовик умеет в мгновенно по команде уснуть, и вступить в бой, едва проснувшись. На коротком привале во время марша он, не мешкая, почистит оружие, пришьет пуговицу, подкрепится сухарем с консервами, зная, что судьба впереди неведома и в любой миг может последовать новый приказ. Умение беречь минуты полезно всякому, кто не склонен бесцельно растрачивать дни своей жизни, а солдату необходимо так же, как и умение метко стрелять.
Когда после овладения Ритценом командир полка приказал экипажу «Рыжего» ожидать прибытия начальника штаба бронетанковых войск армии, танкисты вместе с разведчиками Черноусова тут же обжили кирпичный особнячок на центральной площади.
Первый этаж оборудовали под баню и прачечную, а второй – под комнату отдыха, в большом полупустом зале.
В окна, давно лишенные стекол, а кое-где и рам, выбитых взрывной волной, врывались солнечное тепло и торопливый, пульсирующий говор прифронтовой дороги. В сторону участка прорыва немецкой обороны через город шли батальоны пехоты, двигались артиллерийские дивизионы, ползли тяжелые колонны саперов и транспорты с боеприпасами. На безоблачном небе, словно на огромной голубой чаше, сверкая на солнце, вычерчивали широкие круги два патрульных истребителя.
Аромат весенней свежей зелени смешивался с острым запахом бензина и масла, а рокот автомобильных моторов – с гулом шагов и лязгом оружия. Неслись возгласы и говор, а порой, словно порыв ветра, набегали, разрастались и замирали вдали песни, песни о Катюше, которая выходила на берег; о реке, широкой и глубокой, как Висла, и о Висле, похожей на Волгу; о дымке от папиросы. Слова русские и польские сплетались так, что порой трудно было отличить, кто движется в колонне, кто поет. Солдаты, русские и поляки, заимствовали друг у друга не только махорку и патроны, не только сухари и гранаты, но и слова. Никого не удивляло, если русский спрашивал, например: «Ктура годзина?»3333
Который час? (польск.).
[Закрыть] или покрикивал: «Напшуд, до дьябла!»3434
Вперед, черт побери! (польск.).
[Закрыть], а поляк говорил: «бомбежка» и «картошка». Никто этому не удивлялся, ибо в совместном труде и в совместной борьбе нужен и общий язык.
– распевал Саакашвили и не по-грузински, и не по-русски, и не по-польски, а на языке, для всех совершенно понятном.
Он стоял у покрытой одеялом доски, положенной одним концом на подоконник, а другим на перевернутый шкаф, в набедренной повязке из клетчатого платка, похожий на шотландца, и гладил брюки большим портновским утюгом на углях. Он то и дело размахивал им по воздуху, раздувая угли, а когда снова принимался за дело, пар клубами вырывался из-под мокрой тряпки.
На клубах пара, как и на воде или на огне, можно гадать, можно узнать по ним будущее, а порой они свиваются так прихотливо, что ясно виден то танк, означающий дружбу, то лес, предсказывающий дальнюю дорогу, то лента из девичьих кос. Однако сегодня, хотя Григорий и брызгал, не жалея воды, ничего не хотело показываться. Сквозняк из окна начисто сдувал пар, и гадания не получалось. Была бы хоть Лидка, можно бы о сердечных делах поболтать. Голодный голодного всегда поймет. Но она где-то при штабе на командирской радиостанции работает. А там офицеров – что патронов в автоматном диске, и один лучше другого…
Григорий брызнул водой, пришпарил утюгом, с остервенением проехался им по штанине. И что это его вдруг так вывело из себя? То ли Черноусов, монотонно стучащий молотком, то ли Томаш, насвистывающий одну и ту же мелодию.
Черешняк сидел босиком на корточках в углу, подле висевшей на гвозде конфедератки ротмистра и отыскавшегося вещмешка. С унылой миной он пришивал пуговицу, орудуя похожей на шило иголкой и толстой, вдвое сложенной нитью в три локтя длиной. Перед тем как сделать очередной стежок, ему приходилось вытягивать правую руку до отказа, но зато была уверенность, что пришито на сей раз будет крепко.
Томаш шил и размышлял о несправедливости судьбы. Вот, например, хорошая гармонь пропала, а никуда не годные сапоги, оставленные им возле дома в тылу у врага, не пропали. Так и стояли на прежнем месте все время, пока он пробирался через линию фронта, и даже, когда пехота наступала, никто их не тронул, не говоря уж о том, что не разорвало их гранатой. А ведь пропади сапоги – что делать, боевые потери, – ему, ясно, выдали бы новые: не ходить же солдату босиком. А пусть бы и не выдали, он и сам по праву отобрал бы у первого встречного фрица, отобрал бы по праву военного времени. А как же иначе? Где это видано, чтобы на войне какой-то там фриц топал в целых сапогах, а ты голыми пятками сверкал.
Рядом на табуретке в рубашке с засученными рукавами сидел Черноусов. Зажав между колен перевернутый на спинку стул и надев на одну его ножку, словно на сапожницкую лапу, сапог, он прибивал оторванный каблук, ритмично стуча молотком. Наконец старшина снял сапог, осмотрел его и, облегченно вздохнув, протянул Томашу:
– Носи, до победы недалеко, должен выдержать.
Увы, надежде старшины закончить на этом сапожницкие упражнения не суждено было сбыться: с другой стороны один из его разведчиков, худенький, щуплый паренек, уже протягивал вперед босую ногу и подсовывал еще один сапог – аккуратный, изящный, с мягким голенищем.
– Вот черт! – Старшина поперхнулся, едва не проглотив зажатые в углу рта гвозди. – Да сколько у вас ног?
– Две, – предварительно удостоверившись, ответил разведчик и добавил, указывая на аккуратный сапожок: – Это Марусин. Я ей свой отдал пойти с Янеком погулять.
Старшина улыбнулся, но тут же грозно зашевелил усами и указал на связку уже починенных раньше сапог.
– А это что! Расплодились, как тараканы.
– Что такое таракан? – спросил Черешняк, подтягивая короткие голенища.
– Таракан? – переспросил Саакашвили и пожал плечами. – Забыл, как это называется по-польски… Ну знаешь, черный такой, шесть ног, быстро бегает и очень вредный.
– А, знаю, – рассмеялся Томаш, – у нас в партизанском отряде такая загадка была. Это эсэсовец на лошади.
– Неправильно! – рассердился Григорий. – Зачем насекомое обижаешь? Я сейчас вспомню, по-польски это похоже на название одной пустыни… Кызыл-Кум, Кара-Кум, Кара-мух?
– Люх, – уточнил Черешняк. – Не «мух», а «люх».
Сзади, за его спиной, басовито забили часы. Томаш нахмурился, вздохнул и с досадой принялся снова пришивать пуговицу. Саакашвили и Черноусов обменялись понимающими взглядами, покосились на заряжающего и тоже вернулись к прерванным занятиям.
А часы продолжали бить размеренно и чинно, с продолжительными паузами. Затихал уже девятый удар металлического гонга, когда из-за закрытой двери донесся голос Еленя:
– Дорогу, союзники!
Все с любопытством взглянули в сторону двери. С минуту никто не показывался, потом лязгнула щеколда и в дверь просунулась нога. У Густлика, как видно, были заняты обе руки, и он пытался поддеть и открыть дверь носком сапога. Наконец он предстал в дверном проеме, потный, сияющий, с растрепанными от ветра волосами, и, опершись о косяк, остановился, чтобы дать всем возможность полюбоваться добытым трофеем.
Виноградная лоза с листьями величиной с мужскую ладонь, старательно вырезанными из дерева, вилась у него по плечам, по бокам до самого пояса. Среди веток и листьев блестел латунный диск с римскими цифрами и стрелками, а чуть выше массивные дверцы прикрывали дупло, из которого в любой миг могли выпорхнуть горластые кукушки и оповестить время. Венчала все это декоративная доска, на которой недоставало только фамильного герба бывшего владельца. Никто не вымолвил ни слова, и Елень, уверенный, что все онемели от восторга, решил сам дать необходимые пояснения.
– Музыкантов в этом Ритцене не оказалось. Я, Томчик, обшарил с полета домов, а то и больше, заглянул в десяток лавчонок, и нигде ничего. Тут мне и пришла ценная идея… Гляньте, хлопцы, на эти часы… С музыкой! С кукушками и с музыкой…
Черешняк встал, швырнул на вещмешок мундир и шило, не боясь, что спутаются нитки, однако, вместо того чтобы броситься с распростертыми объятиями к Еленю, только покачал головой и, облокотившись о подоконник, отвернулся к окну.
Елень шагнул вперед, дверь за ним захлопнулась.
– Ты что уставился, как на покойника? – набросился он на Саакашвили. – Часов, что ли, никогда не видал?
– Густлик, дорогой, – отозвался Григорий и, поставив утюг на одеяло, подошел к приятелю, – неоригинальный ты человек.
– Какой?
Прежде чем Григорий успел ответить, раздался звучный троекратный удар гонга, и в комнату со стены полилась мелодия штраусовского вальса. Продолжая сжимать в руках принесенное «чудо часовой техники», Густлик поднял голову и теперь только увидел развешанные на крюках и гвоздях часы: простые ходики, часы с боем, с органом, с колокольчиками и курантами; круглые и овальные; с римским циферблатом и с арабским. Все они тикали, размахивали маятниками, и все показывали разное время.
– Эти принес гвардии старшина Черноусов, – тоном музейного гида стал объяснять и показывать Григорий. – Эти – его разведчики, а те, что сверху, – я. Гармошку никто не нашел, и поэтому все…
Не стихла еще мелодия вальса, как из объятий Густлика, тарахтя крыльями, выскочила деревянная птица и во все горло провозгласила: «ку-ку!»
– Возьми! Бери, а то шмякну об пол! – разозлился Елень.
«Ку-ку!» – пронзительно вскрикнула вторая.
Саакашвили подхватил «гнездо» с бойкими кукушками, повесил на гвоздь и хотел остановить. Но едва он подтянул вверх гирю, как вся махина вырвалась у него из рук и бешеным галопом поскакала вперед, оглушительно тикая и кукуя на ходу.
В этот не самый подходящий момент в дверях появился человек в гражданском костюме, с красной повязкой на рукаве и постучал в притолоку.
– Обер-ефрейтор Кугель! – представился он, приложив руку к фетровой шляпе. – Заместитель коменданта города по гражданским делам.
Шлепнув ладонью по деревянному циферблату, Елень усмирил кукушек и при виде немца приосанился, приняв вид, подобающий солдату победоносной армии.
– Вползай, – разрешил он прибывшему. – Как с розами?
– Розы? – Немец сделал печальный жест, потом немного оживился. – Сирень цветет около кирпичного завода, там высоко – и вода не дошла. Немножко есть людей. Старик, ребенок, женщина.
– Заботься о них. Да смотри кабель больше не рви, а то во второй раз спуску тебе не будет. – Густлик подсунул ему кулак под нос.
– Хорошо, – поспешил согласиться Кугель. – Теперь нужно только соединять кабель, восстанавливать, ремонтировать. В ратуше уже убирают, вот-вот часы пойдут…
– С этим можешь не торопиться, – буркнул Елень.
– Я умею быть благодарным, – произнес немец. – Велел вот принести для вас подарок на память, а потом что-то скажу.
Он отступил в сторону, дал знак своим сопровождающим, и те втащили на лямках, перекинутых через плечо, как и пристало профессиональным носильщикам, большой продолговатый предмет, завернутый в скатерть.
– Что это, гроб или шкаф? – спросил Елень.
– Шкаф, – радостно осклабился бывший обер, помогая ровнее устанавливать в углу комнаты принесенный предмет. – Шкаф, а внутри…
– Шнапс, – подсказал Густлик.
– Нет. – Кугель приподнял угол скатерти и стал под ней копаться. – Чтобы время шло хорошо, – добавил он таинственно, а потом одним движением, словно открывая памятник, сбросил скатерть… с больших кабинетных часов. Весело звякнув, они стали бить так громко, будто хотели разбудить весь мир.
Это уже было слишком даже для флегматичного Еленя. Не в силах овладеть собой, он перекинул автомат со спины на грудь, подскочил вплотную к гостю и яростно прошипел:
– Катись колбасой!
– Их ферштее нихт! – наморщил брови Кугель и переспросил: – Колбаса? А сыр надо?
– Сгинь, мигом! – во весь голос заорал Густлик, занося руку, но на полпути задержал ее и замер, вытянувшись по стойке «смирно».
В комнату в черном танкистском комбинезоне вошел генерал. Усталым движением он стащил с головы шлем, открыв лоб, совсем белый по сравнению с запыленным и загорелым лицом.
Кугель и два его помощника проскользнули между штабными офицерами и автоматчиками охраны, поняв, что тут сейчас не до них.
Две-три секунды царило неловкое молчание. Черноусов ждал, что поляки сами отдадут рапорт своему командиру, но потом, когда начали мерно и чинно бить кабинетные часы, подаренные обер-ефрейтором, и он и Елень одновременно выступили вперед:
– Товарищ генерал…
– Гражданин генерал… – переплелись их голоса. Верх одержал мощный бас силезца: – Группа советских разведчиков и экипаж танка «Рыжий» находятся…
Густлик умолк, подыскивая подходящую формулировку. Воспользовавшись наступившей паузой, неожиданно вмешался Саакашвили и тихим, грустным голосом, совсем не по-уставному произнес:
– Нет больше «Рыжего»… Остались мы без брони над головой…
– Я знаю, – спокойно ответил генерал и, указывая на дым, валивший от одеяла из-под раскаленного утюга, добавил: – А сейчас останешься еще и без штанов.
Григорий схватил утюг, плеснул, водой из котелка на тлеющее одеяло.
– Потеряли мы машину. Дело было так… – начал было рассказывать Густлик, но, услышав за спиной мелодичные серебряные звуки музыкальной шкатулки, наигрывающей менуэт, сбился и умолк.
– Я знаю, – выручил его генерал. – В сложной ситуации вам встретился немецкий капитан, указавший направление отхода. Этот же капитан два часа спустя обо всем доложил нам по радио.
– Вот черт… – буркнул Елень и, скрывая удивление, подтвердил: – Так точно, гражданин генерал.
– А где командир танка?
Черноусов выступил на полшага вперед и доложил:
– Он с Марусей пошел в город искать гармонию.
– Между ними давно уже гармония…
– Гармошку Черешняка, – пояснил Густлик. – Ту, что осталась от Вихуры. Пропала она.
– Напомните сержанту Косу, что он до сих пор не представил мне рапорта.
– Какого рапорта?
– Письменного. Он знает. У нас была с ним беседа на эту тему, когда его из контрразведки доставили…
Генерал умолк, и в наступившей тишине явственно раздалось тиканье обер-ефрейторского подарка и, что совсем уж некстати, бешеный галоп густликовского «чуда техники», выстреливающего секунды со скоростью пулемета. Однако генерал, казалось, не услышал, или, вернее, не заметил этих звуков, занятый своими мыслями.
– Товарищ механик, – обратился он к старшему по званию из танкистов, и Саакашвили, отставив утюг, вытянулся по стойке «смирно».
– В четырнадцать часов я ввожу в бой маневренную танковую группу с рубежа пять километров западнее Ритцена. В одиннадцать пятнадцать всему экипажу быть в сборе.
Часы с маятником, случайно заведенные Григорием, как раз показали одиннадцать, и над самой головой командира, выскакивая из резной виноградной листвы, наперебой хрипло закуковали кукушки.
Генерал удивленно взглянул на часы.
– Ерунда. Вам надо их сверить. – Он повернул голову и увидел стену, увешанную часами. – Это что еще такое? Мародерство!
Деревянная птаха прокуковала последний раз и юркнула в свое убежище. В комнате воцарилась тишина. Нарушил ее Томаш своим спокойным звучным голосом:
– Они же не золотые, и такие здоровенные, что их не утащишь. Они просто взяты в плен, гражданин генерал.
– В плен, говоришь? – задумался командир. – Возвращают время, украденное войной… Ну ладно, – махнул он рукой и напомнил: – Буду здесь в четверть двенадцатого.
Танкисты стояли еще по стойке «смирно», провожая офицеров штаба армии, когда из-за двери осторожно выглянул Кугель.
– Господин унтер-офицер, – робко обратился он к Еленю.
– Подслушиваешь?
– Нет.
– Что тебе?
– Кое-что сказать.
– О часах?
– Нет. На кирпичном заводе прячется один немец. Он бежал из концлагеря на заводе боеприпасов в Крейцбурге…
– Слушайте, что я вам скажу! – воскликнул Саакашвили, до этого задумчиво хмуривший брови.
– Подожди, – прервал его Елень и повернулся к обер-ефрейтору. – Пусть не боится. Дай ему поесть и что-нибудь из одежды. – Густлик, похлопывая Кугеля по спине, легонько вытолкал его из комнаты: ему любопытно было послушать, что хочет сказать Григорий.
– Вы слышали, генерал сказал: танковую маневренную группу. Значит, нам дадут танк.
– Горит, – показал Густлик на утюг, из-под которого снова валил густой дым.
– Пускай горит, доска толстая, – махнул рукой Григорий.
Схватив в правую руку саблю, а в левую свои недоглаженные брюки и размахивая ими, как флагом, он пустился по комнате вприсядку.
– Гамарджвеба! Победа! Звыченство! – выкрикивал он на всех известных ему языках.
– Нет, нас, наверное, возьмут как десант, – покачал головой Томаш.
Слова Черешняка подействовали на Григория как ушат холодной воды. Он остановился и умолк. Потом нехотя залил водой тлеющую доску, поставил на мокрое дерево утюг и, прыгая на одной ноге, стал натягивать брюки.
Густлик тоже было помрачнел, насупился, но его природный оптимизм скоро взял верх.
– Как прикажут, так и будет, – махнул он рукой. – Только война идет к концу, людей становится меньше, а танков все больше, так что могут и дать.
– Нужно Янека поскорее найти, – напомнил Саакашвили.
– И Марусю, – добавил Черноусов.
– А то, гляди, начнут думать, как сделать, чтобы после войны людей было больше, тогда скоро их не жди, – рассмеялся Густлик. – Где вот только их искать?
– Как это где? – не отзываясь на шутку, ответил старшина. – За городом, где зелени много. Немец говорил, что рядом с кирпичным заводом сирень цветет.
С рассвета, после того как был захвачен Ритцен и кончилось наводнение, они не теряли времени даром, и теперь перспектива возвращения на передовую не застала их врасплох. Все успели уже вздремнуть после трудов бессонной ночи, и никто не захотел оставаться в доме. На поиски Янека отправились все трое.
В центре городка трактор, сотрясаясь от натуги, стаскивал с улиц во дворы разбитые орудия, а многочисленные группы, сформированные Кугелем, сметали с тротуаров битое стекло и груды штукатурки, разбирали развалины разрушенного бомбой дома. Войска неудержимым потоком все еще катились на запад, в сторону поросших лесом холмов.
Боковые же улочки были пустынны и не носили никаких следов войны. Шаги танкистов отдавались негромким эхом. В железных скобах под воротами, в окнах и на трубах торчали шесты, палки, жерди, а на них развевались полотенца, наволочки, простыни, удостоверяя шелестом белого полотна, что захваченный город не намерен оказывать сопротивления. Кое-где в окнах мелькали порой бледные лица, торопливо отступавшие в полумрак квартир.
Друзья свернули в проулок, держа направление на трубу кирпичного завода, и неожиданно встретились с нестарым еще человеком, толкавшим перед собой детскую коляску, нагруженную пакетами, свертками и объемистым мешком фасоли. Немец сделал было движение, словно собираясь все бросить и бежать, но, поняв, видимо, что шансов у него мало, пересилил себя и продолжал идти навстречу, низко опустив голову.
Танкисты с любопытством смотрели на его зеленый свитер и серые штатские брюки, заправленные в новенькие армейские сапоги. Свитер и сапоги либо только что были выданы, либо просто украдены с военного склада.
– Мой размер, – на глаз определил Черешняк, когда встречный поравнялся с ним.
Мужчина отпустил ручку, и коляска с разгона прокатилась еще несколько метров. Вытянувшись по стойке «смирно», немец медленно поднял руки. Теперь только друзья заметили, что вместо правой руки от локтя у него кожаный протез на металлических шинах.
– Если брать, так бери, – буркнул Елень.
– Нет, – решил Черешняк, – дохожу в старых.
Не оглядываясь больше на инвалида, они пошли дальше.
– Интересно, скольких он расстрелял, прежде чем потерял руку? – спросил Григорий и, не ожидая ответа, сам тут же добавил: – А может, и не расстреливал…
Мостовая кончилась, и вдоль рва мимо большого сада они вышли на окраину города. Дальше тянулся пустырь, поросший редким кустарником и сначала полого, а потом все круче поднимавшийся вверх. На склоне рыжели заросшие бурьяном печи, серела крыша сушилки и торчала труба, изгрызенная снарядами.
Приятели остановились среди яблонь, покрытых лопнувшими бледно-розовыми почками, готовыми вот-вот совсем распуститься. Густлик, выступив на шаг вперед, стал осматривать в бинокль местность и сразу же на фойе рыжеватой поляны заметил овчарку.
– Старшина правильно говорил, – произнес он, обращаясь к друзьям. – Шарик здесь, – значит, и хозяева недалеко.
Положив руки на автомат, он широким шагом двинулся вверх по склону. За ним, в нескольких шагах по обе стороны, следовали Григорий и Томаш. Один просматривал местность справа, другой – слева, прикрывая ведущего, – эта привычка сохранится еще долго после войны. Когда-нибудь в будущем сын или дочь обратят на это их внимание, а они улыбнутся смущенно и обратят все в шутку, ибо фронтовые привычки становятся смешными в мирное время.
В апреле 1945 года шла еще война, но здесь, на окраине Ритцена, было тихо и спокойно. Звуки боя долетали сюда приглушенные расстоянием, а движение на шоссе отсюда слышалось, как шум далекой реки.
– Пан плютоновый, – проговорил Черешняк после некоторого раздумья.
– Я же разрешил называть меня по имени, – обернулся Елень.
– У меня такой вопрос, что лучше по званию.
– Ну, что тебе?
– Если бы мы не так спешили вперед, меньше бы людей погибло, а?
– Неправильно, – горячо возразил Саакашвили. – Если фрица не гнать, то он через километр зароется в окопы, нашвыряет мин, и опять его выкуривай… Надо гнать, пока не опомнится.
– Это одно, – поддержал его Елень. – А другое дело – в лагерях и тюрьмах томятся люди. Что ни час, то смерть новые тысячи косит. – Он задумался на минуту и вспомнил: – Кугель говорил, что здесь на заводе какой-то узник прячется, бежавший из лагеря…
Они подошли к Шарику, который давно уже поглядывал в их сторону, махал хвостом, но с места не трогался.
– Где Янек? Где Маруся? – спросил Григорий.
Пес заскулил и ткнул носом в палку: ведено, мол, караулить, так что с места сойти не может.
– Ну, я это возьму. – Густлик поднял палку. – Теперь пошли?
Опустив к земле нос, ловя четкий запах следа, собака двинулась в сторону трубы и печей, полускрытых неровностью местности.
– Давайте покричим, – предложил Томаш, набирая в легкие воздух.
– Молчи, – остановил его Густлик и добавил с лукавой миной: – Застигнем их врасплох.
Все трое рассмеялись и пригнулись пониже, чтобы Янек не заметил их раньше времени. Бежавший впереди Шарик вдруг остановился и застыл с поднятой передней лапой, словно делал стойку на зверя. Он не издал ни единого звука, только ощетинил на загривке шерсть и яростно оскалил клыки.
Выражение озорного веселья вмиг слетело с лиц танкистов. Пригнувшись к земле, они взвели затворы автоматов. Потом, скрываясь за кустами, осторожно двинулись вперед, пока перед ними не открылся вид на основание трубы и лечь для обжига кирпича.
Там стоял здоровенный детина в сапогах и черных брюках галифе. Сжимая в руке пистолет, он выглядывал из пролома в стене печи и поминутно бросал нетерпеливые взгляды на часы.
Григорий и Томаш вопросительно взглянули на Густлика. Елень прижал палец к губам, а потом широким взмахом руки показал, чтобы они обходили печь с тыла. Сердце у него сжалось в предчувствии беды. «Черт его знает, сколько там в развалинах сидит таких вот с пистолетами».
Затем он вместе с Шариком отступил немного назад и пополз к заводу через заросли сирени.
Со стороны города, с ратуши, донесся глухой, низкий бой часов, пробивших половину одиннадцатого и возвещавших уцелевшим жителям о том, что начался отсчет нового времени.