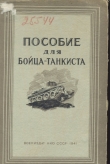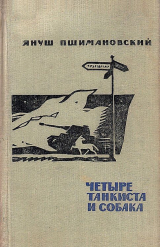
Текст книги "Четыре танкиста и собака"
Автор книги: Януш Пшимановский
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 55 страниц)
24. Помолвка
С юга, со стороны аэродрома в Пруще, прилетела эскадрилья штурмовиков. Едва последний, девятый, успел занять свое место в строю после взлета, как первый уже лег на крыло, делая боевой разворот. Все это происходило в трехстах метрах над треугольной площадью деревянного рынка, и рев самолетов, приумноженный эхом, отраженный от стен, плотно заполнил всю комнату. Вест оборвал фразу на полуслове – во-первых, потому что сам не слышал собственных слов, а во-вторых, потому, что генерал, в знак своего несогласия, так сильно хлопнул рукой по столу, что подскочила чернильница. Потом Вест повернулся на стуле к окну и через большую нишу, лишенную не только стекол, но и оконной рамы, стал смотреть на бурую груду кирпичного щебня, из которого, подобно заржавевшим остовам затонувших на мелководье кораблей, торчали законченные пожаром стены. Теплый ветер рассеивал серые дымки над трубами, торчавшими из подвалов, в которых уже жили люди. На горизонте просвечивал солнечным серебром Гданьский залив.
Под рев «ильюшиных» со стороны моря неожиданно прилетел тяжелый снаряд, раздался взрыв. За каналом Радуни заколебалась стена пятиэтажного дома, выгнулась, сломалась пополам и рухнула в облаке пыли.
Замыкающий штурмовик блеснул бледно-голубым брюхом, прочесал небо ракетами, вылетевшими из-под крыльев, со свистом нырнул прямо к волнам, прячась в их блеске от наводчиков корабельных зениток.
– Опять корабли. Эти негодяи хотели бы до основания снести Гданьск,
– заговорил генерал громким голосом, хотя расстояние уже приглушило взрывы ракет и лай орудии. – Но ничего, штурмовики дадут им «полный назад», – усмехнулся он, взглянул на Веста и снова стал серьезным.
Они сидели друг против друга по обе стороны резного, почерневшего от времени стола, как боксеры в противоположных углах ринга.
– Так не дадите? Откажете генералу, поручник?
– Не дам.
Вест одернул кожаную куртку, ослабил воротник на шее, как будто ему было душно, и упрямо покрутил головой. Поправил на руке красно-белую повязку, передвинул на поясе тяжелый маузер.
От толчка снаружи отворились высокие двери, ударились ручкой о стену. За ними двое часовых, скрестив винтовки, преграждали дорогу толпе разгоряченных людей, наполнявших зал с острыми готическими сводами.
– Хватит!.. Пускайте… Сколько еще ждать?!
Генерал повернулся на стуле и, нахмурив брови, посмотрел на разгоряченные лица. Ему показалось, что в глубине зала он заметил Марусю-Огонек. Вест встал, подошел к двери и поднял руку.
– Товарищи! Граждане!.. – Он подождал, пока утихнет гвалт. – Криком тут не возьмете. Подождите…
– Пропустите! – крикнул кто-то в задних рядах.
– Кому это не терпится?
– Мне! – пропихнулся вперед пожилой усатый мужчина с милицейской повязкой, с автоматом на груди.
Секунду они мерили друг друга взглядом.
– Люди умирают, – сказал мужчина и ударил по стволу автомата широкой ладонью с крючковатыми, узловатыми пальцами.
– Пропустите его, – уступил Вест.
Мужчина нырнул под штыками, а поручник Кос закрыл двери и ждал, вопросительно глядя на него.
– В лесу под Ясенем. Сто двадцать человек. И все говорят на разных языках. Во время налета убежали из лагеря, скрылись… Умирают от голода.
Вест, слушая, одновременно писал в блокноте, затем, поставив розовую печать, вырвал два листка и отдал усатому.
– На хлеб и транспорт. А это адрес, отведешь их, и пусть занимают бараки.
– Есть! – козырнул милиционер и, поддерживая автомат, нырнул в приоткрытую дверь под скрещенные голубоватые штыки часовых.
Вест вернулся на свое место за столом, сел и минуту писал в блокноте, потом поднял глаза на командира бригады и сказал:
– Вот поэтому я и не даю со складов ничего, хотя завоевали это все солдаты вашей бригады.
– Роли переменились. Теперь командуют гражданские, – пробормотал генерал с некоторой долей понимания, хотя все еще насмешливо.
– Вы шли, чтобы освобождать, а не управлять, – спокойно, но резко ответил Вест. – Город должен жить.
– Это так. А где брать хлеб для армии?
– Я дам бумагу на муку и баржу с буксиром. Пошлите своих в верховья Вислы. Из того, что привезут, – половина ваша. Согласны?
– Согласен.
Снова приоткрылись двери, стража впустила советского морского офицера, который козырнул генералу и как со старым знакомым поздоровался с Вестом.
– Завтра мои тральщики идут в море.
– Хорошо. Я пошлю следом катера, надо хотя бы немного рыбы для города…
Говоря, Вест не переставал писать, затем протянул бумагу с печатью командиру танковой бригады.
– Помните, половина – моя.
Пожав Весту руку, генерал открыл дверь. Часовые отвели винтовки, а люди расступились, образовав узкий проход. Генерал двинулся по нему резко, как танк; он все еще хмурил брови, когда увидел среди толпы Марусю – она стояла, прислонясь к каменной колонне.
– Что ты здесь делаешь, Рыжик?
– Наша дивизия сейчас стоит в Гданьске. А я вас ищу, товарищ генерал.
Они медленно шли через огромный и пустой зал – толпа осталась у дверей кабинета Веста. Они миновали небольшие группки людей у столов, за которыми уже приступили к работе представители новой городской власти.
– Слушаю.
– Я хотела узнать, куда вы пойдете дальше?
– Бригада останется на Вестерплятте. От последних боев осталось мало солдат, а машин еще меньше, да к тому же заезженные, покалеченные. Несколько самых лучших машин пойдут на фронт, на Берлин.
– «Рыжий» останется?
– У него новый мотор, но экипаж неполный.
– А отец Янека?
– Ты сама видела. Он здесь очень нужен. Управляет.
Огонек подняла глаза, набрала воздуха в легкие и смело продолжала:
– В танке одного не хватает, а я… – она забыла заранее обдуманные слова, – я могла бы…
Генерал удивился, потом улыбнулся.
– А ты могла бы стрелять из пушки, – закончил он и тихо добавил: – Исчезни. Сейчас же, и быстро.
И, стоя у перил, смотрел, как она сбегает вниз по лестнице, похожая на вспугнутую белку.
«Несправедлив этот мир, – думала Огонек, идя улицей мимо превращенных в пепелище домов. – Была бы я парнем – тогда другое дело. Меня бы приняли в экипаж на место стрелка-радиста. Научиться ведь не трудно. И вовсе не надо стрелять из пушки, поднимать тяжелые снаряды, это делает Густлик. Им нужна как раз радистка…» Она остановилась и с горечью подумала: а ведь Лидка прекрасно умеет обращаться с рацией, наверно, уже давно подала рапорт и именно ее…
– Ну нет, – радостно встрепенулась Маруся, – девушек на танк не берут!
Она огляделась, испуганная звуком собственного голоса, но никого поблизости не было, никто не слышал ее, кроме кустов сирени, которые, наперекор войне, выпустили светло-зеленые листочки и протягивали ветки сквозь ржавые прутья ограды. Она понюхала листочки, погладила рукой и, тихонько напевая, взбежала вверх по дорожке на пруду битого кирпича. Оттуда были видны стоящие ровными рядами танки и казарменные строения, уцелевшие от огня.
Часовой узнал ее, улыбнулся и вскинул винтовку «на караул». В ответ на эти генеральские почести Огонек с серьезным видом козырнула, а потом весело спросила:
– Не удрали от меня?
– Нет. Все на месте.
Маруся двинулась по тротуару между танками и казармой и смотрела в распахнутые по-весеннему окна первого этажа, расположенные, однако, слишком высоко, чтобы она могла заглянуть внутрь. У третьего окна она остановилась и прислушалась. Внутри посвистывал Густлик. Маруся поправила празднично выглаженную гимнастерку, расправила складки под ремнем и громко крикнула:
– Экипаж, к бою!
Первым, как молния, выскочил Шарик с собственным поводком в зубах, за ним в окне появились все три танкиста со шлемофонами в руках.
– Маруся! Огонек!
– Я свободна до обеда…
Янек перескочил через подоконник, крикнул:
– Я сейчас! – И нырнул внутрь «Рыжего».
– А я думал, ты со мной пойдешь прогуляться, Огонек, – огорчился Григорий.
– Или со мной, – добавил Елень.
– Я с тем, кто самый быстрый. Вы теперь в танке втроем будете?..
– Нет у нас четвертого. – Оглянувшись по сторонам, не слушает ли кто, Густлик таинственно добавил: – Говорили, что будет Вихура, этот, что баранку крутит, – показал он жестами и прищурил глаз.
– Вот если бы ты, Маруся, к нам присоединилась, – сказал Григорий.
– Где там, девушке это не подходит… – Желая сменить тему, она сверкнула глазами в сторону «Рыжего». – Что он в танке ищет?
– Наверно, шапки. У нас там все, – начал объяснять Густлик. – Только спим в доме, и это непривычно.
– Неудобно, – уточнил Саакашвили. – Слишком мягко. Только когда я выбросил подушку и положил под голову кобуру…
Янек слушал этот разговор, стоя внутри танковой башни и примеряя фуражку перед зеркальцем, установленным на замке орудия. Он поправил прядь своих льняных волос, чтобы она небрежно свисала на лоб. Когда Елень сказал, что надо четвертого, Янек сразу стал серьезным и повернулся в ту сторону, где к броне была приклеена фотография бывшего командира и висели два его креста – Крест Храбрых и Виртути Милитари. Он задумался, глядя на фотографию погибшего товарища, и не слышал даже шуток Григория о зачислении Маруси в состав экипажа.
– Янек! Ну иди же!
– Иду! – откликнулся Янек на призыв Густлика.
Он поднялся в люк на башне, выскочил на броню, с брони спрыгнул на землю. Беря Марусю под руку, с извиняющейся улыбкой козырнул друзьям.
– Ты не спеши… – сказал ему на прощание Елень и тут же обратился к Саакашвили: – Если что, и вдвоем справимся.
Некоторое время они смотрели в окно вслед уходившим.
– А я один, – вздохнул Григорий.
– Что ты огорчаешься? Вот-вот конец войне. И тогда не успеешь оглядеться, как тебе от девчат отбоя не будет.
Янек и Маруся шли по пустой, изуродованной снарядами улице отвоеванного Гданьска. И смущенные не столько близостью, сколько непривычной для них тишиной, молчали. Шарик бегал вокруг, останавливался перед ними, смотрел то на Янека, то на Марусю и радостно лаял.
Овчарка, в жизни которой все было ясно – голод или сытость, ненависть или любовь, – удивлялась и не понимала сложных людских дел. Откуда ей было знать, что о простых и очевидных для каждого, хотя бы раз увидевшего издалека эту пару, вещах труднее всего говорить именно им двоим. Труднее всего, потому что не знают они, как в несколько маленьких слов вместить большое чувство. А говорить долго и красиво они не умеют – война этому не учит. Они привыкли к кратким командам, к восклицаниям, которые быстрее пули.
Апрельский ветер, солоноватый от запаха моря, ласкал их теплой ладонью по лицам, нашептывал тихонько что-то на ухо. На перекрестке Огонек собралась наконец с духом, замедлила шаги, чтобы заговорить, но в последнее мгновение передумала.
– Пойдем к морю, – предложила она, снимая с головы берет.
– Давай, но сначала я покажу тебе свой дом.
– Хорошо. – И она подала ему руку.
Он повернул к разбитым воротам, осторожно провел девушку под навесом порыжевшего железобетона и дальше, ущельем между горами щебня, во двор, покрытый желтой, прошлогодней травой. Над гребнем старой слежавшейся кучи поднималось деревцо в первой зелени весны, и Шарик побежал посмотреть его вблизи.
– Здесь мы жили втроем. – Янек показал на пустые прямоугольники окон на первом этаже. – Давно, до войны.
Маруся сняла с него фуражку, погладила по волосам, а потом, положив руки ему на плечи, сказала:
– Ты нашел отца. А я совсем одна.
– Нет, Огонек. Вот здесь, почти рядом с моей матерью, я хотел тебя попросить… чтобы мы были вместе, навсегда.
– Это будет нелегко, – тихо ответила Маруся.
Держа в руках его фуражку и свой синий берет с красной звездой, она подняла их, как бы показывая, что они разные, что принадлежат разным армиям.
– И все-таки это будет. – Он упрямо покрутил головой, пальцами расчесал волосы.
– Война не окончена. А солдатский день бывает подчас как целый год мирной жизни: грусть и радость, встреча и расставание, жизнь и…
Он прижал свой палец к ее вишневым теплым губам, чтобы удержать слово, которое солдаты на фронте стараются не произносить вслух. О смерти говорилось – «она». Так раньше, в очень давние времена, люди избегали произносить имена грозных богов, боясь их рассердить.
На улице тарахтел мотор машины и время от времени гудел клаксон. Кто-то кричал. Янек уже давно уловил эти звуки, но только сейчас понял, что зовут-то его.
– Янек! Плютоновый Кос!
Янек схватил фуражку, энергично надвинул ее на голову и выбежал на улицу. За ним Маруся, и самым последним Шарик, обеспокоенный этой неожиданной спешкой.
У края тротуара стоял ядовито-зеленый грузовик, из кабины выглядывал Вихура.
– Привет. Здравствуй, Огонек! – весело крикнул он. – А я вас ищу-ищу. Осторожно! Свежевыкрашено, – предостерег он, поднимая палец.
– Краска, холера, никак сохнуть не хочет…
– Ты что-то хотел? – прервал его Кос.
– Ну, конечно. Слушайте: отправляется баржа вверх по Висле за мукой. Солнце, весна и все такое прочее. Хотите вместе?..
– Хотелось бы, но у меня дежурство в госпитале.
– Я не могу. Сегодня торжественная линейка на Длинном рынке, а завтра вечером праздник.
– К вечеру вернемся!
– Нет…
– Ну, тогда привет! – Вихура козырнул и, убирая голову в кабину, стукнулся теменем о край рамы, отчего сморщил свой курносый нос. – Будьте здоровы, Косы! – крикнул он, дал газ и рванул с места.
Янек перестал хмуриться.
– Может, его в экипаж? Варшавянин, быстрый парень.
– Конечно, Янек. Конечно, никого другого, только Вихуру.
– Слышала, как он нас назвал? Обещай, что сразу после войны…
– Слышала. Обещаю.
Она протянула ему руки, он крепко сжал ее ладони и не отпускал, стискивал, как гранату с выдернутой чекой, глядя в потемневшие зеленые глаза под черными бровями, выгнутыми, как монгольский лук.
Шарик присел у ног своего хозяина, посмотрел снизу вверх на лица обоих, и хотя ему захотелось радостно залаять, даже не заскулил.
Издалека, с Балтийского моря, возвращались штурмовики, они жужжали в небе совсем как сытые, тяжелые шмели над лугом, и все было так празднично, потому что было сказано самое важное и прекрасное, что можно сказать…
На Длинном рынке собралась масса народу. Кроме польских и советских солдат здесь было много гражданских. Люди толпились до самых Зеленых ворот, до моста через Мотлаву. Генерал обращался именно к мирному населению, он говорил, что невольники, согнанные сюда гитлеровцами силой, – теперь подлинные хозяева этого города, который когда-то был польским и теперь снова и навсегда возвращен Польской Республике.
Отец Янека благодарил советских солдат и польских танкистов за труд и пролитую кровь, за внезапный, стремительный штурм, благодаря которому уцелела часть жилых домов и фабрик, уцелели приговоренные к уничтожению военнопленные и польское население.
Оба говорили с террасы, поднимавшейся над землей на шесть высоких ступеней перед входом во дворец Артуса. Громкоговорители повторяли их слова. Янек, Григорий и Густлик прекрасно все видели и слышали, потому что «Рыжий» с гордо поднятым стволом пушки стоял рядом с террасой и весь экипаж сидел на броне, на башне, а с ними Маруся и Лидка, старшина Черноусов, ну и, конечно, Шарик.
– Нас бы так серебрянкой покрасить, вот был бы памятник! – громким шепотом сказал Елень.
Лидка тихонько рассмеялась, представив себе посеребренного Густлика, Григорий начал ей вторить и получил тумака в бок от Янека. Они не слышали последних слов выступавшего, но тут старшина, зашипев как паровоз, успокоил их.
На площади установилась тишина, кругом посветлело от поднятых вверх лиц – все смотрели на продырявленную снарядами башню Главной ратуши, поверх часов, поверх широкой галереи, на что-то у самой крыши.
– Что там такое? – тихо спросил Елень.
– Солдат без фуражки, – ответил Кос, рукой заслоняя от солнца свои ястребиные глаза.
– Выстрелит из ракетницы или будет играть на трубе?
– Замахивается…
Широкой дугой вылетел в воздух сверток величиной с рюкзак, распластался, развернулся и вспыхнул на солнце многометровый красно-белый стяг, наполненный свежим морским ветром. И прежде чем кто-нибудь успел вскрикнуть или сказать слово – заиграли трубы, ударили барабаны, и отозвалась медь сразу трех оркестров – польской танковой бригады и двух советских дивизионных; «Еще Польша не погибла, пока мы живы…»
Испуганные чайки закружились вверху, над домами без крыш, над поднятыми вверх лицами людей, повлажневшими будто от утренней росы.
Срочной работы в Гданьске было невпроворот. Станислав Кос хотел сразу же после торжеств вернуться к своим обязанностям бургомистра, но экипаж «Рыжего» взял его в плен и потащил на Вестерплятте. Его просили показать, где стоял немецкий корабль «Шлезвиг-Гольштейн», где были ворота с орлом на овальном щите с надписью «Военный транзитный склад»; раздвигая руками разросшиеся по грудь лопухи, рассматривали остатки каменной стены, поржавевшие рельсы железной дороги, руины караульного помещения.
Наконец уселись на берегу на перевернутую вверх дырявым дном шлюпку и смотрели, как ветер носит чаек над Мертвой Вислой, и слушали воспоминания поручника.
– Под конец мне самому пришлось встать за пулемет. Получил осколком по голове, но легко, только вот каску было трудно натягивать на повязку. А они бомбили, били из орудий… Против тяжелого оружия мы были бессильны, но все равно за наших пятнадцать человек они заплатили тремя сотнями убитых. Мы удерживали Вестерплятте целую неделю. В то время когда война только начиналась, это было важно. Было важно, чтобы мир услышал эти выстрелы, пробудился и понял, что каждая новая уступка только делает бандитов все наглее и наглее…
Лидка стащила тесноватый сапог и грела босую ногу на белом песке. Маруся сорвала травинку и грызла желтовато-зеленый стебелек. Шарик, лениво растянувшись на солнышке, ляскал зубами, пытаясь схватить муху.
– Здесь было начало, – сказал Густлик, – и здесь для нас конец работы. Разве не так? Завтра вечером, эх, и танцевать буду, как уже давно не танцевал. – Он встал, зашаркал сапожищами в темпе оберека.
– Повеселиться можно, а вот до конца еще далеко. Работы много, – ответил Вест. – Везде развалины, мины, порт утыкан затонувшими кораблями. Надо все это…
– Ясно, – прервал его Янек, – но главное, что мы нашли друг друга.
– Мой старик тоже написал. – Густлик вытащил из кармана письмо и похлопал по нему ладонью. – Мать просит его поздравить весь экипаж.
– Весь экипаж… А если он не весь? – Григорий сломал и бросил назад, через плечо, ветку, которую крутил в руках. – Никто нам не скажет, какая будет завтра погода.
Все загрустили. Но тут Шарик навострил уши, предостерегающе проворчал. По бездорожью, шелестя сухими стеблями прошлогодних сорняков, подходила к ним худая, не старая еще женщина в черном платье.
– Извините, сын у меня пропал. Маречек, шестилетний. Может, панове видели?
– Никто здесь до вас не проходил, – помолчав немного, ответил Янек.
– Извините, я тогда пойду. Год тому назад пропал, вышел на улицу и не вернулся. Маречек, шестилетний, – уходя, причитала она.
С минуту они смотрели ей вслед.
– Мне пора. – Маруся встала. – Перед дежурством надо переодеться в старую форму.
– И перед вечером стоит подольше поспать, – добавила Лидка.
– Не скоро еще после этой войны станет людям весело, – сказал отец Янека, когда они уже шли назад.
– И все-таки Густлик прав, когда говорит, что конец работе, – энергично вмешался Григорий, – потому что конец действительно близок. Я один на свете как перст, ни одна девушка меня не любит, а я все время думаю о том, как хорошо будет после войны.
Они шли напрямик целиной в ту сторону, где у побережья оставили шлюпку после переправы через Мотлаву.
– Найдешь такую, которая полюбит. – Густлик обнял грузина за плечи.
– Завезу тебя под Студзянки, к Черешняку, и просватаю.
– В деревню не хочу.
– А хочешь девушку из Варшавы? Вихура это устроит, скажу ему, как вернется.
– А где Вихура? – заинтересовался Григорий.
– На барже поплыл за мукой, но к завтрашнему вечеру, к празднику, должен вернуться, – объяснил Янек.
Вихура не сумел вернуться к вечеру, а бал начался ровно с заходом солнца. Не танцы, а настоящий бал. Солдатский бал в освобожденном Гданьске.
Огромный зал на первом этаже старого мещанского дома едва мог вместить гостей. На стенах его еще лежала печать недавних боев: пятна сажи, косой след очереди, потрескавшаяся штукатурка, и все-таки везде царили чистота, строгость, порядок. То, что нельзя было убрать, закрыли военными плакатами: был там зеленый солдат поручника Володзимежа Закшевского, призывающий: «На Берлин!», смешные гитлеры Кукрыниксов, бьющий в колокол седой крестьянин Николая Жукова с надписью: «Братья славяне!» Где не хватало плакатов, повесили куски артиллерийских маскировочных сетей, растянутые плащ-палатки, украшенные ветками орешника и цветущего терновника, а также лозунги, торопливо написанные на полотне: «Гданьск – польский на века!», «Вперед, на Берлин!», «Рвись до танца, как до германца!», и еще что-то про Гитлера, а что именно – трудно было разобрать, потому что капеллан бригады, противник богохульства, приказал прикрыть этот лозунг зеленью.
Почти посредине бального зала находился лаз, ведущий в подвалы, это был след от снаряда. Его ограждали саперские козлы с табличками: «Осторожно, дыра!» и «Внимание, не провались!». Время от времени над полом из лаза показывалась голова солдата, который поднимался по приставной лестнице и подавал танцующим бутылки с пивом.
Играл не бригадный оркестр, который умел исполнять только марши, а собранный в экстренном порядке польско-советский ансамбль, игравший на инструментах, которые оказались под рукой, – гармонь, гитара, сигнальная труба, рояль со столбиком из кирпича вместо ножки и с простреленной крышкой и, конечно, бубен. Над возвышением для оркестра виднелся разбитый барельеф гитлеровского орла, саперы долго сбивали его прикладами, но так и не успели закончить эту работу к началу бала.
– Все танцуют!
Танцевали польские и советские радистки и телефонистки, санитарки в празднично отглаженных гимнастерках. У одних на ногах вычищенные до ярчайшего блеска сапоги, у других – неизвестно где раздобытые туфли, но у каждой что-нибудь необычное во внешнем облике, что-нибудь милое и женственное: брошка, красивый воротничок, платочек в руке, весенний цветок в волосах. Были здесь и девушки – местные жительницы, и те, кого привезли сюда на работу, когда Гданьск был еще немецким. У всех у них бело-красные повязки и ленточки на груди. Среди мужчин выделялось несколько человек, одетых в гражданское и тоже с повязками на руках и ленточками в петлице пиджаков.
Люди танцевали, а недалеко от оркестра стоял командир бригады и смотрел на них с улыбкой. Прошло, может быть, с четверть часа после начала бала, когда к нему протиснулся отец Янека с большим свертком под мышкой.
– Привет, Вест! – Генерал протянул ему руку. – Куда ты пропал со вчерашнего дня?
– Тральщики открыли выход из порта и очистили краешек залива, вот я и кликнул пару знакомых рыбаков, запустили мы катера и…
– Есть рыба?
– Немного, но есть, гражданин комендант города.
– Оставь меня в покое с этим комендантом. Меня зовут Ян.
– Станислав.
Оба одновременно подумали, как же это глупо, что до сих пор они не называли друг друга по имени, и громко расцеловались в обе щеки. Увидев это, Густлик, танцевавший с Лидкой танго «Золотистые хризантемы», закричал вниз:
– Пиво для командира, живо!
Он подхватил на лету бутылки и передал их, не переставая напевать:
«…В хрустальной вазе стоят на фортепиано…»
Командир и Вест зацепили один бутылочный колпачок за другой, сорвали их, чокнулись горлышками бутылок и отпили по два глотка.
– Вчера утром я послал людей за мукой. С минуты на минуту баржа должна вернуться, и тогда пустим пекарню.
– Я бы сгодился месить тесто. – Густлик прервал пение и показал свою мощную лапу, а потом, продолжая танцевать, тихо сказал Лидке: – Только мы здесь не останемся. Генерал пусть остается комендантом, а «Рыжий» – на фронт.
– Можешь месить! – крикнул Густлику в ответ командир и сказал, обращаясь к Весту: – Только я пробуду здесь самое большее несколько дней – и на фронт, в штаб армии. Янека надо бы побыстрее демобилизовать, послать в школу. – И он показал на парня, танцевавшего в это время с Марусей.
– Это было бы лучше всего, но…
Янек только теперь заметил отца, и они с Марусей подбежали к нему, разрумянившиеся, радостные.
– Здравствуй, папа! – И тут же Янек встал по стойке «смирно»: – Гражданин генерал, прошу разрешения обратиться к поручнику Косу.
– Военная шкура – вторая натура, – рассмеялся командир. – Вот уволю тебя на гражданку, пошлю в школу, и тебе не нужно будет просить никакого разрешения.
– За что же это? – сразу погрустнел Янек.
– Как это за что?
– На гражданку за что? Мы же всем экипажем подавали рапорт.
– Новые танки с восьмидесятипятимиллиметровыми орудиями пошли на фронт, а остальная бригада остается здесь в качестве гарнизона.
– У «Рыжего» новый мотор, гражданин генерал. Голос юноши стал хриплым. – Пока война не окончена, никто не имеет права…
– Не тебе меня учить. А пока до конца вечера приказываю танцевать.
– В таком случае я приглашаю вас. – Маруся сделала реверанс, отбросив назад с плеча толстую каштановую косу.
Оба Коса с улыбкой посмотрели на новую пару – гибкую тростинку и могучий дуб, не поддающийся бурям. Солдаты расступались, давая в круге место командиру.
– Я спешил, чтобы на праздник успеть, вот сапоги принес, – сказал отец, разворачивая сверток.
– Мне? – удивился и обрадовался Янек, увидев шевровые офицерские сапоги с высокими, до щиколотки, задниками.
– Мои довоенные. Почти не ношенные.
– Небось велики будут.
Он снял свой сапог, примерил один отцовский и… еле натянул его. Попробовал другой, потопал.
– Не велики? – улыбнулся отец.
– В самый раз. Спасибо, папа.
– Видишь, ноги у тебя за это время немного выросли.
Янек выдвинулся вперед, чтобы его видели, помахал Густлику, но тот ничего не заметил, потому что, склонившись над Лидкой, шептал ей что-то на ухо.
Девушка, кивнув головой, подошла к группе, где стоял советский генерал, и пригласила его на танец. Стоявшие поблизости захлопали в ладоши, а Янек обратился к отцу, продолжая разговор, начатый до этого генералом:
– Папа, о какой школе речь? Я бы хотел, конечно, быть вместе с тобой, но пока война не закончена, пока Польша…
– Я тебя удерживать не буду. Даже если бы и стал, все равно ты имеешь право не послушаться меня.
Несколько секунд они смотрели друг другу в глаза. Янек сделал движение, как будто хотел броситься отцу на шею, но поручник выпрямился и только протянул сыну руку. Они стиснули друг другу ладони
– два солдата, два взрослых человека, мужчины. Может быть, и поцеловались бы, но Вест увидел Саакашвили.
– Гжесь!
Григорий сидел у стены, а на соседнем стуле – Шарик, тоже грустный. Григорий, обрадованный, что кто-то прервал его задумчивое одиночество, быстро подошел.
– Хорошо, что вы приехали, потому что Янек… Ну и сапоги! – с восхищением всплеснул он руками.
– У меня подарок и для тебя, – прервал его поручник. – Офицерский ремень.
Григорий двумя руками взял ленту коричневой кожи, вышитую золотистой ниткой, осмотрел, прижал к груди и заговорил по-грузински, по-русски, по-польски:
– Мадлобт, спасибо, дзенькуе! – Снял старый ремень, надел новый, затянулся и стал тонкий в талии, как оса. – А это что? – показал он на латунные полукруглые зажимы.
– Это для сабли.
– Для сабли, – мечтательно повторил Григорий и, достав из несуществующих ножен невидимый клинок, сделал рукой в воздухе несколько движений, размашистых ударов, последний из которых пришелся почти по носу Вихуре, который подошел с двумя красивыми блондинками, похожими как две капли воды одна на другую.
– Ты с ума сошел, грузин? – спросил шофер и начал представлять девушкам своих товарищей: – Поручник Вест, отец Янека… Янек, командир танка… А этот, что махал рукой, – механик Григорий, или Гжесь… Товарищи, позвольте представить: сестры Боровинки, Ханна и Анна.
– Очень приятно с вами познакомиться, – улыбнулся Вест и спросил: – Привезли муку, Вихура?
– Привез, пан поручник, целую баржу, но едва успел с этого корабля на этот бал.
– Совершенно одинаковые… – прошептал пораженный Саакашвили, хватая капрала за рукав. – Обе красивые и совершенно одинаковые…
– Близнецы, потому и одинаковые, – объяснил шофер и тут же стал продолжать свой рассказ: – Едва успел, пан поручник, потому что два диверсанта оказались на барже и украли велосипеды…
– Густлик Елень, – представился девушкам подошедший силезец и подмигнул Вихуре. – Ух, и фантазия у тебя! Что это за диверсанты?
– Одеты были в гражданское. Один потерял шляпу, когда удирал.
– Диверсант потерял шляпу! – не унимался Елень. – Такой болтовней ты не обманул бы даже моей тетки Херменегильды, которая верит всем сказкам.
– …Мина по курсу, но я ее отпихнул, схватил автомат и… – Сморщив курносый нос, он показал, как целился. – Трррах!
– Ой! – негромко вскрикнули девушки-близнецы.
– Прошу прощения, мы все о делах военных, а тут музыка играет. Вы позволите, пани Анна, – поклонился Вихура и слегка подтолкнул Григория, чтобы тот тоже действовал.
Саакашвили пригладил усы на смуглом, потемневшем от волнения лице и наклонил голову, но в то мгновение, когда он уже протянул руки, чтобы обнять партнершу, музыка умолкла.
– Люди!
Подиум оркестра служил трибуной крестьянину из Вейхерова, который несколько дней назад принес экипажу еду к покалеченному «Рыжему». Некоторое время он стоял с поднятой рукой, ждал, пока зал утихнет, а потом громко заговорил:
– За те танки, что полегли на наших полях, мы купим солдатам хотя бы один новый. От Гданьска и Гдыни, от Вейхерова, от кашубов. Дарим, сколько можем!
Он бросил два банкнота на большой поднос, его примеру последовали другие. Одна из женщин сняла перстень, кто-то положил обручальное кольцо. Быстро росла груда злотых, попадались и рубли советских солдат.
– Мне, – говорил Григорий, ожидая танца, – мне так не везет, пани…
– Анна, – подсказала девушка.
– Внимание! – крикнул кто-то со стороны оркестра. – Белый вальс, приглашают дамы.
В зале произошло легкое замешательство. Густлик стал на пути Маруси, но она со смехом оттолкнула его.
– С тобой следующий, – обещала она и пригласила Веста.
Сестры-близнецы быстренько обменялись Вихурой и Саакашвили, и молодые люди могли из этого заключить, что оба они не были совершенно безразличны девушкам. Пары закружились по залу.
– Потанцуешь со мной? – спросила Лидка Янека, дотронувшись до его носа цветком калужницы.
– Конечно. Посмотри, от отца получил, – похвастался он сапогами.
– А помнишь шарф, который я тебе прислала в госпиталь? В знак примирения… После того как вернула тебе рукавицы. – Она откинула слегка голову назад и из-под падающей на лоб пушистой челки кокетливо смотрела ему в глаза. – Я знаю, ты меня любил, и рукавицы могли быть вроде обручального колечка…