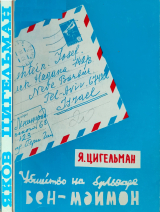
Текст книги "Похороны Мойше Дорфера. Убийство на бульваре Бен-Маймон или письма из розовой папки"
Автор книги: Яков Цигельман
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 14 страниц)
И Алик Гальперин не понимает, но вновь взмахивает рукавами: ничего не поделаешь, закон данной театральной традиции. Алик неофит, он не смеет позволить себе вольность – взмахнуть рукавами величественно, подобно павлину, распускающему свой прекрасный хвост.
Семейство, сидящее за столом, тоже ничего не понимает. Пасы, застывания на месте, летящий шаг, лисий шаг, коричневые пятна и завитки, изображающие высокую духовность, ничего им не объясняют. Они даже и не видят его.
Мы видим, но и нам он непонятен, потому что Алик заимствовал эти движения и эти завитки из истории, которая ему самому не очень понятна, но привлекает изысканностью формы.
Из-за дальнего края стола выглянул мальчик. Он положил подбородок на тарелку и смотрит. Смотрит и не видит ничего, кроме радужного нимба вокруг лампового стекла. А возле пламени вьется муха – блестящие крылья, синее брюшко, коричневые глаза, мохнатые лапки.
«Опять ничего не получается. Не втолкнуть мне Алика в ту жизнь, и самому ничего не понять…».
Если лампа стоит на парчовой скатерти и освещает зеленые бороды и красно-желтые носы – почему они евреи? А если лампа, парчовая скатерть, носы того же цвета и нет бороды?
– Картуз должен быть.
– А если нет картуза?
– Если нет картуза, значит, крест на ходиках.
Алик ничего этого не понимает. Он не терпит картузов на собственной голове, но временно надеть парик и маску он может.
– Это ничего. Это ничего не значит. Не правда ли?
Алик-то так и думает, но человек с короной и бабочкой считает иначе. Бабочка – это можно. Корона – это для смеха, а под короной обязательно картуз. По крайней мере, картуз сразу же – не пройдя четырех шагов.
– А царь Давид тоже носил картуз?
– У него была ермолка, расшитая золотом и драгоценными камнями.
– Утверждают, что шапка Мономаха не более…
– Но и не менее…
– Да, конечно. Она – наш «штраймл», только с драгоценностями.
– Мономах у нас заимствовал «штраймл» или мы у него шапку Мономаха?
– Поскольку мы были раньше, значит, он у нас заимствовал.
– Если б русский царь знал, какую шапку он носит!
– Еще с тех времен началось… Бедная Россия!
Сняв на время картуз, можно надеть корону, а картуз держать у сердца. Но если корона похожа на «штраймл», то можно без картуза. Без картуза даже бородатый еврей с загнутым до губ носом – уже не еврей. Вся суть спрятана в картузе, в старом, мятом, засаленном картузе.
– Как странно!
Впрочем, это я лишь к слову, это, так сказать, «выход в современность», потому что всякий театр, самый традиционный и старинный, не обходится без того, чтобы не задеть злобу дня. Даже такой старый-старый театр, в котором испуг мужского рода изображается как «я-я-я-я», а испуг женского рода при помощи «ше-е-е». И вот не смотря на прозрачное тихое утро и яркое солнце, не слушая радостные детские визги, звонкое птичье пение, не внимая шевелящемуся внутри беспокойству о хлебе насущном, Рагинский принужден размышлять об оторвавшейся в экстазе ноге скрипача и всматриваться в странные и непонятные лозы и прыжки Алика Гальперина, который в кимоно, парике и маске почти также странен, как…
– Что-то очень знакомое…
– Вот именно, что знакомое! И тоже непонятное.
Эта шапочка все-то попадается, лезет на язык и суется под перо; без нее нам все равно никак не обойтись.
Глава о древней истории, о половецких плясках и о роли личности
Знаете, это так замечательно заниматься древней историей!
Всего сегодняшнего нет. На месте Америки – неизвестность и непонятность, про Австралию и представления не имеют, в Европе – варвары, их никто пока не принимает всерьез. Скифы! Ах да, Страбон писал что-то о них. Мир кончается где-то за Колхидой с одной стороны, а с другой – чуть заехав за Геркулесовы столбы. Очень уютно. И очень тихо.
Иногда тишина нарушается бурлением какой-нибудь Македонии, но к нам она не имеет отношения, а Египет обещался быть нашим другом. Вокруг – империи, в крайнем случае – полисы…
– Вы слыхали про Гришу Швайгера? Он работает в «хеврат-битуах»[9]. Он тоже имеет дело с полисами. Давайте зайдем к нему как-нибудь. Посмотрим, как он живет.
– В те времена никаких страховых полисов не было. Кому придет в голову страховать свою жизнь бумажкой, если каждый свободный человек носил при себе кинжал или другое холодное оружие. И чуть что – пускал его в ход.
– Кошмар! Хулиганство!.. Мой сосед – полицейский, он хорошо зарабатывает, но говорят, что…
– Одну секунду! Позвольте мне закончить!
– Пожалуйста, пожалуйста! Я думал, вы уже ничего больше не хотите сказать, так я хотел только добавить, что за такие, довольно небольшие деньги ему приходится работать днем и ночью. Это не дело!
– Из империи в империю можно ездить так же, как из полиса в полис… Вы заметили, что своими разговорами перебили ритм моего рассказа?
– Что вы говорите! Айя-яй!
Итак, вокруг империи, а-в крайнем случае, полисы. Из империи
в империю можно ездить, как из полиса в полис. Разгуливают перипатетики; философы находят свое место в бочке; каждый молится кому хочет, а пророк, не найдя отклика в своем отечестве, уходит в другое. Никто никому не мешает, а если мешает, то его завоевывают, и он становится своим, тихим, спокойным, уравновешенным и уютным. Замечательно тихо, спокойно и, главное, упорядоченно.
– Вы меня извините, я вас перебью. Скажите, а хорошо ли это для евреев?
– Евреи…
– А евреи тогда были?
– Евреи были всегда.
– Ах, конечно. Так что же?.. Извините, я вас перебил.
Евреи не терпят покоя в мире и в городе. Им всегда было скучно, и они вечно пытались размахивать рукавами чужих одежд. Что, например, понесло их в этот город? А дядю, почтенного человека, посадили у ворот, а девушку сразу забрали в гарем. И вот она разлеглась на подушках у фонтана, ест халву и пьет вино, ансамбль евнухов исполняет «Половецкие пляски»…
– Извините, я вас опять перебью. По-моему, «Половецкие пляски» совсем из другой оперы, а не из «Бахчисарайского фонтана».
– Вы правы, это – не «Бахчисарайский фонтан».
– Вот видите! Меня не собьешь! Я знаю, что такое «Бахчисарайский фонтан». А почему вы этого не знаете? Как же вы, интеллигентный человек, не знаете, что «Половецкие пляски» не из «Бахчисарайского фонтана»?
– Я знаю, но…
– Как же вы знаете, когда сразу видно, что вы не знаете?
– Да знаю я!
– Ничего вы не знаете! Это ясно!.. Что вы там еще хотите рассказать?
– Я хочу рассказать, как она сидит у фонтана, ест халву и смотрит на пляски… Половецкие.
– Рассказывайте, но только без «Половецких плясок».
– Почему?
– Потому что вы плохо знаете музыку.
– Это не музыка, это пляски.
– Но из другой оперы.
– А из другой оперы нельзя?
– Конечно, нет! Вы что – из Черновиц?
– Да. А вы?
– Я из Кишинева. Понимаете разницу?
– Понимаю.
– А если понимаете, так не спорьте. У нас разный культурный уровень.
– Хорошо, не спорю… Можно мне рассказывать?
– Говорите, что там у вас?
А он сидит у ворот на солнышке, щелкает семечки, засоряя бороду, треплется со стариками, врет им что-то про дальние страны. Жарко. Хамсин. В стороне два воина сговариваются насчет революции, потому что царь давно не воюет, и вот теперь, видишь, взял себе новую бабу, и, выходит, опять сиди без денег. Воины, они воины и есть, каждый при своем месте и деле. Устроят революцию, поставят нового царя и повоюют немного. Но дяде обязательно нужно вмешаться в чужие дела. Ему не сидится у ворот и он затевает интригу. Дядя встает и идет стучать. «Ну погоди, жидовская морда!»… И опять ведь люди правы.
– Почему вы употребляете такие оскорбительные выражения?
У нас за такое морду били. Вы что – антисемит?
– Нет.
– Почему же вы употребляете такие выражения?
– Ну, как вам сказать?.. Они употребляются. От меня это не очень-то и зависит.
– Вы хотите сказать, что они идут из вашего нутра?
– Примерно так.
– Значит, вы все же антисемит. У вас антисемитское нутро.
– Совсем нет.
– И не уговаривайте меня. С этим все ясно. А скажите, почему у вас старик еврей изображается стукачом? Разве это для нас типично?
– Дело, видите ли, не в типичности. А в том, что старик может долго сидеть у ворот, семечек – слава Богу! – хватает, но он будет так сидеть и сидеть, а действие не двинется. То есть оно, конечно, двинется немножко, на один еще акт, революционно-террористический, и замрет, и цикл сократится.
– А еврею не нужно вмешиваться в гойские дела – вы это хотите сказать?
– Именно.
– Вот здесь вы правы. Незачем нам это. У них своя компания, а у нас своя.
Если один жид пошел стучать, значит, все жиды – стукачи. Воины, чуя беду, помчались, гремя доспехами, спотыкаясь о щиты и копья, к руководителю национально-освободительного движения. Руководитель испугался, но не показал страха перед рядовыми революционерами. «Что мне эти жиды!» – сказал он. Он сказал «мне», он не сказал: «нам». В те времена роль личности в истории еще не оспаривалась. Но сознательность масс уже пробуждалась, и воины, переглянувшись, решили не забыть про бонапартизм руководителя. «Что мне жиды! – сказал руководитель. – Они думают, что они – народ особенный? Если их баба спит с царем, так им все можно? Всюду они суются! Хотят искоренить коренное население – не выйдет!» Так сказал вождь, и тайный секретарь занес историческое изречение в седьмой том полного собрания сочинений вождя.
Далее нужно действовать, что, конечно, труднее, чем изрекать исторические изречения. Вы заметили, что революционеры только говорили: воины обсуждали свои планы, а вождь изрекал изречения? Никто до сих пор не действовал.
– Кроме дяди-еврея.
– Верно. Потрепавшись у ворот, он пошел стучать. А воины не побежали за ним, чтобы объясниться по-хорошему и попросить его не ябедничать.
Ай да мы!
– Мой совет жаждущему ассимиляции: не меняйте фамилию, не женитесь на гойках. Все зря. Вас выдаст нос. Проникните в суть ассимиляции: замените действие трепотней по поводу действия – всякий гой тотчас признает в вас своего, хорошего парня, хотя вы и еврей. Этническая группа «свой-парень-хоть-и-еврей» может рассчитывать на постепенное врастание в коренной народ, наподобие ордынцев, варягов, остзейцев, чувашей и мордвы.
Следуя своей гойской позерской сути, вождь стал изображать перед воинами провидца и раскинул карты, чтобы определить план сражения. Пиковая дама грустно усмехнулась, дама бубен подмигнула, а червонный король, соглашаясь, покивал головой. «Прекрасно! – сказал вождь. – Король ничего не подозревает, блондинка радуется, а пиковой брюнетке – конец! Мы совершим уничтожение ихней нации в порядке первого революционного акта. Возбудим ярость масс и жажду крови, а потом ярость и жажду обернем против… не скажу кого». Воины почувствовали правый уклон и соглашательство, но сказать ничего не сказали. «Я так думаю, что по закону полагается предупредить их за две недели». Воины опять переглянулись: в реввожде проглядывал бюрократ. Воины не хотели ждать, но и не возразили, прикинув, что за две недели можно будет присмотреть – где и что у этой нации спрятано.
– О! Начинается! Погром начинается! А вы говорите – стучать! И правильно! Какое нам дело до их революции! У вас получается, что было б лучше, если б Мордехай помог этому хулигану!
– Но стучать-то нехорошо!
– Что значит!.. Если вы знаете, что к соседу должен забраться вор, вы его не предупредите, соседа?
– Неподходящая аналогия!
– Оставьте! Все правильно!
– Вы видите этот зеленый картуз? Наденьте-ка!.. О! Да вы красавец!.. Сядьте к столу! Ну… Лампа на парчовой скатерти освещает ваш красный нос, зеленый ваш картуз и ваши честные, прямые глаза. Царь задумчиво водит пальцем по завиткам парчового узора, в глаза не глядит. Царь спрашивает: «Ты имеешь ко мне разговор, Мордехай?»… Что вы ему ответите?
– Имею до вас разговор, ваше величество, имею. Эти паршивцы, ваши солдаты, хотят вас убить. – И тут я расскажу все, что вы уже знаете. Царь наморщил узенький, в две-три пяди размером, лоб:
– Ладно, мы обдумаем этот вопрос. Ты молодец, Мордехай! Возьми же из царского буфета сладкий пирожок с полки пятой степени – в награду за верную службу.
И я отправлюсь на свой пост у городских ворот, причмокивая толстыми губами:
– Почему он не приказал сразу отрубить им головы? Почему сначала нужно потрепаться по этому поводу? Время не ждет! – так я думаю, Мордехай, а все уверены, что я наслаждаюсь царской наградой. Это называется реплика в сторону. И еще одна реплика в сторону: – Царь – трепач, народ – бездельник. Эдакую махину разве сдвинуть? Еврею ли, старому, сморкатому, шепелявому, картавому?..
Но штука в том, что еврею у ворот не сидится, ему скучно бездельничать, ему противна трепотня, отвратительно разгильдяйство: он нутром чует, что есть у него какое-то важное дело в истории, его собственный исторический гешефт, у него внутри крутится-работает моторчик, а потому не сидится ему у ворот, мало ему трепотни. И неужто достаточно ему за его неуемность наградного пирожка пятой степени?.. Не знаете вы еврея!
Вот сидит он у ворот и тщательно, медленно, красуясь перед публикой, разжевывает пирожок, сыплет слоеные крошки на бороду, чавкает, показывая, как ему вкусно и насколько наградной пирожок пятой степени вкуснее пирожков, испеченных в пекарне Фейги-Леи. Всем в округе известно, что для наград и поощрений пятой степени пирожки закупаются в этой самой пекарне, но все понимают, что, побывав в господском буфете, пирожок приобретает блеск, сладость и достоинство высокого отличия. Всякий понимает также, что не станет еврей просто так жевать пирожок от Фейги-Леи, а уж если всенародно жует, значит, есть в этом какой-то смысл, а именно – смысл царской награды.
Народу это неприятно, народу обидно, что еврею сладко. «Что еврею сладко, то коренному населению – кисло», – говорит народная мудрость. И человек из народа, простой крестьянин, а может, ремесленник, выходит вперед и, подбоченясь, говорит:
– А мы скоро вас, жидов, резать будем!
Так была выдана революционная тайна, и на невольном предателе (хотя можно его понять, он не сдержал горячего чувства возмущения еврейской наглостью!) был поставлен крест. Опять же, не трепись!
Я открыл рот, поперхнулся, проглотил остатки пирожка, прокашлялся и спросил:
– Или ты бандит?
Никто мне не ответил, толпа зрителей разбежалась, а труп с запиской «Смерть предателю!» ответить не сумел. Но труп и записка объяснили мне, что гоим, вопреки своей сущности, собираются действовать.
– Я так думаю, что нужно обратиться к последнему средству. А как вы думаете?
– Согласен с вами полностью. Причешите бороду, почистите картуз и обращайтесь. Войдите к ней, прикажите евнухам заткнуть фонтан, чтоб не шумел, и скажите.
– Фира, – говорю я ей. – Ты что себе думаешь, Фира? Ты думаешь себе, что ты теперь большая барыня? Ты ошибаешься, Фира! Женская красота не вечна, а мужчины полигамны. Возьми себя в руки, Фира, и отведи беду от своего народа. Это я тебе говорю.
– А что она?
– Она молчала. Я объяснил ей, что нельзя быть такой эгоисткой и нельзя думать только о себе, что любовь любовью, если ей угодно, а о главном забывать не следует. И что такое любовь, в конце концов, я не понимаю! Как это может быть, чтобы любовь помешала обеспечить старость близким и мир своему народу? Я, твой дядя и почти отец, я вынужден сидеть у ворот с грязными и дурно пахнущими гоями, а ты не думаешь обо мне, а думаешь только о своей любви и прочих женских штучках!
Она слушала внимательно, не отводя взгляда, не опуская головы, а из глаз ее лились слезы, жемчужные слезы раскаяния. Так глубоко проникли ей в душу мои слова, так убедительно и сильно я говорил. А она молчала. И я спросил:
– О чем ты себе думаешь, Фира?
И вправду, о чем она думала? Про молодость свою, в которой совсем не было счастья? Про слабого и беспомощного человека, который повелел ей стать его женой? Про то, что он оказался неожиданно нежным и ласковым, верным и влюбленным? Про то, что теперь, по желанию дяди, он должен перемениться и стать жестоким и властным царем, который прострет руку и уничтожит врагов ее народа? Слезы Эстер были слезами, которые льет женщина, разлучаясь с любимым; это были слезы горькой обиды, тихие слезы отчаяния без надежды.
Эти слезы были такими искренними и такими понятными, что весь амбар Златополера до самого верху наполнился слезами и всхлипываниями. Ах, кто, как не евреи, знает, что такое слезы расставания, тоскливые слезы отчаяния, которые проливаются внезапно, так, что не успеваешь их скрыть! Нам-то кажется, что живут евреи в тихом и затхлом местечке и крутятся вокруг своих мелких забот. Но уходит коробейник в обход по окружным деревням: как знать – не захочется ли пьяному пану пострелять и есть ли лучшая мишень, чем живой плачущий жид? А вдруг из околотка убежит арестант, и полиции понадобится для плановой цифры заезжий еврей? Либо хлоп, пропивший последнюю рубашку, захочет выместить злобу – на ком, как не на жиде, бредущем по проселку? А искатели лучшей доли, уезжающие в Америку, отбывающие в иной мир, далекий мир, где, может быть, и лучше, чем здесь. но где никто не бывал из живущих в местечке, а кто уже там, никогда не вернется?
И вот зрители плакали и судорожно вздыхали, а действие продолжалось, потому что если Мордехай начал действовать, то он не отступится, пока своего не добьется.
– Или я не Мордехай?!
Эстер поняла наконец, что по рукам и ногам она повязана родственными связями, родовыми отношениями, обязанностями перед народом и ответственностью титула «царицы-еврейки». Она сказала себе: «Счастья нет, и жизнь не удалась. Мне суждено погибнуть, и я погибну». Сердце ее дрожало, болели ручки-ножки; она сглотнула слезы и пошла к царю просить за свой народ. Деятельность и неуклонное стремление к цели выгодно отличали Мордехая от праздных, ленивых, созерцающих гоев.
Глава о читателе, о собачке и о научных исследованиях
Читатель догадался, что эти фокусы с «пуримшпиль» не более чем попытка Рагинского втиснуть Алика Гальперина в местечко. Сначала моего собеседника Мордехая, а потом уже Алика. С Мордехаем почти все ясно: еще полглавы – и он стал бы в местечке если не своим, то понятным. С Аликом хуже: он так и стоит на месте, размахивая японскими рукавами. Жителям местечка он только снится, мерещится. И пребывает он в таком призрачном состоянии, потому что, как уже сказано, Рагинский не знает, почему Алик Гальперин должен оказаться в местечке.
– Как же так? – спрашивает читатель. – Как же так, что он не знает? Почему Алик Гальперин должен оказаться в местечке? Кто же тогда знает?
В ответ я пожимаю плечами, а читатель неудовлетворенно фыркает. Мне наплевать на его фырканье, но читателя-то убедили, что он – главный арбитр в художественных спорах. Ведь если он не будет считать себя арбитром и не будет иметь возможности высказать свое, читательское мнение, он ведь читать не будет. Мне и на мнение его наплевать и не важно мне – станет он читать или нет, а важно – чтобы он купил книжку. Мне процесс важен: Рагинский пишет – читатель покупает. Читательское мнение интересно только в одном аспекте: когда он рассуждает, что лучше купить – «Записки счастливой шлюхи» или повесть Рагинского – так чтобы читательское мнение склонилось к покупке повести Рагинского. Всем сердцем своим он склоняется к «Запискам», но глубокомысленность пассажей Рагинского давит на комплекс его, читателя, интеллигентности. А нельзя более оскорбить читателя, чем подозрением в неинтеллигентности. Он может толком не знать, как правильно говорить – «ложить» или «ложить», быть постоянным подписчиком журнала «Здрасьте!», презирать всех, кто не согласен с его письмом в газету «Странейну» по поводу неприличных склонностей журнала «Цвей-унд-цванциг», но – он всегда был интеллигентом и интеллигентом останется! Отдадим же ему его интеллигентность!
Рагинский должен объяснить также и просвещенным критикам про свои попытки внедрить Алика в местечко. Но сначала поговорим о собачке.
Бежала, знаете ли, собачка. Остановилась у столба и подняла лапку. Постояла так и побежала дальше, нисколько больше о столбе не думая до тех пор, пока ей опять не понадобится поднять лапку у столба, или у дерева, или где-нибудь еще, где понадобится. А к столбу подошел ученый, он же критик, он же исследователь. Внимательно осмотрел столб, описал окрестности, исследовал количество вещества, обнаруженного у столба, измерил высоту поднятия собачьей лапы, подсчитал площадь разлития вещества, изучил его состав. Затем он вернулся домой, написал работу, в которой соотнес исследуемый факт со временем года, суток, с климатическими условиями, поставил проблему: на какую высоту следует подняться собачьей лапке, чтобы степень обрызгивания и широта охвата достигали необходимого уровня. На этом исследовании он составил свою научную карьеру и основал школу ИПСЛ (изучение подъема собачьей лапы). На него ссылались другие ученые, он читал курс по этой проблеме и зорко следил за остальными собаками, рекомендуя им поднимать лапку на оптимальный, научно обоснованный уровень. А собачка та давно умерла, так ничего и не подозревая о стараниях ученого, о его научной карьере, а если б ей сказали об этом, то она удивленно пожала бы плечами.
Тоже и Рагинский пожимает плечами. Не может он объяснить, что, когда он думает о бедном Алике, ему хочется увидеть Алика в местечке. У него такой позыв: поглядеть на местечкового Алика Гальперина.
И я не могу объяснить про поиски корней и связей, потому что получится публицистика, а публицистику я, как сказано, не терплю.
Глава об Амане
История с Аманом известно, как закончилась. Пиковая дама сказала:
– Эх ты, шлимазл!
– Старуха! – воскликнул Аман и потерял сознание.
– Не умеешь – не берись! – хохотала бубновая еврейка. Червонный король смотрел грозно.
– Он оторвался от масс! – сказал воин, прилаживая веревку.
– Был сторонником умеренных действий и соглашателем! – сказал другой, смазывая веревку мылом.
– И бюрократом! – заключил первый, махнув палачу, чтобы вел Амана.
С ушей Амана сняли мерку, чтобы потом делать пирожки.
Глава о способах разрешения конфликта
Долго и упорно сочиняя эту повесть, я старался представить происходящие в ней события правдоподобными, а героев – похожими на современников и соплеменников. «Пусть будет дуэль, – думал я, внутренне холодея, – пусть будет „Дуэль“, но где же я возьму повод для дуэли! Не вижу таких обстоятельств в нашей жизни, которые заставили бы вызвать на дуэль. Нет среди нас таких людей, которые понимали бы, что есть поступки, за которые можно вызвать на дуэль».
Мы к дуэлям не привыкли, не приучены мы разрешать конфликты дуэлью. Мы приучены разрешать конфликты способами, несколько более грубыми. Даже у А. П. дуэль выглядит смешновато, но там она оправдана удаленностью героев от нас во времени («а вдруг в те времена еще можно было так разрешать конфликты?») и наконец просто невозможностью для этих героев оставить оскорбление неотомщенным.
Ведь если человека оскорбили, он должен смыть оскорбление тотчас и наказать обидчика либо получить извинение от обидчика. потому что – иначе невозможно жить. И минуты невозможно жить оскорбленным. Ну, в крайнем случае, можно подождать сутки, лелея мысль о будущей мести, и наконец получить удовлетворение или умереть.
А как много нас ходит с побитой мордой в прямом или переносном смысле! Ходит и рассказывает друзьям про оскорбление, размазывая слезы обиды по лицу (нет, чтобы друзей пригласить в секунданты!), бежит в суд и в полицию или сообщает об оскорблении в печати. Но чаще молчит и глотает слезы обиды. А обидчик ищет способа еще раз дорваться до чужой морды и ходит героем.
Мне кажется, что век нынешний отличается от века минувшего также и способом разрешения конфликта. Да, мы подадим в суд и удовлетворимся некоторой денежной суммой вместо крови обидчика. Да, мы изобразим на побитой физиономии выражение «я-выше-ваших-оскорблений» и сделаем такое лицо, как будто ничего не случилось, хотя побитая морда говорит сама за себя. Мы просто-напросто забыли значение слов «смертельная обида». Понимаете – смертельная! Это значит: или мне не жить с такой обидой, или ему умереть! Нет, вы ничего не понимаете… Ничего.
Нас так часто обижали в жизни, мы так привыкли к обидам, что шкала нашего достоинства стала неизмеримо малой. Мы и это вынесем, и то перенесем – не такое переносили!.. А может быть, эта шкала стала неизмеримо большой и длинной?.. Вот то-то и оно… Что же мы за люди, если не в состоянии измерить свое достоинство?! А то, что – совершенно без достоинства. О какой же морали и нравственности можно тогда говорить?.. А ни о какой… Так застрелись хоть!.. Ну вот, буду я из-за всякого! Я – личность, целый мир, яркий и своеобразный, а он – кто?.. И так каждый раз.
Вы скажете, что я призываю к убийствам, что я требую отменить общественные нормы, что я проповедую закон джунглей, что я дикарь, бандит, мафиози. Знаете, что я вам скажу – а не задирайтесь! Я вам скажу – если вы не хотите унять свой язык, если вы не можете и не умеете жить так, чтобы не оскорблять ближнего – авось, страх перед пистолетом удержит вас от оскорблений. Не бегать же по судам, тем более что суд решает так называемые гражданские споры в течение трех лет. Так много накопилось в суде этих гражданских дел! Так что же, прикажете три года ходить с побитой мордой?!
– Кто же кого же побил? – спросите вы.
– А никто и никого! Никто никого не бил, никого не убивали. Крови не было. А вы, читатель, извините, остались в дураках! И жизнь продолжается, господа читатели!
Но читатели не хотят меня слушать и собираются под окнами моего дома, лезут в дверь, требуя дуэли.
Глава о дуэли
В Национальной библиотеке не нашлось дуэльного кодекса. Его там никогда и не было.
– Господа, знаете ли вы дуэльные правила? – спрашивал Рагинский у знакомых. Знали про барьер, про три шага через платок, про шесть шагов, про секундантов, и про пистолеты Лепажа, и про брошенную перчатку. И хотя кто-то перепутал бретера с брегетом, а кто-то некстати заговорил о трех картах, пришлось Рагинскому уступить требованиям читателей и ставить героев в позицию. Вот поди ж ты!
Здесь надлежит потолковать об относительности авторской свободы. Так давайте и потолкуем. Отчего бы и не потолковать!
Припомним несколько забытых терминов о мире, который создает художник и в котором художник – божество. О независимости художника от вкусов публики, а также и о ружье, которое – хочет или не хочет – обязательно должно выстрелить. И несколько цитат: «поэт и чернь», «глаголом жечь», «поэтом можешь ты не быть»… и что-нибудь еще?
Опершись на эти термины и цитаты, догадаемся, что больше, собственно, и говорить-то не о чем. Тему, можно сказать, обсудили. Теперь – к делу!
Рагинский хотел сначала выбрать для дуэли тихую поляну в горном лесу с острой, колкой травой и колючками. Пораздумав, он предпочел бульвар Бен-Маймон в субботу после полудня. Тише места не бывает. Сытный обед и древний обычай субботней сиесты предписывают покой и тишину. А если кто уехал к морю, так он уже уехал и еще не скоро вернется. Бульвар пустынен.
На множестве табличек вдоль бульвара обозначены доктора медицины. Так что, в случае чего – избави Бог!.. Предлагая этот довод читателю, Рагинский посмеивался, пожимал плечами и хихикал. А почему бы и не бульвар Бен-Маймон?
Гриша Хейфиц задумчиво курил, привалясь к теневой стороне табачного киоска. Цви Макор с отвращением смотрел на свои потные ладони. Рагинский мучительно придумывал повод, который позволил бы Алику Гальперину покинуть Верину квартиру и приехать в Иерусалим, но ничего не придумал и облегченно вздохнул, когда Алик появился в дальнем конце аллеи, со стороны цветочного магазина. Надя Розенблюм, размышлявшая на скамейке о том, что даже в субботу люди не дают ей покоя и заставляют объяснять себе, как и что следует делать, оживилась. Надя была приглашена быть секундантом, потому что она лучше всех знала дуэльный кодекс. Тоненьким, сдержанным голоском Надя приступила к разъяснениям:
– Отмерим барьер! – сказала она.
Алик сказал, что он удовлетворяет желание Рагинского, но стрелять ни в коем случае не будет. Макор промолчал. Надя и Гриша отмерили для барьера пять шагов, потом от барьера по пяти шагов и отметили места белой щебенкой.
– К барьеру! – сказала Надя, и они развели противников по местам. Алик был бледен и усмехался. Макор был бледен.
Легкий ветерок, прибежавший взглянуть на дуэль, неловко грохнул жестью на крыше сторожки возле заброшенного дома Голды и, застеснявшись, стих. Брехнула со сна левретка под креслом знатной дамы из немецкой профессорской семьи, испугалась сама себя и опять уснула. Тревожно скрипнул, рассыхаясь, пожилой, но еще очень красивый английский буфет в Ритиной квартире. Лениво и привычно палило солнце.
– Стоп! – сказала Надя, и коса ее распустилась. – Мы нарушаем кодекс. Дуэль состояться не может.
И Рагинский подумал, как все это ему к черту надоело, и вспомнил про свою прохладную квартиру и про то, как хорошо бы сейчас залезть под душ, потом выпить джину с тоником и грейпфрутовым соком, потом съесть котлету с салатом, выпить чашку кофе и лечь на диван с книжкой, потом бросить книжку и поспать так, что просто прелесть как.
– Что случилось? – спросил он Надю и вздохнул.
– У них разные пистолеты! – сказала Надя. – Это запрещается!
У них действительно были разные пистолеты: у Макора – «беретта», а у Алика – кольт, который Рагинский стащил на время у соседа.
– Тогда пойдем домой! – сказал Рагинский.
– Постой! – сказал Гриша. – А два кольта – годится? – спросил он Надю. Надя кивнула. – У меня вот есть кольт.
Алик и Макор снова встали на места.
– Минуточку! – сказала Надя и порылась в памяти. – Есть еще одна проблема.
– Надя! – сказал Рагинский. – Ты срываешь мне мероприятие!
– Но так нельзя! – сказала Надя. – Ты уверен, что дуэлянты стоят на ровном месте?
– А где же они стоят?
– Там, где стоит Алик, немного ниже, чем там, где стоит Макор.
– Ну и что? – спросил Рагинский.
– Первая статья третьей главы дуэльного кодекса требует безоговорочно ровного места, – сказала Надя, и Рагинский порадовался за себя, что не выбрал ту горную полянку в лесу.
– Сбегать за ватерпасом? – спросил Гриша. – У меня есть.
– Нужно перенести поединок в другое место.
– Ты с ума сошла! – сказал Рагинский. – Ты знаешь в Иерусалиме ровное место? Это тебе не долины ровныя! Это Иерусалим!
– Нет, зачем же, – сказала Надя, гордая своей способностью найти компромиссное решение. – Достаточно немного передвинуться.
– Вот сюда, в тень! – закричал Гриша.
– И не пятнадцать шагов, а двадцать пять, – объясняла Надя Рагинскому, пока они передвигались. – Пятнадцать шагов – это чистое убийство! Пятнадцать шагов допускается только при некоторых видах дуэли на пистолетах. Из шести видов дуэли дистанция в пятнадцать шагов применяется лишь к двум.








