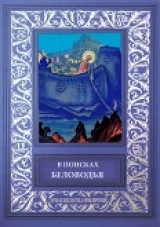
Текст книги "В поисках Беловодья (Приключенческий роман, повесть и рассказы)"
Автор книги: Вячеслав Шишков
Соавторы: Лев Гумилевский,Михаил Плотников,Г. Хохлов,Георгий Гребенщиков,Александр Новоселов,Алексей Белослюдов
Жанры:
Классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 32 страниц)
СВИДАНИЕ
Смятенная душа полна
Пророчеством великого виденья.
Жуковский
Девка не травка – не вырастет без славки.
Пословица
Весенние ночи теплы и ярки, но утра встают в тумане, и, точно потерявшись в нем, долго бродит рассвет по полям. Во влажном сумраке никто из станичных девушек, отгонявших коров, не обратил внимания, что одна из подруг не вернулась со всеми домой.
Никто не видел, как перед околицей она, отстав, свернула в сторону, сбежала с дороги и с той же поспешностью спустилась за гумна, к овражку с родником.
Желтый луч солнца, в тот миг прорвал наконец молочную пелену тумана, стлавшуюся по лощине, и упал на каменный горб ветхой часовенки, сторожившей родник. Вслед, за ним яркие стрелы света стали падать в туман огненным дождем. Иные разрывали облака, клубами ваты катавшиеся по земле; иные бессильно утопали в них и, – погибая, рассыпались миллионами радужных искр. Но одолевало солнечное воинство, рвался туман на клочки и уносился в высь, как осенняя паутина.
Девушка сбежала в овраг. Камешки посыпались из под ее ног дружным потоком в холодный ручеек.
– Эй, Кафтанников! Вот я! – крикнула она.
Казак сидел на деревянном срубе и глядел в прозрачную бездну ключевой воды. Поток камней, катившийся вниз, еще прежде окрика заставил его поднять голову, но в тот миг победоносное утро рассыпало по земле столько света, что он вынужден был зажмурить глаза.
Девушка, смеясь спустилась к нему и, не удержавшись на крутой тропинке, оперлась на его колени, чтобы не упасть через сруб.
– Ой, милый! – вздохнула она. – Ой, чуть не в воду!
Однако, лишь только оправилась она от ходьбы и встала, выпрямившись, возле парня, глаза ее заблистали гневом. Точно едкий туман пал росою на голубые зрачки и заставил сверкать их любовью и злом.
– Мне Катюшка ваша сказала, – задыхаясь, начала она ревнивую речь, – сказала, что ты решил все по-своему и хочешь, стало быть, повидаться в прощальный раз… Дескать, господь так тебе повелел! Ну, что же, прощай, коли так… Да не люблю я, прости, господи, мои прегрешения, не люблю я, когда вы, мужики, господа в свои скверные дела путаете!
Тит глядел на нее удивленно, но не хотел прервать ее раньше, чем сорвутся с губ ее самые острые слова.
– Что глаза на меня таращишь? – шумела она. – Не муж ведь, не испугаюсь! Да и мужа не побоюсь… Я на своих нагляделась: везде господом управляются. Отец товар продает – господом стращает, гнилье покупает – у господа помощи просит, а деньги считает – Дьявола тешит… Мать все утро в моленной кланяется, глаза от полу поднять не хочет, а дома батраков по щекам лупит; ни одного не разочли у нас без спору и обману… И все с господом, все с молитвой! К самому скверному делу господа припутают. Расчел ты, что тебе со мной лучше не якшаться – и ладно, так и скажи, а господа не поминай, не путай в свои дела! Тьфу! Говорить с тобой противно.
Она наконец замолчала, исчерпав короб припасенных к свиданию слов.
Тогда Тит улыбнулся и спросил:
– Кончила? Ну, так дай мне теперь рассказать, что случилось.
– Случилось? – переспросила она. – Или что случилось там у вас? Ничего Катюшка ваша не сказывала.
– Не у нас, а у меня случилось… – поправил он.
Девушка молча, но не отказываясь нисколько от права, своего на гнев, села возле Тита на дубовый сруб. В зеленой ветхости его, оплесканной ледяною водою, струилась успокаивающая радость. Девушка улыбнулась своему отражению, перекинувшемуся через край на воду, и напомнила парню о том, что ждет его объяснений.
Тит молчал. Он не знал, как начать рассказ, как свести в нем концы с концами, да и трудно было отделить нужное от пустого и вынуть из всего самое главное. Он оглянулся на девушку; ей и в голову не приходило ему помочь. Наоборот, издеваясь над его растерянностью, она крикнула:
– Ну, ты что же? Если что сказать, так говори, а нет, так прощай: того и гляди, сейчас наберется у нас в дому народ, меня хватятся…
И, опершись на сруб, она, привстала, точно намеревалась идти.
– Моленную нонче у нас сносить будут, – добавила она, видя его пустые глаза.
Тогда вдруг, точно ключ, из-под земли долго выбивавшийся незаметной струйкой, наконец размывшим преграду и ринувшийся наверх все побеждающим потоком, выбилась из казацкой души наружу самая главная мысль и потопила все остальное.
– Таня, – резко спросил Тит, – Таня, хочешь со мной уйти?
Она отодвинулась. Вопрос был как-то уж очень бестолков и неожидан. Тит на одно мгновение почудился ей сумасшедшим.
– Куда это? – строго спросила она, настораживаясь и плохо веря в вопрос, как в результат какого-то твердого решения. – Куда это, а? – несколько мягче повторила она.
– Ах, куда! – воскликнул он, наливаясь при одной мысли о бегстве удалью свободолюбивых предков своих. – Не все равно нам, куда? Куда! Да вот на восток, за киргизскую степь, в Беловодье! Есть же вольные белые земли на свете, где за веру не гонят, в остроги не сажают, моленных не печатают, не ломают, живут без запоров, все – братья.
– И господа к делу, не к делу не путают, – усмехаясь, перебила мечтательную речь парня рассудительная дочь казака-перекупщика… – Так, что ли?
Тита нельзя было смутить и более злой насмешкой.
Он широко раскрытыми глазами своими взглянул на Таню и спокойно повторил:
– Да, не путают! Это на нашей святой русской земле казаки в городах мнут конями девчонок, состреливают с дерев ребяток, как галок, по царскому приказу… А там вот войн не ведут, царя не знают, бумажек с печатями не ведают… Ах. Таня, да неужто же я за всю свою жизнь так счастья своего и не возьму. Нет, не может того быть, не может.
Таня улыбнулась. С этой невольной улыбкой, как с солнцем туман, сошла с лица ее серая тень гнева. Ее сражала мечтательная страсть казака.
– Разве такие земли есть? – спросила она.
– Ну да, есть же, есть! – стал уверять он, почти смеясь над наивным вопросом девушки. – Как же нет? Разве бы стал тебя звать я туда, если нет? Вчера живые люди к нам пришли прямым путем из тех самых Вольных земель. Слышала, чан?
– Ну да, слышала! – отвечала она, вспоминая, что, точно, много уж успела за утро услышать о странных прохожих, остановившихся переночевать у Кафтанникова.
– Так значит правда ведь!
– Ну и что ж, что правда?
Она посмотрела на парня так, как смотрят на человека, с которым сталкивает судьба, чтобы уж никогда не разлучать. Но она еще медлила с ответом. Тогда Тит спросил ее с горькой усмешкой:
– Ну, что же, Таня, или и сказать уж в ответ ничего не можешь? Или благословишь меня в полк осенью отправляться, девчат мять, ребят на деревах стрелять, как в Петербурге?.. А сама у отца за писаря выпросишься, а? Слышал ведь, знаю. Меня с тобой не повенчают, отец за голоштанника не отдаст… Да и не ждать же тебе, когда я вернусь из полка!.. Али подождешь, девушка? За сражения-то с саратовскими мужиками, слышь, Георгия раздают почем зря, вернусь с наградами. Может, тогда и отец твой уступит…
Она заглянула ему в лицо, посмотреть, не плачет ли он, отравленный ядом собственных своих слов. Синее небо тогда отразилось в ее голубых глазах, и они стали темными; в глубине их, как в колодце днем, сверкнули высокие звезды чужого неба. Он вздрогнул, схватил ее руки и жалобно сказал:
– Ах. Таня, Таня! Но так-то я о тебе думал!
– А что это ты слова вымолвить не дашь, – вскрикнула она, – и уж казнишь. А вот не угададал Тит пойду с тобой, куда хочешь. В степь, к киргизам, в юртах жить, да с милым…
– Пойдешь?
– Пойду, милый!
– Я клятвы с тебя не беру, Таня…
– А я и без клятвы не обману!
Он не понимал, каким теплом было опалено лицо его, и посмотрел на небо. Солнце круглое, как золотая пробоина в голубой цели, Стояло высоко. Над оврагом звякали ведра. Кому-то понадобилась уже ключевая вода.
Тит встал. Таня, схватив его руку, повела за собою овражком, вдоль бережка ручья, не смея подняться, пока там звякали ведра. И трудно было всерьез отнестись к ее словам. Тит положил на плечи ее руки и с жестокостью остановил девушку. Она. смеясь, запрокинула голову, чтобы взглянуть на него. Он почти крикнул:
– Вправду со мной? Вправду не обманешь?
– Вправду, вправду, вправду! – повторила она.
В словах ее могло быть постоянства не больше, чем в летнем дне. Он встает с намерением выжечь поля зноем, а к полудню разражается ливнем; потоков и луж как-будто не высушить и в неделю, ан смотришь – уже вечером снова пылят дороги и молит прохожий о дожде.
Тит вдруг покорился земному непостоянству. Не думая о полудне, забывши о вечере, он глянул в лицо розовому утру и поцеловал девушку.
Они притихли. Тогда вдруг стало заметно, что докучливые ведра не скрипят. Таня подняла голову. С края овражка, прикрываясь щитками корявых ладоней от солнца, разглядывала их какая-то женщина.
Коромысло покоилось у ней на плечах, ведра не шевелились. Увлеченная зрелищем, она стояла недвижно, как каменная баба на кургане.
Таня охнула и побежала вперед. Тит поспешил за нею. Они быстро скрылись за желтыми скалами глинистых круч, меж которыми с величайшей прихотливостью извивался ручей. Сзади послышался неохотливый железный вой ведер. Водоноска не показывалась больше. Таня вздохнула.
– Ну вот, будет беда!
– Видела она?
– Еще бы!
– Может, не узнала?
– Пожалуй что…
Таня улыбнулась, но, уже чувствуя надвигающийся изнутри ужас ожидания, сказала:
– Да ладно!
– Расскажет?
– А то нет.
– Боишься отца?
Девушка выпрямилась и подняла голову. Такою вот, немножко лукавой, немножко задорной и не по обычному озорной, и нравилась она Титу. Бог весть в кого она выдалась, но не было ей равной среди казачек и в хороводе, и у колодца, и на кухне, и на празднике, когда верхом на калмыцком жеребце, состязаясь в скачках, забивала она всех девок и домогалась равняться с парнями.
– Боюсь? – усмехаясь, переспросила она. – Ой. нет! Меня отец своими делами бога научил не бояться, не то что его! Вот себя самой немножко побаиваюсь. Я не российская, я над собой измываться-то еще, может, и не дозволю! Я намедни отцу наказала, как он к волосам моим руки протянул, что коль хоть раз он меня еще тронет, так не видать ему меня больше в косах! Отрежу! Истинный бог, отрежу, чтобы в другой-то случай не за что было ему меня схватить…
Она рассмеялась. Тит поверил.
– Ой, Таня! – тихонько пожалел он. Гляди…
– Она взяла его за руки и потянула к себе.
– Вот только ты… – прошептала она. – Только ты, может, бескосую меня разлюбишь, а?
Трудно было понять, спрашивала она смеясь или со страхом. Тит ответил сурово:
– Я не за косы тебя полюбил…
– За что ж?
Он подумал, потом сказал неловко:
– Не знаю. Да, может, за то как-раз, что наоборот…
Но она поняла его, кажется, лучше даже, чем если бы стал он длинно и понятно перечислять ей все по порядку.
– Значит не разлюбишь, – твердо заключила она. – Тебе нельзя меня разлюбить, если так. Ты меня любишь, самую меня, а не сверху, что на мне… Хорошо ты сказал, не забуду. Ну, прощай…
Она с некоторой даже как-будто бы грубостью торопливо отошла от него и с быстротою кошки взобралась на кручу. С краю ее она оглянулась вниз и напомнила довольно безучастно:
– А моленную-то, моленную-то как сносить будут, приходи глядеть!
Тотчас же она скрылась. Тит подождал еще минуту, не покажется ли ее желтый, как цветы одуванчиков в поле, платок над кручею, затем пошел вниз по ручью вязкой глинистой дорожкой.
Он вышел к поемным лугам, раскинувшимся между Уралом и его старицами. Русло непостоянной реки когда-то шло под самой станицей. Росистые тропы вывели парня к южной околице; отсюда был виден весь в деревянных кружевах и прошивках новый перекупщиков дом. Суетливые люди, как тараканы сладкий кусок, окружали дом, пристройки, баню и сад, гуще всего сад, где в зарослях вишенья стояла запечатанная часовенка религиозного прасола.
– К Тележниковым? – спросил кто-то сзади Тита.
– К ним, – отвечал он, не оглядываясь.
– Сейчас ломать будут. За пожарными послали! – пояснил любезный человек.
Тит не оглянулся, чтобы не поощрять болтовни и кощунственного любопытства, но пошел быстрее, чтобы застать все в начале. Он сам не любопытствовал, он шел укрепиться в решении.
Пожарные были уже на месте. Вооруженные баграми и топорами, они неловко толкались возле станичного писаря и старались не попадаться на глаза казакам. Ребята сзади свистели и дразнили их, подуськивая как собак. Они старались не слышать, но как можно было не слышать в этой проклятой тишине, когда все кругом замерло, как поле перед грозою?
Усатый писарь прочел бумажонку. В ней значилось, что по указу его величества Уральская духовная консистория слушала и постановила предложить на исполнение местных властей незаконно построенную часовню моленную в саду казака Тележникова снести, о чем по пополнении донести. Незадачливый жених, подкручивая усы, прочел все это с бойкостью и торжеством, нагло доглядывая кругом. Он высматривал хозяина, но самого Тележникова не было. Он заперся на погребице, чтобы скрыть от людей душевный раздор.

Сопя и кряхтя, передумывал он в сотый раз, на что решиться: дать ли трехсотенную взятку станичному управлению, чтобы положили под сукно приказ, или передать моленную на кощунственный разгром, а через неделю собрать за несколько десятков рублей ее заново?
Как ни был страшен позор и грех, явная выгодность второго решения прельщала старика. Несколько минут все же, пока читался приказ, держась за крючок двери, колебался еще отец Тани. Но когда раздалась команда: «Ребята, за дело! Снести!» – он рванул с крючка дверь и вышел, продираясь через толпу вперед с твердым решением.
– Ломайте, – сказал он, – мы царскому указу не противники, а господу ведомо…
В мертвой тишине слова эти были всем слышны. Кое-кто начал роптать на начальство, некоторые попеняли старику за отступничество. Были и такие, кто заявил надежду на господа, который может еще и отстоять моленную, иссушив руки посягнувших на его святыню. Но так как случаи сноса моленных были нередки, а чудесных иссушений не было ни разу, то заявление это никем не было принято во внимание. Пожарные бесстрашно взобрались на крышу и начали рвать баграми доски; писарь достал трубку и стал дымить табаком, явно опоганивая сад.
Старушки шептали бесплодные молитвы, казаки же стояли молча, и ничто – ни светлое утро, ни, розня ребят, ни причитывания баб, ни шлепнувшийся на крутой крыше пожарный, – ничто не могло даже на миг согнать с их лиц угрюмую думу. Под суровыми бровями не потухали огни покоренной злобы; проеденные нуждой и заботою морщины сдвигались круче и круче. Молчание становилось все более и более загадочным.
Конечно, не один молодой Кафтанников думал в этот час о белых землях и странствованиях в поисках прекрасной страны. Но едва ли нашелся в толпе хотя бы один казак, сердце которого билось бы в такой жестокой готовности бежать навстречу счастью.
Глава четвертаяДЖЕТАК УЙБА
Но он к заботам жизни бедной
Привыкнуть никогда не мог.
Пушкин
– Все ли благополучно?
– Все слава богу, только ворон ваш падали объелся!
– Да где он ее нашел?
– А жеребец пал!
– Как пал?
– А так, как дом горел, так воду на нем возили и загнали!
– Отчего же пожар делался?
– Да как матушку хоронили, так невзначай подожгли!
Прибаутка
Днем в поле, на свежей пашне в тени полосатого полога, привиделся молодому казаку дивный край, где вспаханные поля белы как рыхлый снег, реки стеклянны насквозь, деревья все плодоносны, а люди веселы и добры, как школьники в большую перемену.
Он встрепенулся. То был короткий, поражающий усталого человека, как беспамятство, глубокий и неожиданный сон. Он освежил истомленные мускулы. Тит, приподнявшись на локте, оглянулся: спал он не больше минуты. Старый Уйба не успел еще выпить свою кружку. Котелок по-прежнему клокотал над углями, распространяя терпкий запах кирпичного чая. Киргиз наслаждался запахом и кипятком. Он глотал огненную жидкость с ловкостью фокусника, нисколько не обжигаясь. Такой же горячий, как чай, и такой же коричневый пот сползал по его щекам, и трудно было сказать, что больше доставляло ему удовольствия: чай, зной или отдых. Во всем было упоительное наслаждение жизнью.
Несколько секунд Тит с завистью разглядывал батрака, затем крикнул:
– Уйба! Налей мне.
Киргиз неторопливо наполнил вторую кружку и отнес ее под полог молодому хозяину.
– Пей, – сказал он, – чай – хорошо. Он прогоняет зной и усталость, – добавил он по-киргизски.
– Я уснул, Уйба…
– Он прогонит сон.
Уйба предпочитал говорить на своем родном языке, и Тит перешел на него же. Как всякий киргиз, Уйба был склонен украшать свою речь афоризмами. Они являлись солью долгого спокойного жизненного опыта и нравились слушателям. Но они никогда не давались киргизу по-русски, и тот, кто хотел знать настоящего Уйбу, должен был понимать его наречие.
Тит спросил:
– Много ли нам осталось, Уйба?
Уйба оглядел черное только что поднятое ленивыми сохами поле и засмеялся. Казацкая душа никогда не была благосклонна к тяжелому земледельческому труду – он за долгую батрацкую жизнь свою имел много случаев убедиться в этом. Молодой хозяин вырос на его глазах, и он не мог не пожалеть его.
– Немного, – отвечал он. – Ступай домой, если хочешь. Я справлюсь один.
Тит отказался.
– Нет, кончим вместе. Дай отдохнуть.
Он перевернулся на Спину, дожидаясь, когда остынет чай. Уйба отправился наливать себе новую кружку.
– О, тогда нынче кончим, – сказал он. – отдыхай.
Он сел на корточки близ костра и снова углубился в глотание кипятка. Иногда он подбрасывал в рот мелкие кусочки сахару, лежавшие перед ним в расшитом кисете. Уйба был истым представителем своего племени: он не пил водки, не курил табаку, но раскаленным чаем упивался до дикой тяжести в животе.
И он смотрел с легким презрением на юношу, ждавшего, когда сойдет с напитка его огненная прелесть.
– Русские не умеют пить чай, – сказал он, выплескивая последние капли в рот и дожевывая сахар, – а он горячее водки, которую они любят.
Тит лениво оглянулся. Мысли его все еще сплетались со сном. Он спросил:
– Уйба, знаешь ли ты степи? Бывал ли ты на Бухарской стороне?
Киргиз усмехнулся и встал, точно для того, чтобы отряхнуть с себя брызги павшего на него оскорбления.
– Что ж ты думаешь, люди родятся джетаками[5]5
Джетак – по-киргизски буквально значит лежачий, т. е. не имеющий лошади, нищий, бедняк. Так называют киргизы обедневших соплеменников, вынужденных батрачить у более богатых сородичей.
[Закрыть]? – воскликнул он с горечью. – Уйба никогда не был ничем иным? О, нет! Уйба гонял свои стада от Мугоджар до Барабы! Уйба считал до пятисот голов в одних табунах, а баранам он не знал счету! Уйба был первым в своем роде. Уйбе ли не знать степей?
Он рассмеялся, и Тит с удивлением глядел на батрака. Он не видывал Уйбы таким еще никогда, может быть, потому, что не приходилось ему спрашивать у него о прошлом, может быть, потому, что Уйба не считал еще нужным держаться с казачонком как с взрослым.
Тит приподнялся на локтях и промолвил:
– Вот как! Ты был богат, Уйба?
У него не было повода подозревать батрака в хвастовстве, но и для того, чтобы верить в неприкрашенную правдивость его слов, нужно было собраться с духом.
Казаки не считают киргизов равными; батраки же в их семьях рассматриваются почти как рабы. Немудрено, если Титу понадобилось время, чтобы усвоить себе новый взгляд на работника, служившего ему безропотно с тех пор, как он помнил себя.
– Ты был богат, Уйба? – повторил он дважды.
Уйба вздохнул и, отвернувшись, долго стоял так, задумчиво глядя в синие океаны степей, лежавшие за Уралом. Только когда в третий раз задумчиво повторил свой вопрос молодой хозяин, он присел возле него на корточки и ответил;
– О, да, я был богат, Тит! Последний коян[6]6
Время исчисляется киргизами, как у древних монголов, периодами в двенадцать лет каждый. Год начинается с марта. В месяце – 28 дней. Каждый год имеет свое название по имени животного. Первый год – ташкан (мышь), второй год – свир (корова), третий – барс (тигр), четвертый – коян (заяц) и т. д. Киргизами подмечено, что годы джута, т. е. гололедицы, вследствие которой начинается падеж скота от голода, совпадают с их кояном (годом зайца), т. е. периодически повторяются через двенадцать лет. Эта периодичность в свою очередь совпадает с периодами солнечных пятен, как известно, в сильнейшей степени влияющих на перемену температур на земле и меняющих иногда очень резко привычные климатические условия данной местности.
[Закрыть] наслал в степи джут[7]7
Джут в течение нескольких дней может превратить любого киргизского богача в нищего. Гололедица, охватывая зимние пастбища, делает их недоступными для скота. Животные не в состоянии пробить толстый слой ледяной коры, чтобы добыть пищу, и стада гибнут. О размерах таких джутов можно судить, например, по джуту в 1880 году, когда в одной только Тургайской области пало свыше полутора миллиона голов скота.
[Закрыть], какого никто не помнил. В одну неделю я потерял все, что у меня было… И я не один стал джетаком после этого джута… Знаешь ты, что такое джут в степи?
– Знаю, – ответил Тит и с жалостью взглянул на киргиза. Вдруг веселая и страшная мысль мелькнула у него. Он пододвинулся к батраку и, положив теплую руку свою на его колено, прошептал: – Ах, Уйба! Никто не уйдет от судьбы. Ни ты, ни я. Кто знает, что еще ждет тебя впереди. Скажи, ты хорошо знаешь степь?
– Ах, Уйба! Никто не уйдет от судьбы. Ни ты, ни я. Кто знает, что еще ждет тебя впереди. Скажи, ты хорошо знаешь степь?
– Не хуже, чем ты ладонь своей руки!
– Так ты должен знать, что будет за степью, если идти на восток?
– Горы, – отвечал Уйба.
– Горы, – вскричал, обезумев от радости, юноша, – да, горы, и там в горах Страна, где живут русские? Знаешь ты об этом?
– Я бывал там, – спокойно сказал Уйба, – как же мне не знать?
– Ты был там? – воскликнул Тит, не веря ни себе, ни своему собеседнику. – Ты был там? Почему же ты не говорил мне никогда об этом?
Уйба усмехнулся.
– Джетак говорит тогда, когда его спрашивают, – скромно напомнил он.
– И ты ушел оттуда?
– Нельзя пасти скот на одном месте!
– О! – почти простонал Тит, торопливо крестясь. – Теперь я вижу, ты ведешь меня, господи!
Он был взволнован. Уйба следил за юношей, не понимая, что может так сильно его волновать. Тит со странной поспешностью начал расспрашивать. Он отвечал нисколько не с большей живостью, чем обычно.
– Как называется этот край? – спрашивал Тит.
– Не знаю.
– Беловодье?
– Может быть. Горы его покрыты снегом и зимою и летом. Отчего же не называть его белым?
– Мне сказали, что не всякому удается найти среди гор проход в этот край.
– Я проходил через него в долину!
– Но он закрыт облаками…
– Я ждал, когда солнце рассеет их!
– О, господи! Говори же, кто там живет?
– Я думаю, такие же русские, как ты. Они так же говорят, так же молятся, и бороды их не короче, чем у ваших стариков.
– И там нет чиновников, полицейских и всяких других начальников?
– Я не видел там никого с ясными пуговицами. Они сами выбирают старших и никому не платят ясака.
– Уйба, так ведь это же оно, Беловодье!
Тит вздохнул и закаменел, созерцая своего собеседника, как чудо, поднявшееся из вспаханного поля.
И подумать только, что перед ним находился собственный их, Кафтанниковых, батрак, которого изо дня в день все они, тоскливые мечтатели по иной жизни, видели перед собою?
Уйба в свою очередь с изумлением рассматривал хозяина и улыбался тому, что мог своими словами привести его в столь необычайное оживление.
– Зачем ты спрашивал меня о белой стране? – осведомился он наконец сам. – Не хочешь ли ты взглянуть, как бывают горы? Может быть, там есть родные, которых вздумал ты навестить?
– А ты проводил бы меня? – опросил вдруг хозяин, серьезно и пристально глядя в глаза киргиза.
– Я сделал бы это, – отвечал Уйба. – Лучше умереть в степи, чем здесь.
Тит залпом выпил кружку чаю, но не нашел в нем холода, могшего остудить жар в груди.
– Хорошо, Уйба, хорошо! – пробормотал он. Теперь пойдем кончать наше поле, я отдохнул…
Он резко окликнул пасшихся на меже коней. Киргизские мохнатые лошадки с собачьим проворством вернулись на зов хозяина.
– Ты еще не сказал, зачем идти тебе в белый край? – напомнил ему Уйба.
– Зачем? – переспросил Тит, ласково поглаживая понурую голову тершейся о плечо его лошади и, точно, ей одной рассказывая о задушевной своей мечте, признался: – Да всего затем только, чтобы жить по-своему никто не мешал… Молиться…
– Молиться? – с усмешкой переспросит старый киргиз и покачал головою, переводя укоризненный взор свой от выгнутых серпами ног юноши на косматого коня. – Молиться? Нет, – сказал он резко. – нет, тебе бы не молиться, казак, а скакать в степи за диким зверем с беркутом на плече или с арканом в руке за табунами…
Тит с удивлением поднял глаза на киргиза. В узких глазках его сверкало пламя неосторожно разбуженных чувств. Оно было замечено Уйбой, и он продолжал гневно:
– Не тебе бы бежать из родной страны оттого, что в ней худо жить, не тебе, нет! Такому, как ты, надо бы стать Наурзабаем всех русских. Знаешь ты Наурзабая? – воскликнул он и, не давая времени отвечать, продолжал, увлекаемый все более и более горячностью собственной речи. – Был Наурзабай наш внуком хана Кенес-сары-Касимов, но еще храбрее деда уродился внук. Он собрал тысячу тысяч наездников и сказал: «Иди под мое знамя, народ мой, и будем свободны!» И стал он господином степи от Оренбурга до Каракаллов, от Петропавловска до Кара-Кумов, и не знал тогда русских начальников наш народ, не платил он ясака никому. Слышишь, Тит, не дается даром хорошая жизнь, за нее драться нужно!
Тит молча ввел лошадь в соху. Много он слышал киргизских песен и сказок о славном внуке хана Кенес-сары-Касимов, затмившем славой своего знаменитого деда, но никогда не пленяли его кровавые подвиги хана. Смерть от руки сородичей рано прервала жизнь Наурзабая, и в героизме его что могло пленить религиозного казака? Он, усмехаясь, ответил киргизу:
– Уйба, не дракой дается счастье…
– Чем же?
– Трудом, честной жизнью! На крови добро не вырастет, дьявол мира не установит.
Уйба отвернулся.
– Когда я не был джетаком, – сказал он, – я думал, как ты. Наш народ не любит войн, ему милее пасти стада и вечером скакать за новостями к соседу, пить кумыс, лакомиться каурдаком… А что получили ваши русские джетаки, когда пошли просить милости к царю? Ты читал нам письмо твоего брата. Что он писал? Или он лгал, когда рассказывал, что рубил своих братьев, на которых не знали вины?.. Помогла молитва джетакам?
– Так ты думаешь, что поможет царю наша сабля? – задумчиво пробормотал Тит. – Вырастет на крови его счастье?
– Не знаю!
– А я знаю, Уйба, – твердо вдруг вымолвил Тит, – силен дьявол в людях, велико зло, а не через них придет царствие божие на; землю!
Джетак не мог более спорить с упрямым хозяином. Милее судьбы юноши все же была ему его собственная судьба. Она же зависела теперь от хозяина. Он сказал: «Пусть так, хозяин!» – и пошел с сохою вперед, затянув бесконечную песню про славную Тургайскую степь и лихих наездников Наурзабая.








