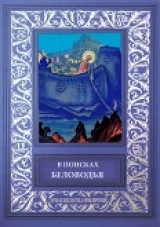
Текст книги "В поисках Беловодья (Приключенческий роман, повесть и рассказы)"
Автор книги: Вячеслав Шишков
Соавторы: Лев Гумилевский,Михаил Плотников,Г. Хохлов,Георгий Гребенщиков,Александр Новоселов,Алексей Белослюдов
Жанры:
Классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 32 страниц)
Хрисанф, щурясь, подставляет руку козырьком и смотрит на дальний лужок. Там, подле черной ели, виднеются две лошади. Он бессознательно натягивает повод.
– Погляди-ка, Панфил.
И не успел Панфил оглянуться, как жеребец, насторожившись, заржал звонко и радостно, сильно подбирая брюхо.
– Кого это закинуло?.. Не Афанасий ли с маральников тянется?
– Афанасию зачем? – протестовал Хрисанф, – никак не по пути.
Забота перекинулась другим, и все, приподнимаясь ни стременах, смотрят вдаль.
Иван ерзает в седле, оправляется и попусту кричит на соловка.
Нехорошая встреча. Свои все дома, значит, заехал чужой. Но после коротких размышлений, снова прибавили шагу. Вот под деревом и человек виднеется.
– Баба! – не то удивленно, не то торжествующе кричит Назар. – Правильно! Баба!
– А лошади Евсеевы, – добавляет Хрисанф.
Все забыли усталость. Ожидание встречи было жутко и радостно. Ведь совсем ушли от людей и от мира. Ночь за ними бросила тяжелую завесу, навсегда отрезала, и вдруг– живой человек, кто бы он ни был.
Когда спустились в ложбину и от елей остались только стройные вершины, любопытство сделалось мучительным. Наконец, поднялись. Задорно и приветливо заржали лошади.
– Акулина! – вырвалось у всех.
Она лениво поднялась с разложенных сумин. Стоит, потупясь, неуклюжая, толстая, в широком зипуне, крепко стянутом мужицкой опояской. Сбоку в ножнах длинный нож. На голове глухой повязкой шаль.
Обступили ее. Бабы лезут вперед.
– Господи Исусе! – шепчет Василиса и сейчас же испуганно спрашивает:
– Ты откуда, девка? А?
Молчание.
– Гляди, гляди! Две лошади! Сумины! – насмешливо тыкает плетью Хрисанф, не замечая Акулины. Он уже понял, в чем дело. – Совсем беловодкой обрядилась. Верно, Евсей за себя посылает.
Но он быстро меняет тон и, слегка наклонясь в седле, говорит повелительно:
– Укладывайся-ка, деваха! Вот что!.. Завьючить поможем… Укладывайся, да качай до деревни. К вечеру подъедешь. Не моги у нас. Без тебя запутаемся…
– Да ты того, постой… – нерешительно перебивает Панфил, – может, ей чего-нибудь… Кто ее знает…
Акулина поднимает кулаки к лицу и голосит:
– Дя-яденька-а Хрисанф!.. Пойд-ду… Ей-богу, ну, пойду-у.
– Ккуды-ы ты пойдешь? – орет Хрисанф. Он хочет сказать что-то еще, но плюется и кричит:
– Ходу, ходу! Пошли!
Сам круто поворачивает лошадь на тропинку.
Но Назар протестует:
– Девку бросить, што ли? Как она? Одна-то… Ты пошто, Акуляша… убегла?
Голос у него добрый, отеческий, и Акулина не выдерживает. Она громко всхлипывает и, опять обращаясь к Хрисанфу, взывает:
– Дяденька Хрисанф!
Знает, что вся сила в нем.
А он:
– Хрисанф! Хрисанф! Кого я тебе?
Молча оглядывает ее и презрительно смеется:
– Са-аплюха!
Как под струей холодной воды, Акулина вздрагивает, отнимает руки и, ни на кого не взглянувши, садится на сумины лицом к дереву.
Панфил качает головой и ласково ворчит что-то под нос. Асон хмуро смотрит под ель и, тяжело дыша, собирается сказать свое громкое слово. Но Ванюшка разбил нерешительность. Все сидел в седле, как на иголках, краснел и уклонялся от проницательного взгляда отца, а когда заметил, что мать неодобрительно поджала губы и вот-вот метнет Акулине обиду, вскочил с седла и, сильно хромая на затекших в дороге ногах, весь красный, какой-то не свой, подошел к Акулине, поймал ее за руку и потащил повелительно к отцовской лошади. Девка ошалела, смотрит и не знает куда. Иван не видит никого. Перехватило горло. Пал на колени, увлекая Акулину, дуется, хочет громко сказать, а голосу нет, как во сне, когда гонятся волки или медведь наседает. Наконец, сказалось.
– Тятенька!.. Мамонька!.. Благословите!
Акулина смутилась, потеряла с лица и мольбу, и угрюмость, смотрит в сторону, будто ищет, куда скрыться. Иван что-то лепечет, но никто не слышит его слов. Все это кажется таким несуразным, неожиданным. Хрисанф, не скрывая любопытства, подвигает лошадь и, лихо подбочениваясь, как-то особенно лукаво смотрит Назару в глаза. Тот поперхнулся, поглядел на всех и, мгновенно входя в роль, застрожился:
– Ты мне сын али нет? А? Сын ты мне али нет? – И, воображая, должно быть, отрицательный ответ, еще больше повысил голос – Ты этого… того! Не могешь! Вот што, приятель!
Дальше он не знал, что сказать, да и не хотелось говорить. Он давно все видел и давно мечтал ввести в дом Акулину, породниться с Евсеем наперекор Гундосому, но все это представлялось необыденно-праздничным, «как у всех», с двухнедельной гулянкой, шумом, суетой и, главное, дома, а тут выходит вон что… Боролись два чувства. Но вспомнивши, что на него, на отца, теперь все смотрят, опять закуражился.
– Поперек еще лежишь!.. Можно разговаривать… Посмотрим! – взвизгивает он, болтая рукой.
Акулина вырвалась и убежала к дереву, уткнулась головой в сумины, словно прячась от великого позора.
– Посмотрим, как ты это без отцовского-то без благословения управишься..
И не понял Иван отцовского сердца. Вскочил, затрясся, чуть не взвыл.
– Я тебе собака? – закричал он в морду Назаровой лошади. – Собачью жизнь мне хочешь?.. Я… Я… Сам-то жил?.. Домом, хозяйством… Моего там поту немало. Куда меня погнал? Хочу тоже, хочу домом жить!
– Иван! – резко крикнул Асон, ударяя лошадь каблуком, да так, что она заплясала: – И-иван!
Ванюшка съежился, затих на полуслове. Он уже не верил себе, что мог так сказать. Кому! Отцу!
Дарья затянула было голосянку, что-то наговаривая нехорошее, обидчивое, но Назар прикрикнул:
– А уймись ты!.. Испрожабь вас в душу, в горло!
Он уже и в самом деле обозлился. Зачем-то соскочил с коня и, сильно покачнувшись на отсиженных ногах, еще больше вскипел:
– Куда от вас от окаянных?.. Забежаться бы в лес!
– Брось, Назар, не шуми, – мягко вступился Панфил. – Кого тут? Оно, конешно, дело твое, сказать, истинное, ну да кого там… – неловко заикнулся и обратился уже ко всем: – Расседлаться бы?.. Стан тут богатеющий.
– Надо расседлаться, – радостно откликнулся Анисим.
Хрисанф благодушно покрутил головой и, грузно падая с седла, захохотал:
– На свадьбишку, значит, наклюнули… То-то, смотрю я, у Назара будто жбанчики с кваском в суминах хлюпают. Мужик запасливый.
И этого было достаточно, чтобы скрасить неприятность, заговорить свободно, громко, как будто ничего и не случилось.
IX
В суете событие померкло, к нему сразу привыкли и лишь украдкой взглядывали на Акулину, а она из кожи лезла, чтобы угодить. С упорством, тяжелым молчанием, брала она котелки, спускалась по камням к речушке, черпала студеную воду и расставляла посудины перед костром, у которого хозяйничал Хрисанф.
Народ разбрелся по кустам, прибирая поклажу. Только Бергал в стороне. Он обходит лошадей, осматривает спины, поднимает ловкими руками передние ноги и шатает подковы – нет ли ослабевших. За лошадь он умрет: у него, кроме лошади, нет ни друзей, ни товарищей. Ему все равно – своя она или чужая. Но попроси доглядеть – оборвет на слове, фыркнет и уже не прикоснется: не для тебя, мол, делаю. У него с собой и инструмент.
Обошел всех, погладил, каждой что-то тихо-тихо сказал на ухо. У Анисимова воронка одна подкова надломилась. Долго щупал ее и ворчал, потом нашел Анисима и буркнул сердито:
– Подкову-то, што ли, достань.
– Аль изломалась?
– Ну.
– Вот беда, скажи!.. Сейчас я… – Он долго копался в суме, пересыпая там запасное железо, и все говорил виноватым, извиняющимся голосом, а Бергал уже обхаживал Акулинину пару.
Бабы у костра месили саламату – в кипящие котелки засыпали мелко истолченных сухарей и заправляли маслом.
Ванюшка успел уже слазать на утесик за речкой, притащил в поле и шапке груду черных, шумящих листьев бадана, чтобы сварить чаю. Хрисанф одобрительно крякнул. Когда Иван наклонился к костру, он, щурясь от дыма, не то серьезно, не то шутя кивнул на Акулину и вполголоса заметил:
– А девка ладная, мотри. Не пропадет… Зря я облаил ее…
Панфил ходит и присматривается. Давит его нехорошее молчание. Надо что-то сделать, чтобы снова все заговорили, отворили душу, будь там хоть одно худое – все равно… Не будет так добра, пока не скажут…
Когда снятые с пылу котелки задымили вкусным запахом в тени у ели, Панфил, умывшись над ключом, без шапки, подошел к стройной молоденькой пихточке и в десятый раз оправил складень, укрепленный на серебряном стволе. Потом попятился и, постоявши перед образом со сложенными на груди руками, закрестился часто-часто, кланяясь в пояс. За ним стояли все, тоже кланяясь и наговаривая шепотом знакомые с детства слова.
Сотворивши молитву, Панфил повернулся к народу, провел рукой по жидкой бороде и огляделся.
– Акулинушка! – кротко позвал он, всматриваясь через куст. – Ты пошто же не подходишь?
– Брось там шариться, поди сюда! – уже решительней крикнул Асон.
Акулина, потупляя глаза, стала сзади, с Бергалом. Иван, задержавшийся у потников, видя общие взгляды, поспешил подойти.
Панфил оглядел всех спокойно.
– Вот, братие, пошли мы… Сущие далече мы путешествующие, как в святом писании… Да… С помощью божьей пошли, со угодниками со святыми… С миром надо. Теперь нам никто и ништо. Не жди себе помощи. Земля, да небо, да ты. Ближе надо один к другому. В согласии дело-то спорится… Сегодня вот неладно вышло. На душу греха прибавили. А сердце-то, оно уже и того, закаменело. Нету в нем правды, нету спокою. Змеей шипучей извивает… Нет… С согласья надо, братие, надо сообча. Ежли не по ндраву тебе что, не хоронись, а говори перед всеми. Ежли миром положили, повинуйся, не ропщи.
– Верно!.. Так, так!.. – кивал Асон, стоя впереди других.
– Без этого не выйти нам на истинный путь… Сегодня сомустил лукавый. Побороть его надо, правдой побороть.
Панфил заглянул через головы и строго поманил Акулину.
– А ну-ка, подь сюда, девка.
С убитым лицом, едва-едва переступая, подошла она.
– Вот сюда стань…
Панфил строго оглядел ее.
– А поясни теперь нам, откуда это ты и как и пошто?
– Деданька Панфил! – заревела Акулина, падая в ноги.
Но он наклонился, взял за локоть и строго приказал:
– Не валяйся! Встань!
Поднялась Акулина, оборвавши рыдания.
– Отцовское благословение имеешь?
Помолчала и чуть слышно ответила:
– Нет.
– Как же ты?
– Убегла… С пасеки…
– А пошто так? Богу послужить пошла, али как?
Молчит.
– Не почтила родителев. Грех великий приняла! – Панфил сильно повышает голос: – Тяжкий грех сотворила!..
Акулина беспомощно уткнулась в конец шали и плачет, сгорбившись, вся вздрагивая.
Асон нахмурился, вздыхает:
– Грехи наши… Охо-хо! Царица матушка, небесная!.. Панфил разглаживает бороду и громко спрашивает:
– Как же, братие? Овца заблудящая… Миром, значит, порешим. Какое ваше слово?.. Куда ее.
Акулина все ниже опускает голову.
Неясным шорохом прошли над ней слова, пугающие непонятной тайной. Но Хрисанф сказал громко и открыто:
– Идет пущай.
– Как ее одну-то? – спрашивает Асон.
И, радуясь подсказанному слову, все возбужденно зашумели.
– Возьмем! Пущай идет! – покрыл все голоса Хрисанф. Панфил с просветлевшим лицом положил свою руку на голову Акулины.
– Значит, счастье твое, Акулинушка.
Он уже скинул притворную строгость.
– Иди с миром, сердешная.
Панфил взял ее за руку и, отыскавши глазами Ивана, поманил его. Тот подошел, испуганный, покорный.
– Вот чего, Ванюшка, и ты… Акулина… Мое дело теперь никакошное… В вашей судьбе есть хозяин побольше меня… Как отец с матерью… К отцу подите…
Он повернул их лицом к Назару, а сам глубоко-глубоко, касаясь перстами травы, поклонился народу.
– Бога ради, меня, грешного, простите, ежли чо неладно вам сказал.
Ему ответили общим поклоном.
– Нас прости, отец!
Назар мирно, но с серьезным и грустным лицом шагнул к Ивану. Тот грохнулся в землю.
– Прости меня, тятенька!
– Изобидел меня сын родной, крепко изобидел. А кажись бы, слова худова от отца не слыхивал… Теперь вот тоже сомустил всех. Откуда это, парень, у тебя? Ровно бы раньше не такой был, Иванша. А?
– Тятенька, прости!
– Ты это кого задумал? Жениться?
Иван швыркает носом.
– Жениться, говорю, задумал?
– Благословите, тятенька, мамонька, – вдруг решительно поднял голову Иван: – Гараське я ее не дам… Убьюсь, а не дам. Ежли чо… Дочерью будет, не скажет поперек… А Гараське не дам. – Он вскочил и говорил все громче, сильно волнуясь. Пошто мне нету места?.. Все, поди, не лучше нашего…
Панфил тронул его за плечо.
– Не ропщи, сынок, не ропщи. Помоли лучше угодника, чтобы сердце родительское оборотил к тебе.
Хрисанф, улыбаясь, что-то маячит Назару. И встряхнулся Назар.
– Э-эх! – крякнул он, отмахнувшись рукой: – Мать! Поди сюда. Да поди ты, што ли!
Дарья, нехотя, подвинулась.
– Кого тебе опеть?
– Кого? Сноху тебе в новую горницу.
Умиленно и растерянно смотрели все, когда они благословляли молодых.
Котелки уже сильно простыли. Пока рассаживались на траве, бабы снова подогрели их и, перекидывая с руки на руку раскаленные дужки, поставили посудины в кругу разложенных на небольших холстинках ломтей хлеба. Молча и старательно таскали жирную саламату большими ложками, густо посыпали солью толстые ломти.
Чай пили долго, со вкусом, и еда умиротворила. Сам собой завязывался оживленный разговор. Акулину никто не затрагивал. Даже Дарья только сокрушенно вздыхала, раздражая мужа. Ее мутила прошлогодняя обида на девку за какие-то сплетни. Акулина, с уставшим лицом, едва шевелилась. Сидевший рядом с ней Асон все косился на нее, присматриваясь и, должно быть, тронутый забитым видом, стукнул ложкой в ее руку.
– Ты мне, дочь, скажи-ка вот чего… Как ты сбегла-то? А?
Акулина покраснела, громко швыркнула носом и сейчас же нахмурилась.
– С пасеки ушла.
– Нет, ты поясни мне, как ты это удумала? А?
– К Гундосому идти? Небось, удумаешь!.. Об осени свадьба, говорили…
– Та-ак.
Асон, опершись кулаками в толстые ляжки, осмотрел ее внимательно.
– Ведь отчаянность экая! Н-ну! Быдто в гости ушла!.. Ну и как же ты не заблудила?
– Иван направил, куда надо.
– Та-ак… Значит, спозаранку снюхались. Старики-то, может, сколько годов это дело мозговали, а у вас без хлопот.
Он повернул лицо к Ивану.
– А ты почем же чуял, что она прошла тут? Али зверем по следу тянулся?.. Кабы не пустили, да запуталась в ущелинах?
Иван вспомнил что-то. Загорелое лицо само собой поплыло в откровенную улыбку. Рукой пошарил за рубахой и не сразу вытянул обрывок кумачу.
– На кедрачах отметину оставила.
Девка сконфузилась, вспыхнула и наклонилась вплотную к холстинке.
Назар поднес было кусок к губам, да так и застыл. Похлопал глазами, ища себе сочувствия, взглянул на лоскут, на Ивана и хихикнул:
– Вот те, язви те!.. А я это думаю… Ха-ха-ха!
Он прожевал кусок, запил из чашки и прибавил резонно:
– Супротив прежнего нонешны умом, парень, ку-у-ды!.. Скажи, отколь чего берется?
– Народ дошлый, чего говорить, – согласился Анисим.
– Ну, па-а-рень – идет в ворота, – опять насел Асон. – Нет, девка-то, девка! Собралась, завьючилась, поехала!.. На пашню доле собираются.
Хрисанф, поднявшись и уходя к лошадям, кинул внушительно:
– Не пошел Евсей, от бабы отлипнуть боится – дочь ушла. Вот и все тебе. Кого тут разговаривать!
Анисим взъерошил черные с отливом волосы и, щуря угольки-глаза, захохотал:
– Уважила дочь!
Бергал украдкой улыбнулся. Ему ясно представлялось, как теперь шумит Евсей. И, словно подхвативши его мысль, Назар встрепенулся:
– Погоня, мотри, будет. Евсей теперь гу-гу! Вихрем землю дерет.
– Никого не доспеет, – отозвался Иван, решительно вставая и крестясь: – Не бараны, поди. По колодкам теперь шарится да дымком окуривает… Акулина на деревню лошадей ковать поехала.
– Штобы-те! – заливался Анисим.
Иван солидно одернулся, накинул шапку и повелительно взглянул на Акулину:
– Ты дохлебывай, чо ли. Сумины надо раскладать.
Она покорно, по-бабьи откликнулась:
– Сичас я. Рассупонь поди ремни-то. Не могла. Росой смочило, затянулись шибко.
Догоняя Ивана, она продолжала все тем же деловитым тоном:
– Надо там бадейки досмотреть: не потек бы мед.
И эта деловитость разоружила всех, кому на верхосытку так хотелось пошутить над девкой.
Оглянувшись на нее, Анисим восторженно тряхнул головой:
– Девка! А? Нет, ты, парень, – обернулся он к Назару: – не мутись. Вот тебе мой сказ. Не мутись. Золото девка! Твое дело таперь какое? Куды ты и што ты. Ни дому, ни печки. Скажи, дура нашлась, потянула…
Дарью прорвало:
– Скажи на милость! Калачом медовым не манили. Не хуже бы сосватали. Изба, поди, не без углов…
Все захохотали:
– Изба! – торжествовал Асон. – Супротив этого не скажешь. Изба, одним словом, молодяжничком огорожена, синим небом принакрыта, на полу – зелено.
Он развел руками в стороны.
Дарья обидчиво подвинулась за круг и, громко вздыхая, занялась своей торбочкой.
Польщенный Назар не сдерживал улыбки.
– Кого там! Обидно, слышь, то: не по-людски выходит. А девка, што говорить…
– Ты, ты-ты! – оборвал его Бергал, крича на жеребцов. – Покусайси-и!
Он проворно вскочил.
Подошел Хрисанф.
– Складываться бы, што ли? Как бы не скатило кого оттоль. – Он красноречиво показал на перевал.
– Это ты правильно, – согласился Панфил. – Кони поедят – седлаться.
Все сильнее припекало. Солнце плавно поднималось на небо. Лес стоял тихий и радостный. Неумолчно кипела и ворчливо пенилась речушка. Обсохшая трава стлалась цветистыми коврами по лесным прогалам. Светлой и красивой жизнью жила глубокая долина, огороженная в небо уходящими отвесами.
X
За день ушли далеко. Не достать, никому не сыскать. Только небо видит темные, глубокие, лесами поросшие пади, а над ними – горы, мрачные гранитные утесы и снега. Шпили утесов в клочья разрывают бесприютные, кочующие над землею облака. Высоко-высоко, выше хмурых туч вздымают они царственно гордые головы. А горсточка дерзких упрямо и настойчиво идет по их груди. Дорог здесь нет. Одна дорога – смелая мечта. Она ведет через бездонные провалы и гранитные поля, через старый-старый темный лес, которому конца нет, по долинам.
На закате расседлались.
– Эко место добро! – выйдя на опушку, радовался разомлевший от езды Назар.
Луг, заросший большетравьем, уходил зелеными полянами куда-то вслед за речкой, разлучая горы.
Панфил, тихий и кроткий, подойдя, встал рядом.
– Ты мотри, каку травищу гонит!
Ничего не ответил Панфил, и оба молча радовались неразменному богатству, глубоко вздыхая и почесываясь в предвкушении спокойной ночи.
Бергал с Хрисанфом крепко спутывали лошадей. Их голоса – один зычный, веселый, а другой раздраженно-отрывистый – неслись через густые заросли с большой полянки за рекой.
Бабы суетились под деревьями с поклажей. Асон тут же починял испорченное днем седло; все ворчал и сопел, да приморился, бросил. Сидит теперь и смотрит. Акулина хлопотливо перетаскивает пухлые сумы, надсаживается, закусывая губы и краснея.
– Надсадишься, деваха, – сочувственно качает головой Асон, – ты того бы… по траве волокла… Ну, да и брось! Соберут мужики. Брось, ли чо ли, говорю!
– Пропаду без мужиков-то, – огрызается она. Сама ищет глазами Ивана. Где он? Вспомнила– ушел по речке удить хайрюзов. Оглянулась на Асона – тот разувает ногу, ничего не видит, скользнула проворно в кусты и, пробираясь по колючей заросли, бросилась по следу.
Далеко забрел Иван. Примятая трава ведет по берегу. Акулина изморилась, выдергала ноги на разбросанных в траве камнях. Скорее бы Ванюшка! Рассказать ему все…
Из-за густой черемухи со свистом поднялось непомерной длины удилище. Тускло блеснуло оно в воздухе, передернулось, вздрогнуло змейкой и упало почти к самым ногам, придавляя траву. И сейчас же с шумом вылез из куста Иван.
– На тебе! – вскрикнул радостно он. – Видно, притянуло.
– Зря, поди, измаялся?
– А это што! Гляди! – он подкинул связку рыбок, нанизанных на тонкий прут.
Но Акулина смотрела растерянно, куда-то мимо, на реку.
– Хватит, што ли? – спрашивал Иван, играя связкой.
Акулина не ответила.
– Пойдем еще маленько.
– Ты ничо не знаешь?.. – убито улыбнулась она.
Иван насторожился.
– Кого опять?
У Акулины по лицу и по губам перебежала неуклюжая улыбка. Девка собралась что-то сказать, да не сумела, не хватило силы – как ребенок всхлипнула и, закрываясь руками, зарыдала. Все, что накопилось с прошлой ночи, полилось неудержимыми слезами.
– Ой, тошнешенька мне-a! Ой, тошнешенька-а! – голосом ревела Акулина, припадая вперед.
Иван растерялся.
– На вот! На вот! Ты сдурела?
Акулина топнула ногой и, отбросив руки, показала красное, все неприятно мокрое от слез, лицо.
– Гараську я зарезала! – громко выкрикнула и кулем опустилась в траву.
Иван, раздавленный двумя словами, стоял над ней со спокойным лицом. Он видел пестрый сарафан, под которым вздрагивали плечи, слышал грубо-низкий голос, повторявший какое-то страшное слово, но все это было так далеко и непонятно, так незначительно и чуждо. Наконец, очнулся. Непонятное сменилось жутким страхом. А может быть, то была радость? Сам потерял себя. Иван наклонился, упал на колени и, положивши руку на плечо Акулине, а другой опираясь на камень, попытался приласкать:
– Не вой ты, моя…
Жалость и нежность вынесли из глубин яркое, горячее слово, но сказать его не мог.
– Брось, ли чо ли… Акуляша! А?
В голове проносится: «Когда это и где? Гараську!».
Акулина надрывается, все ниже опуская голову, как будто хочет спрятать ее под тяжелую черную землю.
– Ах, ты! Вот скажи! Ну, уймись, ли как ли… Растолкуй, хошь.
Он решительно сел рядом и, обхвативши ее сильными руками, опрокинул к себе на колени. Акулина покорно уткнулась в живот.
– С пасеки… с-са-а-мой…
– Ну?
– Ну, прилип тот…
Она утерлась рукавом и передвинулась, по-детски сухо всхлипывая.
– Бергаленок, што ли?
– Кому боле.
– Ну?
– Я это утре только съехала с лохматой сопки, а он и тут. Гляжу, у речки шарится. На саврасом хлюпает. Едет будто бы тихонько этак. Куды тут, думаю? Свернула лесом, а он оборотил… Подъехал, скалится, проклятый. «Здорово, што ли, – говорит. – Знать, по пути нам?» У меня и речи нету. Обомлела, молчу, дура дурой. Ну, кого я с ним доспею?.. Одиным-одна. А он крутит и крутит… Повернула на дорогу, а он следом. По пути, говорит. А кого там, по пути – ни сумин, ни припасу. Знамо дело, галится… – Акулина опять нервно вздрогнула и, закрывши глаза, сильно прикусила губу.
– Ну? – Иван нетерпеливо теребил ее шаль.
– Ехали, ехали. Он все рядом норовит. Сам болтает и болтает языком. Я и спрашиваю: «Ты куда же это?» – «Я-то, – говорит, – куда? С тобой пойду»… Зубы скалит… «Помнишь – как под елкой-то? Может, мы не хуже…». Ухватил меня ручищей вокруг шеи, к себе тянет. Понужнула я Белку, а та сколыхнулась, дернула, я и вылетела из седла. У ево саврасый тоже, как взыграл – оба повалились… Ой, тошнехонько!.. Облапил, значит… храпит зверем…
– Ну?
– Так маленько– и уделал бы… Силушки нету моей. Да одну-то руку выкрутила… Ножом ударила в лопатку… Выкатил белки… Отпал…
Ванюшка дышал тяжело и отрывисто, будто видел все перед собой. Вот-вот сорвется с места, бросится.
– Ссабака!
Акулина широко открытыми глазами смотрела куда-то вниз и вдруг в ужасе вздрогнула, съежилась.
– Страсти-то, страсти! Куды я денусь? Тошно мне, тошно!.. Всее ноченьку дрожала. Куды ни гляну – все он ползает, корячится.
Она помолчала с минуту, что-то вспоминал, и порывисто схватила за руку:
– Как побегла от него, обозвал нечистым словом. Сам хрипит, а сам по-матерному… Потом уткнулся головой под камень.
– Ссабака! Бергалу и смерть по-бергальему.
– Ой, куды я денусь! Грех-то, грех!
– И никакого тут нету греха. Кабы это человек, а зверь и зверь. Ежли волк, али кто там, на тебя напустится, в зубы, поди, не полезешь. Он и зверя вредня… Ну, дак как же не вредня? Ты смекай, кого он удумал?
Иван долго говорил, и злоба пропадала вместе с тем, как Акулина делалась спокойней. Облегченная рассказом, она тоже затихла, смирилась.
– Исповедаться бы дедушке, – осторожно подняла она глаза.
Иван согласился:
– Как хошь. Он не бросит, на поклоны поставит. Не великой грех твой.
– Исповедуюсь я.
– Ты себя сберегала, – продолжал свою мысль Иван. – Всякой так бы сделал. Кому жизнь не дорога? Пошто он этак? Сам неладно закрутил, оно и вышло…
Ласково и мягко говорил он. Слова его были такие простые, понятные. Акулина им отдавалась вся, без раздумья, без тяжбы, теснее прижималась к Ванюшке, стараясь поглубже зарыться в рубаху, а он гладил тяжелой ладонью ее голову, круглые плечи и грудь.
– Ты не думай только. Не надо думать.
– Да как я? Не идет из головы.
Она передернулась, всхлипнула, вздрогнула.
– А ты о другом… Пройдет… Не сама вить, не нарошно… Бог-то видит, поймет. Не обманешь его. Небось, видит.
Она затихла, вся ушла в себя и распустилась, не отталкивая ласковой руки и ничем не отвечая на теплую нежность. Было столько мыслей, бурных, мятущихся, никогда не изведанных. Жизнь с рожденья тянулась такая простая, знакомая – сегодня, как вчера, и вчера, как сегодня, будто во сне ее видела, всю наперед узнала. Да обманул тот сон. Дорожка виляла, виляла и вывела к такому, перед чем растерялась душа, и стоять ей не на чем, повисла в воздухе. Все ушло, все потерялось.
Не отрываясь, долго, снизу вверх, смотрела на родное сильное лицо. Знала на нем каждую морщинку, но не умела понимать того, что есть-за мелкими морщинками. Там другое лицо. Словно невзначай разгадала мудреную загадку. Вот он, тот, который все знает и выведет, – Ванюшка! Все теперь устроится. Ванюшка знает, как. Он знает! Лежала тихая, покорная и отдавалась ему в мыслях телом и душой, но не так, как иногда, – до угару, до боли– нет, не так. И в этой покорности было неизведанное счастье, было небо и солнце.
Очнулась от толчка: Иван подвинул затекшую руку.
– Разбудил, знать?
Она молча улыбнулась, поправляя волосы.
– Отдохни маленько.
Опять ничего не ответила, покрутила головой и вытянулась в рост.
За спиной в лесу темнели тени. Пятна зелени, воды и камней потеряли свои краски. Серой дымкой застилало всю долину.
– Ночь, мотри, идет, Ванюшка, – с трудом вставая показала Акулина на дальнюю кайму хребтов, из-за которых поднимался на небо украдкой молодой, бумажно-белый, месяц.
– А вить хайрюзов-то, знать, мы подавили, – смеясь, потянула она длинный прут.
Иван улыбнулся.
– Пластать не надо, работы меньше.
Когда возвращались, Акулина на каждом шагу припадала в малинник, набивая полный рот рассыпчатыми ягодами.
– Лошадей бы надо доглядеть, – заботился Иван.
– Пойдем, пойдем!
Она поймала его за руку, и оба побежали вдоль речушки, по-ребячьи прыгая через большие камни. Но по дороге встала черная черемуха, раскинув лапы далеко над речкой. Акулина, уцепившись за одну из веток, вскрикнула:
– Ты глянь-ка, глянь! Черным-черно от ягоды! Набрать-то вот бы! Наберем? Ну, давай, ли чо ли, шапку!
Он покорно протянул ей меховушку и, подпрыгнув, наклонил развесистый сучок. На каждой веточке висели длинные сережки черных мягких ягод. Стоило до них дотронуться, как ягоды дождем катились по ладони в шапку, в рукава и на траву. Ванюшка все старался отыскать корявые сучки, где ягода была крупнее и слаще. Акулина искоса взглянула на него, и что-то в ней проснулось, хлынуло огнем по жилам. Будто год не видела. А он совсем уже не парень. Борода пушится. А ручищи-то, а плечи! Муж он, муж! Сын в него издастся, капля в каплю. Застыдилась своей мысли, вспыхнула, вплотную подошла к нему и, пропустивши свою руку под его, тянулась к вздрагивающим сережкам. Радостно и жутко было прикасаться к его телу, чувствовать тяжелую родную руку на своем плече и у лица. Оттого ли, что рука так крепко пахла, или оттого, что сердце сильно билось, пальцы прыгали по листьям, не захватывая ягод.
– Обтрясла все дерево, – ворчал Ванюшка, крепко прижимая девку свободной рукой. У Акулины закружилась голова, когда он, как бы невзначай, запрятал грудь в широкую ладонь и тиснул так, что дух занялся. Но сейчас же выпустил и властно повернул на тропинку.
Стан был близко. За рекой визгливо ржали жеребцы. Тянуло дымом. Дальние кусты сливались в темную густую поросль. Вечер был тихий и теплый. Шагая сзади, Акулина все смотрела на могучую спину Ванюшки, на косматую большую голову, и в сердце был великий праздник. Но кому было сказать об этом? Разве только что Ванюшке… После, ночью.
XI
Золотые, горячие дни чередовались с непогодью, мокрыми туманами и зимней стужей под белками по ночам. Нерукотворными громадами тянулись горные хребты, и не было конца им. Они поднимались то выше, то ниже, замыкая дали тесными рядами стен. Но к концу шестой недели горы снизились и поредели. Зелени подолов расстилались шире с каждым перевалом. Наконец, под вечер того дня, как миновали каменный курган, воздвигнутый неведомым народом на вершине сопки, перед глазами развернулась во всю ширь великая пустыня.
Пали стены. У предгорий, словно стражи-пограничники, возвысились мертвые, серого камня утесы, а там, за ними, шли пологие холмы, сливаясь с гладью песчаного моря, еще неясного, но властно захлестнувшего далекий горизонт.
В последней зеленой долине сделали привал на целую неделю. Лошади, измученные, похудевшие, со сбитыми спинами, поправлялись быстро. Люди усердно работали. Мужики чинили сбрую, вялили наловленную бродничком рыбешку, выходили на охоту. Бергал все хлопотал у лошадей: разыскивал какие-то травы, жевал их и прикладывал к болячкам. Хрисанф с Ванюшкой успели загнать двух архаров. Мясо тоже вялили, но соли было мало – жалели ее, – и в сморщенных кусках стали появляться черви. Бабы сбирали и сушили ягоды. Неизвестно, что там ожидало, за последними холмами. Собирали и прикладывали каждую крошку; подолгу, обстоятельно обдумывали всякую мелочь.
Накануне выступления вечеровали дольше, чем всегда. И лошадей, и сбрую, и поклажу привели в порядок еще утром. День прошел в мелкой починке, а вечером все не хотелось отойти от большого костра, как не хочется выйти из теплой приветливой горницы на холодную пустую улицу.
Ночь пришла тихая, звездная, прекрасная своей великой тайной, никем не разгаданной. Огромный, широкий костер в кольце невысоких кустарников уже погасал. Сгорели все корявые сучки, натасканные за день, и в средине костра едва слышным звоном жалобно звенели раскаленные угли, утопая в золе. Лишь по краям огнища вспыхивал то тут, то там случайно уцелевший прутик. Иссиня-белая змейка проворно шмыгнет от костра, испепелит сухую ветку и угаснет, скроется. При отблеске последних вспышек круглая полянка оживет, покажет все свои углы, забитые странными грудами скарба, и потонет в темноте. Ночь тогда кажется еще темней и глуше.
Почти рядом с костром и в кустах слышен легкий говор – все не спится. Только Анисим да Назариха перекликаются через поляну нудным однотонным храпом.
Асон кряхтит и кашляет, часто обрывая Панфила.
– Вот попущение божецкое; спать, однако, слышь, не даст. Асолодки пожевать бы, да теперь ее где? Не уищешь. Вся трава одинакова.








