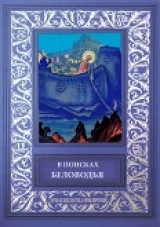
Текст книги "В поисках Беловодья (Приключенческий роман, повесть и рассказы)"
Автор книги: Вячеслав Шишков
Соавторы: Лев Гумилевский,Михаил Плотников,Г. Хохлов,Георгий Гребенщиков,Александр Новоселов,Алексей Белослюдов
Жанры:
Классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 32 страниц)
– Христопродавец! Собачье подхвостье! Вот куда! Так вот-те! Вот-те! Сволочь!
Раненая лошадь, потерявшая седока, наткнулась на Хрисанфа, перепрыгнула, хлестнула его задом по спине.
Хрисанф отпал от Сенечки, опомнился. Но чуть привстал, как на него наплыли толпой те, куда он только что так рвался. Баб скрутили, волокут и отбиваются от мужиков. Пыхтят и гайкают. А Ванюшка с Анисимом работают по головам. Но вот обломился Анисим – не остерегся заднего.
Хрисанф вскочил.
– Не сдай! Иван, не сдай!
Как пудовые молоты, опустил он жилистые кулаки, – и погнулись, захрустели кости. От баб разом отступили. Ванюшка поймал Акулину и не знает, куда деться: помутился разум, растерял всю силу.
На Хрисанфа навалились трое, но над ними гаркнул кто-то пронзительным и властным криком, ему отозвались во всех концах, и шайка хлынула в пустыню…
Все пропало. Словно ничего и не было. Будто ураган пронесся. Налетел безумный, беспощадный, закрутил и разбил, и ушел, свободный, к граням неизведанной пустыни, унося с собой надежды.
XIII
Солнце поднималось над землей багровым шаром. И побледневшая перед его лицом лазурь, и до земли пронизанный лучами-стрелами сухой недвижимый воздух, и пески, подернутые мертвой рябью, – все было залито жарким золотом. Но не жизнь к радость, не смех и песни были в знойном молчании – то было великое молчание смерти. Она была близко, была разлита всюду и, спокойная, открыто смотрела беловодцам в глаза. К ней подошли вплотную.
Могилы Сенечки, Асона и Анисима почти не выделялись из песчаных холмов. Назар с Панфилом молча мастерили крестики из завезенных веток саксаула, перевязывая их суровой пряжей.
Ветки, сухие и корявые, плохо прилегали, и так они были изогнуты, что только страстное желание подсказывало, что у того и у другого получились не перепутанные диким ветром пучки высохшей травы, а намогильные кресты.
Отпевали покойных по полному чину, хотя гробов и не было. Панфил служил истово, спокойно и торжественно. Теперь, соорудивши крестики, опять молились и вздыхали. Василиса обезумела, лежит пластом и не шелохнется. Глаза открыты. Дышит и не дышит. Помутнело небо. Потерялось солнце. Все ушло куда-то, сдвинулось в тусклые дали. Что случилось? Где она?
– Все теперь ладно, – нарушил тяжкое молчание Панфил, оглядывая бугорки с корявыми крестами.
Василиса вдруг метнулась орлицей, грудью упала на могилу мужа.
Она не могла уже плакать, не могла причитывать. Отдала все слезы серому песку, а слова разбросала по ветру. Она стоном выливала свою смертную боль и, упавши лицом в землю, скребла ее пальцами, будто умоляла бесстрастный песок разверзнуться и отдать ей Анисима.
Дарья скорбно наклонилась над ней и положила руку на плечо, но ничего не посмела сказать: пусть до конца изольется, пусть выплачет горе.
Все сидели молчаливые, тяжелые. А солнце крыло раскаленным одеялом, и под ним становилось так душно, что хотелось уйти в землю и от света, и от зноя, и от этих могил. Велико было горе, но некогда было ему отдаваться. Между мертвецами и живыми вставала бездна, и чем выше поднималось солнце, тем чернее и глубже становилась пропасть, тем дальше и дальше уходили ее берега. Предстояло сделать выбор – перешагнуть через могилы и дерзнуть идти в пустыню или возвратиться к граням жизни.
Лошадей угнали. Уцелела Василисина рыжуха, но и та была исколота, изрублена. Воды и харчей оставалось так немного, что только дня четыре – пять можно было на них продержаться. Все пропало вместе с лошадьми.
Хрисанф долго смотрел на песок и тяжело о чем-то думал, потом прошел глазами по всем лицам и остановился на Панфиле.
– Ну, Панкратыч, сказывай, как помекаешь?
Голос был тихий и покорный. Панфил кротким, но открытым и решительным взглядом посмотрел кругом.
– Миром надо.
– Миром– это правильно. Вот и сказывай. Тебе начало класть.
– Говори, Панфил, – расклонился Назар, сдвигая на затылок кошомную шляпу.
– Говорить надо немного. Слова человеческие, что песок в пустыне: больше говоришь – глубже истину хоронишь.
Он помолчал, поправляя разбитую руку, оглянулся, сдвинул брови, будто клал на весы последнюю, самую малую гирьку, и заговорил тем учительским тоном, к которому привык в моленной.
– Господь нас, братия, настиг… не калмыки– господь! Великое нам испытание поставил. Так-то, разом, без искусу – где же! Пошел– и сразу все тебе открылось… Будто бы на пасеку приехал. Нет, ты огнем опали свою грешную душу, источи из сердца кровь, претерпи до конца… до конца претерпи!
Панфил возвысил голос.
– Без того нельзя помыслить! Страсти нам господь послал, большие страсти! А оно все к лучшему. К лучшему, братия! Великое горе ниспослано. Душа-то пала, страхом убило ее. А это господь нам милости послал. Допустил, знать, до горна небесного, чтобы горем да слезами выжгли все поганое. Доброе это знаменье!
Хрисанф нетерпеливо кашлянул и, глядя в упор на Панфила, спросил громко:
– Значит, дальше пошли?
Панфил вздохнул.
– Назад-то некуда.
Хрисанф долго молчал, рассматривая каждую морщинку, каждый белый волосок на лице старика.
– А эти как? – показал он на баб. – Как ты с ними?
Назар совсем собрался сказать что-то свое, накипевшее, но Иван перебил:
– Кого там разговаривать! – выкрикнул он, вскакивая на ноги. – Не пойдем никуда! Покуль целы остались… куда еще? Дай бог выбраться!.. Баба у меня на сносях ходит. Не пойду!
Акулина испуганно поглядела на Хрисанфа, а тот насупил брови.
– Молодой, да шершавый! Помолчал бы, стариков послушал!
– Не пойду!
– Но, уймись, ли чо ли! – пригрозил Назар, вставая на колени.
– Ты, Панфил Панкратыч, разбери теперь вот што! – волновался он, стараясь высказать набежавшие мысли. – Коней-то нету, харчей-то – вот оно все тут, а пески – конца им не видать. На смерть пойдем мы, Панкратыч. Наказание, может, и вправду нам на милость, а только без харчей не пойдешь. Ну, куда без харчей?
Замолчал и, обтирая ладонью мокрый лоб, взволнованно перебежал глазами по всем лицам. Ему казалось, что и слов не сыщешь сказать убедительней. Ведь так это просто, так понятно: нет харчей – нельзя идти.
Панфил, ни на кого не глядя, сказал тихо-тихо, будто самому себе:
– Близко тут.
Хрисанф прищурился.
– Докуда тут близко?
Но Панфил не ответил.
– Вот чево, Панкратыч!
– Сказывай!
– Не допустил господь, наперекор идти нам не с руки. Вот оборотимся, да сызнова.
Панфил тяжело пересел с ноги на ногу.
– Куда я? Мне не обернуться. Я с обетом.
Хрисанф начинал закипать.
– Обитель ты все… Где она? Кому указана? Надо до угодьев пробраться… Оттоль и к обители можно…
– Нет уж, пойду, – спокойно отозвался Панфил.
Хрисанф насупился. Не мог он, сильный и кипучий, выносить его голоса, такого кроткого и тихого, но всегда спокойного, решительного.
– Так ты што тут? А? Хоронить всех хочешь? Разом штобы?
– Не кричи, Хрисанф Матвеевич, – невозмутимо посмотрел ему в глаза Панфил.
– Хоронить всех? Не пойдем! Вот до вечеру только, а потом одно нам– назад подаваться. Назад! Доскребемся до гор – значит, живы. Умирать не захочешь – дойдешь…
Дарья всхлипнула, взвыла:
– Выведи ты нас, батюшка! – Она обернулась к Хрисанфу и упала головой ему в колени. – Выведи, Хрисанф Матвеевич! По гроб, по конец своей жизни буду бога молить… Пропадем мы тут… Разнесет, развеет наши косточки.
Хрисанф не слушал.
– По мне– этак, а там как кому приглянется. К вечеру складаться…
Назар скорбно крутил головой.
– Ой да, и скажи, стряслось же! Вот напасть! А все Сенечка! Увязался, слышь, на грех да на свою погибель. Ведь это что, скажи, выкинул! С ордой спознался! А?
– Собака драноглазая! – скрипнул зубами Хрисанф.
Он взглянул на могилу Бергала, вскочил, вырвал крестик, изломал и бросил.
– Крест! Куда ему с крестом? К сатане без креста хорошо… Кол ему осиновый!
Панфил в ужасе встал и, вихляясь на тонких ногах, растопырив руки, бросился к Хрисанфу.
– Што ты, што ты! Богородица с тобой! Покойный он!
– Сенечка?! – дерзким хохотом захохотал Хрисанф.
Старик, как стоял, уронил свои руки, ничего не мог сказать и сел.
– Отвернулись! Уходят! Потерял былую силу. Ни словом, ни голосом их не вернешь. Хрисанф теперь им сила. За Хрисанфом пойдут. Не отстать им от мира.
Он не слышал голосов за спиной и не видел, как прошел мимо Хрисанф. Голову теснили тяжелые мысли, немощное тело побеждало дух. Перед Панфилом поплыли в волшебном мареве родные горы, развернулись темные луга, напитанные влагой, напахнуло терпким ароматом большетравья, и живой перед ним стояла грязная деревня со знакомыми домами, с моленной и гурьбой ребятишек на улице. Спокойно там, сытно… Все опять будет свое, родное. Примут с радостью. Будут долго охать и расспрашивать, а там пойдет по-старому… Пасека брошена. Угодье-то какое! Лесу, лесу! А воды! И бежит она с кручей, будто песни поет. Не замолчит ни днем, ни ночью. И цветов, и трав там всяких! Красота господня! Утром встанешь вместе с солнышком, и нет тебе ни суеты и ни печали. На слезу позывает, как посмотришь. Молится каждая травушка, стоит тихохонько, а молится. И лес, и горы, и букашка всякая, и солнышко – все смеется ангельской улыбкой… День-деньской– по колодкам, а устали нету. От пчелы отстать не хочется…
Панфил сидел, склонивши голову в колени. Акулина, сама разбитая, пришибленная, не могла оторваться от Панфила. Она издали следила за ним и жалела его женской теплой жалостью.
– Один! Куда он? Да и как с ним? Умирать он собрался уж, што ли? На день, на два хватит, а там сгинет… Может быть, и передумает? До вечера-то долго. Ой, дождаться бы только! Нету силушки сидеть среди огня.
Солнце будто и не движется, остановилось в небе. Акулина, спасаясь от жгучего света, прилегла на сумы и наглухо закрылась шалью. Господи! Да неужели же не выйти! Не пожить в деревне по-людски, не походить за домом! Да ведь она бы избу-то держала, как игрушечку!.. Ванюшка хочет на полянке выставить, за Иваном Елисеичем, над самой речкой. А на речку– балкон… расписной… Хозяйство сладить помаленьку. Все бы к месту, все в порядке. Мимо дому добры люди не прошли бы. Жить да радоваться… И вдруг вспомнила… Ребенок! Замерла душа в тоске и сладком трепете. Словно с жару студеной водой по спине окатило. Промелькнуло то, как сказал Ванюшка: «Баба у меня на сносях ходит». И казалось, что это правда, что должно оно случиться скоро, что уже близко это страшное, великое, таинственное. Нет, скорее, скорее! На деревню, к людям, в свою избу!..
Акулина в смятении откинула шаль. Солнце обожгло и ослепило ее, а в его сиянии стоял Панфил. Стоял без шапки, опустивши руки. Но это уже был не тот Панфил, что сидел на песке беспомощный и немощный – сухое, длинное лицо его горело волей. Он стоял без движений, без слов, но по глазам, по каждой тонко вырезанной складке на лице все видели, что он решился, что он остается один, и никакие силы не вернут его.
XIV
Вторые сутки были на исходе, как Панфил все шел и шел. Море-озеро святое было близко. Когда солнце накаляло и песок, и воздух, в дальнем мареве вставали тенистые рощи, и тогда Панфил с новой верой, с новой силой смотрел в сияющее небо. Ему ночью было чудное видение, и он знал теперь дорогу. В котомке у него лежала старая из старых книг – благословение родителя, и с этой книгой, верил он, его пропустят. Книга правильная.
Плечи давит длинное, тяжелое ружье, горячим камнем налегла на голову пуховая шапка, ноги тонут, обрываются, скользят в песке, во рту давно уж сухо, глотку обжигает с каждым вздохом, по губам сочится кровь, а в глазах нехорошо – темно и мутно! Но сквозь темь и муть опять маячат острова и рощи. Близко, близко! Только бы до берега! Припасть к воде…
Но спустилось солнце с неба – и пропали дивные леса…
Был третий полдень. И все также, без границ и без жизни, расстилалась желтая пустыня. Панфил, маленький, сгорбленный, переползал с холма на холм, и высокое солнце видело лишь черную фигурку, в безумстве борющуюся с пустыней, да воробьиный дробный след в волнах песка.
Все медленней и медленней ползет безумец, и вот-вот затихнет, остановится, и оборвется след.
Панфил уже минутами не сознавал, идет ли он или стоит. Ему было все равно. В глазах потемнело. Леса ушли. И возроптала душа. Он давно уже бросил и ружье, и кафтан, идет теперь, делая последние шаги, чтобы пасть и не встать.
Совсем один! Ушли! Теперь подходят к первому колодцу. Жалость и боль за себя вызвали откуда-то последние соленые слезинки… Вспомнилось, как расставались.
Акулина подошла украдкой.
– Дедушка, пойдем, ли чо ли… пропадешь тут. Где тебе?.. После… потом сходишь опять…
Сама плачет и хоронится, чтоб не заметили.
До слез это тронуло. Не баба – золото. Сердце голубиное. Благословил ее горячей старческой молитвой:
– Награди тебя господи за доброту твою, за ласку…
Будто с покойным прощались, искушали сатанинскими речами… Хрисанф не выдержал. Пойми его! Все бегал, рыкал, а как простились да ушли – вернулся. Далеконько были – прибежал.
– Ну, Панкратыч, поднимайся. Будет! Ждут там. Без тебя не пойдем…
Уж не дьявол ли в образе Хрисанфа? Сомустить хотел. Да не дался ему. Заклятием великим отпугнул… Ушел ярый, с богохульными словами…
И опять щемит сердце, да не осталось слез, все высохло.
«Захотели бы, так на руках, силком подняли… Лишний, верно»…
Мысли путались и обрывались.
Вот опять! Опять видно! Панфил уже не верил и остановился, пораженный и испуганный: «Дьявольское наваждение! Ничего там нету. Дьявол путает, глумится».
Но за ближним длинным гребнем встали темною каймой живые, настоящие леса. Нет, вот они, вот! А озеро! Видно, как над ним повисли, опрокинувшись вершинами, высокие деревья. Вот когда оно открылось! Верно, только так и можно подойти к нему… Взроптал! Не выдержал! Чуть не погиб под самым берегом!
Панфил, спотыкаясь, добрел до холма и обессилел. Подломились ноги, в голове потемнело. Последние силы убивал он, чтобы передвинуться вверх, и полз на острых, высохших коленках, цепляясь пальцами за землю, будто сзади была пропасть!
Вот скоро, вот близко!
Выбрался на гребень… Страшно посмотреть… Глаза не открываются… Каждая жила струной натянулась, и поднялся он, словно вырос из холма, во весь свой рост, в разорванной серой рубахе, обтянутый по тонким и длинным костям задубевшей темной кожей… Открыл глаза, всмотрелся…
Вплоть до светлых краев неба был песок… песок… песок.
И так же, как вырос, ушел он в холм. Пал на землю и затих.
Но, верно, того только и ждало море-озеро святое. Подступило оно к самому холму и открылось Панфилу в красоте своей великой – с островами, скитами и храмами. Ликующим, радостным звоном зазвенели невидимые, по лесам и под водой, колокола.
Подошла к холму лодка.
Панфил, ясный и спокойный, поплыл к тихой обители.

Шишков Вс
АЛЫЕ СУГРОБЫ
Рассказ
Есть на свете такая диковинная страна, называется она – Беловодье. И в песнях про нее поется, и в сказках сказывается. В Сибири она, за Сибирью ли или еще где-то. Скрозь надо пройти степи, горы, вековечную тайгу, все на восход, к солнцу, путь свой править, и, если счастье от рождения тебе дадено, увидишь Беловодье самолично. Земли в ней тучные, дожди теплые, солнышко благодатное, пшеница сама собою круглый год растет – ни пахать, ни сеять, – яблоки, арбузы, виноград, а в цветистом большетравье без конца, без счету стада пасутся – бери, владей. И эта страна никому не принадлежит, в ней вся воля, вся правда искони живет, эта страна – диковинная.
Молола бабка Афимья – безрукий солдат при медалях ей быдто сказывал: «Беловодье под индийским царем живет».
Врет бабка Афимья, врет солдат: Беловодье – ничье, Беловодье – божье.
I
Когда-то, и не так давно, жили в селе Недокрытове два закадычных друга, Афоня Недокрытов да Степан Недокрытов, так по селу и прозывались. Оба в самом прыску, молодые, только по обличью не схожи.
Афоня – мужик как мужик, обыкновенный: запах от него крепкий, речь нескладная, весь он какой-то белесый, точно из крупчатки с мякиной сляпан. Степан же – угрюмый, черный, присадистый, голосом груб, взором грозен. Афоня тихий, задумчивый, весь в мечте, весь в сказке. Степан – черту брат: повстречается медведь-стервятник – хвать ножом, как пить даст. Степан самый заправский охотник, медвежатник, Афоня же с дудочкой соловьев любил ловить, а ружья боялся.
И этих-то разных по виду людей судьба скрутила вместе в тугой аркан, вывела в чистое поле и, завязав глаза, стегнула кнутом мечты и отваги – «иди!».
Дело случилось так.
– Ну, так вот, с богом, ребята, со Христом, – сказало все согласье села Недокрытова. – Не жизнь нам здесь, а гроб. Эвот, поглядите-ка, что покойников-то на погосте: крестов, что в лесу деревьев, сами понимать должны. А земля наша – сквозь песок. А дождей который год нету, сами знаете… Чистая смерть, господи помилуй…
– Еще вот что, ребята, – сказал староста Нефед, ласково посматривая на Афоню со Степаном из-под широкополой жеваной шляпы. – Ежели найдете Беловодье, век не забудем вас. Ей-бо… переселимся и работать не дозволим: сидите себе дома на печи, милуйтесь с хозяйками да малину с медом кушайте. Ей-бо!
Поклонились путники всему согласию в ноги, помолились на церковь, на родительские могилы, вскочили в седла и – в дорогу.
Степан еще раз попросил мужиков:
– Не забывайте баб-то наших. В случае чего так…
– С богом! Езжай без сумленья. Сказано – поможем.
Их жены разливались слезами, выли ребятишки.
Мать Афони, сморщенная, маленькая, прытко бежала за сыном, заглядывала в лицо ему, стараясь улыбаться, но глаза захлебывались горем, в глазах качался, вянул белый свет.
– Буди благословение мое… буди благословение…
– Не плачь, мамушка, брось… Ох, и сказок я тебе расчудесных привезу.
Долго крестила иссохшая старая рука взвившуюся на дороге пыль. Поворот, пригорок – и всадников не стало.
II
Сначала в седле тряслись, потом на пароходе Волгой плыли – вот так река! До чугунки добрались – как пошли отмахивать да как пошли крутить, Урал – вот так это горы! А там и Сибирь – плоская, ровная, а дальше опять река, да не река, речища – Обь… А за речищей опять горы начались, не горы, а горищи – сам Алтай! Господи помилуй, господи помилуй, этакие чудеса на свете есть.
– Куда же это ваш путь принадлежит? – спросил их в селе Алтайском дядя сибиряк-чалдон.
– Правильную землю ищем, Беловодье, – робким Афоня ответил голосом.
– Беловодье? – переспросил сибиряк и насмешливо присвистнул, нахлобучивая картуз на брови. – Это сказки. Старухи на печи сказывают. Беловодья, братцы, нет. А езжайте-ка вы, братцы, вот куда… Езжайте вы прямым трактом в Онгудай, такое село есть. А там покажут – куда. Много вашего брата, самоходов, в тот край прет.
Долго ли, коротко ли ехали – горы, речки, луга, калмыки – и всех встречных спрашивали:
– А скоро ль Возгудай-то?
– Какой Возгудай?
– А этот самый… как его…
Юрты, деревушки, церковка. Цветы, трава, дикий козел ревел на сопке поутру. А ночью в густо-синем небе – звезды. Афоня весь в порыве, в трепете: вспорхнуть бы, облетать бы, а крыльев нет.
– Степан, господи Сусе… Степан? Глянь-кось, глянь-кось. Степан едет передом в седле, угрюмый, гложет на ходу баранью кость.
– Степан!
Но всему бывает свой черед: за рекой Урсул засерело на пригорке Онгудай-село. В Онгудае их снова опахнули холодом.
– Где это видано, чтоб такая земля была: реки молочные, берега кисельные. Эх вы, лапотоны! Ничего вы, лапотоны, не смыслите. Эх, Расея-матушка!
Афоня было в спор, турусы начал разводить. Степан же отсек сразу:
– Киселей нам не надо никаких. Мы добрую землю ищем.
– Так и толкуй, – сказали сибиряки-чалдоны. – Добрую землю мы вам покажем. Это надо за Кемчик идти, в Урянхайский край.
– Чей же это край? – спросил Степан.
– Не то китайский, не то наш. Попросту сказать – ничей.
– Слава те Христу, – перекрестился Афоня. – Его-то нам и надо. Это самое Беловодье-то и есть. Оно!
Прожили в Онгудае путники целую неделю. От Онгудая через горы, сказывают, суток шесть пути; они заготовили провианта вдвое: сухарей, крупы, масла, пару хороших коней достали, выносливых, калмыцких, их и ковать не надо: сталь, а не копыта.
Хозяйственный Степан суров, смекалист, быстр. Афоня же так… все про пустяковину: а красива ли дорога? а какого, мол, цвета горы? а какие распевают там птицы, громко ли грохочет гром в горах? Даже о том спросил Афоня, не водится ли в тех местах летучий змей с хвостом, – сказывала, мол, бабушка Афимья.
Только на прощанье по-серьезному проговорил Афоня:
– Ну, а ежели заблудимся да погибать начнем?
Ему ответили:
– Тогда – аминь. Кругом безлюдье.
– Ни-ичего, – бодро протянул Степан. – Несчастья бояться – счастья не видать.
Выехали в солнечный воскресный день. Через первые хребты провожал их бывалый зверолов Иннокентий. Солнце блестело вот как. На перевал вздымались целый день. Солнце ниже, ниже, они все вверх, гнались за солнцем, не спускали с солнца глаз. Вот зацепилось оно за сопку, еще чуть-чуть – и нет его. Степан как гикнет: «Айда!» – как вытянет коня нагайкой: гоп, гоп! Глядь – солнце опять над сопкой, снова светлый день.
Долго гнались за солнцем, долго не давали ему пасть на дно.
Остановились на ночлег в горах.
– Вот так это горы! – радостно, таинственно говорил Афоня, сидя у костра.
– Настоящих-то гор еще и не нюхали, – возразил провожающий Иннокентий. – Что буде завтра.
Утром выбрались путники на самый перевал. Глянул Афоня – и все внутри его заплясало: весь Алтай всколебался перед ним. Горы, как хребты страшных чудовищ, высились над землей: ближние – в ярко-зеленой щетине леса, на ободранных боках кровавые подтеки; а там – черные ребра обнажились, там – осыпь серых камней – курум. Дальше же яркая зелень блекла, голубой закрывались горы завесой, гуще, гуще завеса, и уж в правую руку, куда летел очарованный Афонин взор, – было синим-сине. Налево лежали хребты нагие, словно звериные спины облысели от времени или словно вся шкура была содрана с чудовищных хребтов до самого до мяса.
Все они вздымались серой массой, с черными впадинами балок и ущелий. Какие-то легкие тени скользили по освещенным солнцем склонам. Афоня догадался, что это тени плывущих в небе одиноких облаков.
А небо было голубое, спокойное, солнце недавно поднялось из-за хребтов и… что это там впереди блестит – больно глазами глядеть?
– Снег! – вскричал Афоня. – Гляди-ка, Степан, снег!
– Это вечные снега, вечные льды. Спокон веку так, – внушительно сказал Иннокентий. – По-нашему называется – белки.
Весь горизонт уставлен белыми хребтами, только ниже склоны голубели в сизой дымке, а вершины гор хлестали глаз резкой белизной.
– Через эти снега вам придется идти. Ничего, не бойтесь. Вот эту сопочку-то видите, – эвот, эвот чернеет?..
Иннокентий толковал им целый час, все обсказал подробно, куда идти, в какой балке ночевать, какие речки вброд переходить, а там вот то-то будет, а там вот это-то. Ну прямо отпечатал.
– Самое трудное вам – до белков добраться, – сказал сибиряк. – Как белки перевалите, близехонько и Беловодье ваше.
– До этих белков мы, поди, завтра же и доползем, чего тут, – проговорил Афоня, поглядывая из-под ладони козырьком на четко видневшийся снеговой хребет. – Рукой подать.
Сибиряк с презрением посмотрел на него, – он видел в нем человека никудышного, – сказал:
– Нет, паря, дай бог на четвертые сутки подойти к белкам-то. Поболе сотни верст до них.
– Да ты сдурел! – крикнул Афоня.
Действительно, хребты казались совсем близко. Афоня поднял камень, раскорячился, швырнул.
– Нет, паря, не докинешь.
Афоня стал сибиряка просить:
– Иннокентий, проводи нас, чего тебе.
Тот сверкнул глазами, как ожег:
– Каждого провожать – подохнешь. Поди, хозяйство у меня. Эт ты, лапотон, чего сказал. Башка с затылком!
Степан сурово тряхнул головой.
– Не хнычь! Найдем и сами. Не в таких местах хаживали.
Афоня сразу поверил в силу друга, знал Афоня – в разных переделках бывал Степан, жизнь Степана для Афони сказка, Афоня поверил другу, и весь испуг его прошел.
III
К следующему утру друзья осиротели. Они в глубокой котловине. Каменные стены окружили их со всех сторон так плотно, что, казалось, некуда идти: вот залегла едва приметным стежком их узкая тропа, а там упрется в стену и – шабаш. Громады каменных хребтов, клок неба сверху. В небе плавает орел. Зорко видит: две козявки еле движутся внизу. Ринуться камнем, ударить грудью, выклевать глаза? Зачем? Орлу – простор и высь, и нет ему дела до земных козявок. Солнце, воля!
А в глубокой котловине сырой, обманный сумрак, остатки ночи еще не ушли отсюда, и жар-птица только к полдню вздымет над козявками свой палящий ослепительный костер.
Афоня видит и орла в выси, мечтает о жар-птице за хребтами. Но главная дума там, в Беловодье, по ту сторону белков.
– Степан! А где же белые-то хребты? Со снегом-то? Ой, сбились мы с тобой.
Степан только улыбнулся.
– Настоящий ты Афоня.
Действительно, в их сегодняшней тюрьме взгляд упирался в стены, и только орлиным взорам был не заказан мрак и свет.
– Он ви-ди-ит, – улыбнулся и Афоня, подморгнул парящему в выси орлу.
Афонин чалый конь след в след шел за конем Степана. Степан сидел в седле прямо и уверенно, был с круторебрым конем своим одно. Он внимательным взглядом щупал все кругом, он чутьем охотника угадывал, куда вильнет тропа и что таится вот за тем зубчатым черным мысом, будет ли завтрашний день ясен и погож. За широкими плечами – наискосок ружье, переметные кожаные сумы набиты туго, конь гриваст.
Афоня же сидит мешком, ссутулился и будто дремлет. Он сорвал травинку, жует ее, рассеянно поплевывает, мечтает. Новизна поражает его ежечасно. Вот перед ним райское место, глаз не оторвать. Но стегнула тропка крутым взлетом вверх и вправо – ахнула душа Афони: все не узнать, все стало по-новому, занятней, краше.
И кричит Афоня:
– Степан! Степан! Чего это?
Отдаленный шумливый гул вдруг проник в тенистое ущелье, где ехали путники. Все креп и надвигался этот гул, все мрачней, непроходимей становилось ущелье. Афоня недоуменно прислушивается, стараясь задержать дыхание. Но вот кони вынеслись на залитую солнцем равнину, всадники враз повернули вправо головы и остолбенели: с поднебесной высоты возле самых путников грохотал осатанелый водопад. Падучая вода яростно била в камни, вся дробилась в облачную пыль, пыль взлетала туманными крыльями: вот один, вот другой крылатый призрак отделяются, тихо плывут под легким ветром, протягивают к путникам седые ласковые руки, плавно повертывают в сторону и манят за собой куда-то вдаль, в волшебную долину между гор. И вновь, и вновь без конца встают из грохота и дыма белоснежные видения, их зрак и все кругом в тумане, крутая радуга мягким кольцом обхватила все, призраки преклоняют головы с разметавшимися волосами, осторожно опускают крылья, чтоб не коснуться самоцветной радуги, плывут в неведомую даль и исчезают.
Водопад кропил всадников золотой, в блестках солнца, пылью; их лица были мокры, алмазный бисер горел на траве, на иглах беззвучно шумевшего кедра. Суровым грохотом был оглушен весь свет, от земли до солнца. От грохота колыхались горы, и, казалось Афоне, тряслась земля.
– Степан, голубчик! – что есть силы заорал он. – Вот так чудо!
Но голос его умер, грохот сдавил горло, запечатал слух. Афоня перекрестился.
– Ой, ты, чудо-то какое, – бормотал он. – Вот так диво!
Он не мог и не пытался понять, что в нем творится, он весь во власти этого дьявольского грохота, этих невиданных чудес, ему хотелось и хохотать и плакать, точно он распался надвое и обезумел. Торопливо и словно во сне, он крестился, крутил головой, сморкался в подол рубахи, взглядывал сквозь радугу на живую сказку, и вновь его душу охватывал непереносимый трепет, тяжкая радость мешала ему дышать.
– Ой, смерть! Ой, поедем скорей, господи! – карабкался он на коня.
И долго озирался на радугу, на встающие в тумане уплывающие призраки; грохот глуше, глуше, и, когда уткнулись путники в стену гор, было совсем тихо, безмолвная стояла ночь.
IV
Прошло три дня. Конь Афони рассек камнем ногу, стал хромать. Степан встревожился. Афоне нипочем. Он все мечтал о Беловодье, о радуге, рассуждал сам с собой, по привычке размахивая руками, иногда крестился и шептал молитвы. Степан был хмур: запасы убывали, дичь не попадалась на пути, а главное, чем ближе подъезжали путники к снеговому перевалу, тем дальше, казалось, отодвигался он.
Теперь ехать поневоле приходилось шагом. Да и тропа стала капризной, озорной: как будто нарочно, играючи, она заманивала человека вдаль, крутилась меж огромных камней, подпрыгивала вверх, на уступ скалы, чтоб вновь упасть в бездну и там где-то схорониться в серых россыпях курума.
Путники поняли, что началась опасность, что горный дух Алтая – человеку враг.
– Ну, Афоня, теперича держись.
– Держусь.
Конец четвертых суток караулил их. У Афони с утра щемило сердце, лицо бледное, напряженное, взгляд растерянный и странный.
Солнце в горах садится рано: горный дух Алтая любит прохладу, одиночество и мрак.
Солнце садилось. Гребни гор обрамлялись золотой чертой заката. Стало вдруг холодно. Тропа предательски манила путников на высокую скалу. Они послушно поддавались. Тропа шла обрывистым карнизом, бомом. Внизу гремела речонка. Вода в ней кипела белой пеной. Из ущелий к речке выползал туман.
– Степан, чего-то боюсь я.
Путники были на большой высоте.
– Гляди мне в спину, не гляди вниз, – не поворачивая головы, проговорил Степан.
Горы на западе стали черными, туман поседел, обозначился резче. Солнце скрылось, и лишь световые мечи рыхлыми пучками шли от него из-за гор в пространство. Сумрак вырастал со дна, поднимал свой горб – вот выпрямится, встанет и растопырит над Алтаем расшитую звездами хламиду.
Скала, по откосу которой карабкались лошади, почти отвесно падала в невидимую речку. Тропа лепилась сбоку, как карниз, по случайным, созданным природой, выступам, а скала вздымалась над тропой и уходила вверх, в хмурую глубь небес. Иногда ширина тропы была в сажень и больше – кони шли вольготно; то она суживалась до аршина: тогда даже Степана кидало в оторопь, сердце же Афони обмирало, он холодел, дрожал. Чтоб не загреметь в пропасть, кони в опасных местах шли в наклон, норовя прижаться к скале. Всадники помнили наказ сибиряка – сиди, не шелохнись, не мешай коню; всадники сидели смирно, Афоня чуть дышал. Кони отрывисто всхрапывали, бока дрожали; напряженный шаг их осторожен, точен. А тропа забирала выше, выше.
– Повернем назад, – слезно взмолил Афоня.
– Дурак, – ответил Степан. Голос его сердит, безжалостен. – Как же назад, ежели коню не оборотиться?
Афоня понял, что обратно повернуть нельзя.
Кони всхрапывали все чаще, в горах переливался, прыгал ответный храп. Копыта цокали о камень резко. Резко цокали в ответ копыта где-то там, в пространстве. И в пространстве, за хребтами, уже зачиналась ночь.








