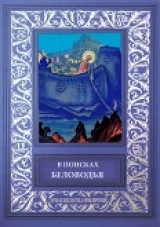
Текст книги "В поисках Беловодья (Приключенческий роман, повесть и рассказы)"
Автор книги: Вячеслав Шишков
Соавторы: Лев Гумилевский,Михаил Плотников,Г. Хохлов,Георгий Гребенщиков,Александр Новоселов,Алексей Белослюдов
Жанры:
Классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 32 страниц)
7. Земля колышется
Ушел Иосаф в горную келейку, в молитве и посте прожил студеную зиму.
Засветило солнышко. Зашумели немолчным гулом ручьи, запели переливчато, как струны звонкие, а в ответ им в синих небесах зазвенели птичьи голоса, несмолкаемые и день и ночь.
В щель, окном кельи именуемую, луч солнышка прокрался и заиграл ласково и весело по строгому Спасу Нерукотворному. И строгий Спас, принимающий только молитвы да вздохи, заулыбался.
Не стерпело сердце Иосафа, не шли молитвы на уста, вышел он из темной пещеры и обрадовался солнцу, и траве зеленой, и почкам набухшим. А внизу, где темный лес, как щетина, с гор спускается, где реки текут, видно было: дымки синие курятся – бабы на заимках лепешки пекут.
Радостно стало Иосафу, сел он на камень и заплакал, не зная почему.
Стал Иосаф в слезах беспричинных разбираться, в одиночестве он привык, как рыбак в сети, мысли беспричинные ловить и на этот раз поймал себя в слабости и маломощности. Но не поворотил он мысли греховные, не убил змея-обольстителя, а предался им, силу и слабость свою чувствуя.
Вспомнилось ему озеро Святоярское, свечи многие в руках верующих горящие, часовенки и звон колокола тайного. А потом он увидел лицо девичье, белым платком подвязанное. Лицо бледное, как мел горный, а гла… <далее в рукописи пропуск страницы>.
Подумал, подумал и начал с горы спускаться тропинкой нетороной.
Пришел на заимку к Околелову. Бабы обрадовались, шанег на стол ставили, угощают:
«Скушай, праведник Иосаф».
«Не праведник я больше», – отрезал Иосаф, а бабы так около голбца и обмерли, как Лотова баба.
«Не праведник, – еще раз повторил Иосаф, – не праведник, потому что не знаю, откуда мой искус исходит. От Бога или от него… Вспомнил я сегодня старое, что давно забыл, и понял как будто, что живем мы не так, как надо. Молимся, плоть убиваем, вериги носим, все Богу думаем угодить, а может, ему только одну докуку делаем. В праведники все лезем, а не лезли бы в праведники, поди меньше грешили».
И рассказал тут Иосаф о своей жизни.
«Там на Керженце одну девушку я полюбил крепко. Заперли ее в монастырь к старухам. Богу, мол, обещана, а не тебе, Иосаф. Извелась девка, угробили ее молитвами. А по какому такому закону? По священному писанию? Нет, врете, нельзя на священное писание все сваливать. Вон птицы и звери без писания живут, а что – грешнее нас?»
Совсем испугались бабы, даже закрестились:
«Ну, че испужались, поди, думаете, умом я рехнулся, – продолжал Иосаф. – Ум мой крепок, а плоть немощна, и перебарывать ее грех».
Пришли мужики обедать, бабы шепнули: «Иосаф-то заговаривается».
Отмахнулись мужики: «Больше хлопайте».
«Ну, Иосаф, как поживал? – спросили они. – Читать давай заобедную».
Причитал Иосаф молитву заобедную, сел обедать с мужиками и снова начал выкладывать:
«Радость у меня на душе была великая. Словно весь мир радовался. Пошел я в келью свою, пал на колени и потушил я эту радость, как лампаду неугасимую. А зачем я это сделал? Да потому, что мы радости боимся, в печаль облеклись, заботами себя сковали. Знаем одни поклоны и больше ничего».
Переглянулись мужики.
«Ты че-то, отче, заговариваешься, – заметил Околелов, – разве от безлюдства затмение на тебя нашло».
«Нет, откровение я обрел, откровение, а не затмение, – ответил он, – и вижу теперь я, вы все во тьме ходите, лбами стучась, друг дружки ненавидя. К вам солнце, а вы в подполье, да давай поклоны махать. Кто больше отмахал, настукал, тот, мол, и больше заслужил, тот мол ближе к Богу».
Никто не стал спорить с Иосафом. А он тоже замолчал и с грустью думал: «Разве летучей мыши солнечный свет нужен?»
После обеда опять на гору к себе пошел.
По дороге его с узелком нагнала Софьюшка.
«Отец Иосаф, отец Иосаф, – запыхавшись, кричала вслед, – калачики возьми с собой».
Долго не слышал Иосаф Софьюшку. Наконец, нагнала его она:
«Вот калачики, – скороговоркой начала она, – да еще, отец Иосаф, я хотела тебя спросить, куда та девка девалась, которую ты полюбил. Наши не поняли, – она указала вниз, – а я поняла: сегодня она в сердце тебе стукнула, весной-то».
Улыбнулся Иосаф, сел на траву, усадил с собой Софьюшку и как на духу вспомнил еще раз свою неворотимую любовь.
8. Конец Бухтарминской вольницы
Теснее сжималось кольцо заводов вокруг вольной Бухтармы. Все чаще и чаще рыскали, как волки, горные команды и казаки, чиня разор и пожары.
Люди уходили от злодейства в горы и леса, а избушки сжигали никонианцы. С тяжелым сердцем возвращались на потухшие угли сожженных заимок каменщики и горько жаловались темному лесу и дальнему небу, где должен проживать добрый Бог.
«Докуда мы будем, как звери лесные, метаться и жить в великом страхе и постоянном бережении».
За последние годы много пришло в бега за Камень люду никонианского: из беглых заводских крестьян, солдатов и варначья разного.
Недружный народ тот был: злой, буйный и не артельный. Жил он сам по себе и кержацких законов не придерживался.
«Мы не староверы, – кричали они на сходках, – и вашего мира не признаем. Мы сами по себе, а вы нам не указ. Пусть ваш мир со своими порядками заткнется».
«Раз на одной земле с нами живете, – отвечали им староверы, – и власть цареву не признаете, как и мы над собой, то надо порядок держать».
«Вы держите, а нам порядку не надо, – галдели беглые, – устали мы от порядку».
Пришла почти под Бухтарму партия горных рабочих с начальством. Ждали, что опять будут палить заимки, но вышло иначе. Начальство не потревожило каменщиков, другим было занято, да и боялось своего малолюдства в диком краю.
Осмелели и каменщики.
«Пойдем, попытаем начальство, – решили они, – что нам будет за объявление».
Хотели послать Иосафа, как всегда делали, да тот наотрез отказался.
«Как антихриста, душа власти не приемлет», – диким голосом заревел он.
Оставили его в покое и пошли к начальству.
«Заводы подходят ближе к нам, жить стало тяжелее, решили мы русской царице объявиться. Скажи нам, как это можно сделать», – спросили посланные начальство.
«Я не по этой части, – заявило начальство, – я по горному делу, а если вы объявляться хотите, то надо послать своих людей с прошением на Бухтарминский рудник».
Собрали вскорости весь мир, долго кричали, шумели, спорили: ставать ли под державу царицы или в бегах находиться, и все-таки порешили: «если полное прощение будет, то под державу стать, а если не будет – в бегах находиться».
Послали в Бухтарминский рудник беглого драгуна Быкова и стали ждать худого или хорошего.
Приехал Быков с чиновником Приезжаевым. Вычитал тот чиновник, что хорошо быть гласными правительству, платить подати и защищать землю русскую от иноземцев. Потребовал у них перепись всего населения.
Делать нечего, согласились каменщики, сочинили грамоту царице о прощении и с тяжелым сердцем разъехались по заимкам ждать решения.
Не успокоился Иосаф. Все молчал он, а когда пришла весть о прощении, заговорил, как гневный протопоп Аввакум:
«Продали вы душу свою антихристу на веки вечные, и нет вам теперь спасения. Маломощные, самое великое вы продали за чечевичную похлебку. Не здесь ли в лесах была земля Беловодская, не здесь ли вы обрели свободу и жили без антихристовой печати и никонианской власти. Свободу свою вы продали и в яму темную спустилися. Нет, я не с вами, отыде от меня сатано».
И самое чудное случилось потом: выпрямился Иосаф, как гневный пророк Илия, и голос его, как труба архангела, загремел:
«Слышите вы, маломощные, звон дальних колоколов? Слышите, как они поют звоном немолчным? Слышите, как бухает тысячный колокол? Это в Беловодье, а оно недалече. Вижу я незримыми очами эту страну и не покорюсь я печати царской. Пусть мои кости истлеют в пустыне дальней, пусть жажда сожжет меня, как траву степную. Не покорюся я. Не у всех у вас вера умерла. Братья, кто не боится трудов великих, пойдем со мной в ту землю свободную. Мы найдем ее».
Заколебались многие. Как колокол беловодский, как мед пьяный, была та речь громка и пьяна. И многие услышали дальний звон и незримыми очами увидели ту землю дальнюю.
«Мы с тобой, Иосаф», – сказали они просто.
Вскорости они снарядились в дальний путь, и тяжело было то прощанье и расставанье с оставшимися под царицыной рукой.
Вспомнилось о многом, как старец Кирилла их вел в Беловодье и как веровали их сердца в святость земли. А потом пришли сюда, обжились, прилепились к земному и отстали от тех немногих, что с Иосафом уходят.
Проходили года, слабела и дробилась древляя вера стариковская, изменился народ-дуб, а вера в далекое Беловодье не умирала. Она, как тлеющий костер, то чадила, то вспыхивала вновь ярким пламенем, и новые толпы уходили из-за Камня на поиски той земли, в Опоньское царство.
В одном скиту, в темном углу, далеко от икон, висит черная, потрескавшаяся от времени «икона». Ей не молятся, но святость она имеет. Наивный художник, видимо, беглый монах-живописец, по заказу стариков написал ее.
На ней изображен Иосаф, огненный человек, борец за правду и бегун в землю Беловодскую.
Сохранилась и его келейка. «Как будто на костях», – говорят староверы, видимо, вспоминая многие скиты, построенные на костях мучеников за старую веру, и высказывая тем самым сожаление об отсутствии мучеников в Бухтарме.
Скоро умрет наивная вера в старую Беловодскую землю, ибо человечество на путях к новому Беловодью, более прекрасному и более реальному и близкому.
Мир старине.
Лев Гумилевский
БЕЛЫЕ ЗЕМЛИ
Роман
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Глава перваяДВА ПУТНИКА
Шли два приятеля вечернею порой
И дельный разговор вели между собой
Крылов
Умный товарищ – половина дороги.
Пословица
Весною лет двадцать, не больше, тому назад вечером к станции Бударинской, лежащей на Гурьевском тракте, приближались два пешехода. Из-под свинцового слоя пыли на ногах их просвечивала меловая пыль Белых горок, в тени которых прячется Уральск. Запоздавшие путники сделали за день не малый переход.
Они шли не рядом, а гуськом, один за другим, хотя в том никакой нужды не было: почтовым трактом хаживали казацкие полки. Видимо, делалось это по привычке или по уговору и не мешало им беседовать друг с другом.
Впрочем, говорил больше тот, что шел сзади. Был он высок, худ, прям и весел, как расстриженный дьякон, впервые показавшийся на улице без стеснительных своих одежд. Он шел бодро, шумно и с какой-то приятной наглостью посматривал кругом, часто посмеиваясь. Такая веселость охватывает людей, только что вышедших из тюрьмы или больницы.
Наоборот, шедший впереди его человек был угрюм, неуклюж, осторожен в движениях, мешковат на ходу и мал ростом. Он производил впечатление горбуна: руки его были неестественно длинны, голова сидела глубоко в плечах и в ходьбе его и манерах чувствовалась неловкость.

Однако никаких внешних признаков горба заметить было невозможно. Обстоятельство это, бросавшееся в глаза при первом взгляде на путника, делало его незабываемым.
Сумрачный, как посеревшие от зноя поля вокруг, он оглядывался по сторонам ее реже, чем его товарищ, но делал это без всякого оживления. Похоже было, что осматривался он из Осторожности; характеру его, действительно, было присуще это качество. Веселость спутника ему не нравилась. Он не раз искоса поглядывал на него, прислушивался к его мечтательной болтовне, выбирая минуту, чтобы и за то попрекнуть.
Но повода к тому не находилось.
– Ну, будет эта станица последнею! – говорил между тем тот, закидывая назад голову и плутая веселыми глазами по кручам сиреневых облаков, сдвигавшихся над закатом. – А там… ударимся с тобой в степь, Алексей! Много у нас денег набрано?
Он примолк на минуту, ожидая ответа. Угрюмый товарищ его не счел нужным ответить, но, как-то по– птичьи подпрыгивая, зашагал быстрее, словно не желая и слышать пустой болтовни.
Спрашивавший принял это без обиды. Может быть, были в характере его спутника иные черты, ради которых не обращал он внимания на эти, проявлявшиеся столь резко; может быть, просто привык он к его молчаливости.
В самом деле, тот почти не разговаривал, а если и отвечал иной раз назойливому своему спутнику, то, не оглядываясь на него, отвечал небрежно, без всякой охоты поворачивая язык.
Оба они были, в монашеских полукафтаниях и скуфейках, «о разговор их носил характер мирской и житейский.
– Иду и сочиняю речь казакам, – вновь заговорил высокий, мало заботясь о том, слышит ли его товарищ, – любят у нас сказки про хорошую жизнь! За цветистое слово приветят, за сказку накормят, а за песню и бражки поднесут… Ух, ты! – воскликнул он вдруг. – Жрать-то как хочется! Да и не ел я давно ничего легкого. Ты уральский каймак едал. Алексей? – подумав, спросил он.
Алексей на этот раз пробормотал что-то, но ветер снес его слова в сторону, и шедший сзади ничего не разобрал. Он помолчал, поджидая, не прибавит ли чего-нибудь еще неразговорчивый его спутник, и от скуки оглянулся на поле, где ветер крутил вихрь пыли.
Солнце сползало к земле. Кое-где в просветах Прибрежных рощ показывались спокойные воды Урала. Они блистали в лучах заходящего солнца, как литое по степи золото. Засмотревшись, приостановился мечтательный путешественник, и бог весть, какие мысли вдруг и куда унесли его от действительности.
– Что стал? – резко окликнул его ушедший вперед приятель. – Ночевать в поле будем, что ли?
Тот догнал товарища.
– А слыхал ты, Алексей, – глухо спросил он, – что около Калмыкова, в ярах на Урале вымыло кости мамонта? Ох, древние эти поля! Много они видели… За Покровским монастырем, под Уральском были каменные могилы, лет по пять тысяч каждой… Теперь их следа нет, а мальчишкой я видывал… Что за люди тут жили? Какие звери таились? Жили, жили – и нет ничего…
Нет, решительно был этот человек веселого нрава; он и здесь нашел повод для смеха и рассмеялся с ребяческой резвостью.
Спутник его обернулся наконец и, подождавши, пока он высмеялся, сказал:
– Дивлюсь я, Мелетий, зачем ты в Покровский монастырь попал… Да еще мальчишкой.
– На каникулы к матери крестной ездил, – ответил тот, – я ведь не то, что ты, Алексей, я в семинарии учился…
– По руке видно, как пишешь!
Разговор оборвался. Алексей втянул голову в плечи и стал походить на огромного ворона, прыгающего впереди своего хозяина. Длинные руки его, засунутые в карманы полукафтанья, выпячивались из плеч от своей длинноты и напоминали ключицы сложенных крыльев. Тонкие ноги с большими ступнями выглядывали из-под подоткнутого подола, как птичьи лапы. Сходство это не укрылось от Мелетия.
– Ты в переселение душ веришь? – спросил он вдруг и настолько серьезно, что спутник его тотчас же откликнулся.
– Нет! – буркнул он, но хриплый звук его голоса только довершил сходство с вороном и вызвал смех у товарища.
– Жалко! А то я сказал бы тебе, кем ты раньше был!
– Что ж, разве и этому в семинарии учат?
– Да, учат! – неохотно подтвердил Мелетий и замолчал, дивясь нраву спутника своего, которого так-таки и не удавалось ему склонить на шутку.
Но собственный его характер был не таков, чтобы он мог промолчать слишком долго. Не сделал он в молчании и десятка шагов, как уж снова подступила к горлу охота поговорить.
– Вот и Бударинская! – закричал он, помахивая палкой и вглядываясь в даль, где темнели неясные призраки станичных изб, ометов соломы и колодезных журавлей. – Отмахали мы больше шестидесяти верст… Хорошо, брат, ходить по тракту: нет-нет да и подвезет добрый человек! Так вот она какая, Бударинская, вот какая, – повторил он несколько раз и добавил задумчиво: – Слыхал я об ней, слыхал!
– Про что это? – не без тревоги осведомился Алексей.
– Так, сказки, – отвечал тот. – В жизни без сказок не обходится… Говорят: тут где-то разбойники зарыли будару, полную золотом и серебром. Многие клад искали да не нашли…
А за станицей так и осталось прозвание Бударинской. Да, не нашли… Не было, значит, счастья никому!
– Попытай ты, – сухо посоветовал монашек и впервые, кажется, за всю дорогу хриповатый смешок выкашлянул он из груди, – ты счастливый ведь!
– Нет, в нынешние времена счастье не помогает, – заметил Мелетий, не обратив внимания на насмешку, – а я только умен да смел… Смелые-то городами владеют! Из этой самой Бударинской Пугачев начал двигаться на Яицкий городок. Здесь он и титул императора принял, отсюда и киргизскому хану письма писал… Разве на счастье он его поймал? На хитрость! Тот помогал Пугачеву, а клялся губернатору… Пугачев толк в людях знал: надо запрашивать больше… Сколько ни уступить потом – все с прибылью… Где же тут счастье? Счастья тут нет!
– А что есть?
– Голова на плечах, весело пояснил Мелентий, – а более того и не надо ничего. Вот видишь, – продолжал он, взявшись за подол своего полукафтанья и потряхивая им, как делают женщины, показывая шелковую шумящую юбку, – что значит голова на плечах? – Кому нас узнать в этих хламидах? Идем – никто нас не трогает…
– Типун тебе на язык! – перебил его Алексей. – Гляди, не хвалися заранее… Дело-то еще не кончено!
Мрачность маленького человека не заражала его приятеля.
– Не велики птицы станичные начальники, откупимся! Нет, Алексей, теперь бояться нечего: в любой избе укроют…
– Посмотрим! – не смягчаясь нисколько, остановил его Алексей. – Что зря болтать?!
Он продолжал идти вперед как вожатый и, видимо, хотел руководить шедшим вслед за ним не только в дороге, но и в житейских делах. Тот подчинился и в самом далее более о том не говорил.
Так шли они несколько времени молча.
Вечер и тишина покрывали поля. Солнце упало в темносерые облака над синей полоскою леса; тонкой каймою он бежал по берегу Урала. Едва лишь скользнули длинные тени до черным полям, заверещали кузнечики. Стоном стал в степи неумолчный свист. Шорох шагов не слышался далее придорожных столбов. В сумерках, издали глядя на путников, можно их было принять разве за черные призраки, только вставшие из могил; кладбище, кстати, только что они миновали, приближаясь к станице.
У околицы друзья остановились и сошлись, совещаясь. На этот раз говорил однако Алексей; спутник же его лишь слушал, кивая головой.
– По-моему, сейчас же, сейчас же, – настаивал тот, – надо объявляться. Нечего тянуть время, да и пешком идти надоело… Пусть везут отсюда хоть с колокольцами… Вся станица, почитай, староверы. Хоть в первую избу пойдем…
– Пойдем. А там ход вещей покажет!
Уродливый монашек снова выдвинулся вперед, входя в станичную улицу и принимая на себя бешеную атаку деревенских дворняг. Отбившись от приступа дубовым своим посохом, он свернул к первой избе и и стучал в окно.
На стук вышел бородатый казак. Он посмотрел на гостей неприветливо, должно быть, ожидая просьб о подаянии.
Алексей, всюду являвшийся проводником своему товарищу, выступил вперед и поклонился.
– Не знаешь ли, добрый человек, – строго и не без сознания своего собственного достоинства спросил он, – где бы могли мы переночевать у хороших людей, сироты или вдовицы, чтобы могла принять от нас за ночлег?
Гости такого рода встречались на почтовом тракте нередко. Не многие из них все же заговаривали о плати. Казак, не отвечая, попробовал дознаться о самих прохожих.
– А вы кто? Откуда?
– Из большого далека, люди прохожие!
– Монахи?
– Монашеское одеяние и послушники носят.
– Куда идете?
– Да только до тех мест, куда посланы.
Осторожный монашек понравился хозяину. Он почувствовал в нем гонимого и спросил о главном:
– Како веруете?
На этот раз гость ответил с истовостью верного хранителя старой веры:
– Как деды и прадеды, держимся древлего благочестия и иной веры не знаем.
Он окрестил себя высоким и строгим крестом двуперстного сложения; хозяин стал приветливее.
– Зайдите хоть к нам, – сказал он, растворяя калитку, – понравится – и заночевать можете.
Он оглянулся, поджидая, пока войдут во двор гости, чтобы за ними запереть. Тогда-то он и увидел сцену, крайне его удивившую. Ведший с ним переговоры острословый монашек низко поклонился своему спутнику, приглашая его войти. Когда тот величественным кивком изъявил согласие монашек метнулся вперед, с почтительным проворством, широко распахнул перед ним дверь и держал ее так, поклонно нагнув голову до тех пор, пока тот не миновал калитки.
Казак чуть не разинул рта. Монашек же, как ни в чем не бывало, забежал вперед своего спутника и таким же порядком держал перед ним дверь в сенях, потом в избе. Входя, тот благословил с порога все окружающее, а потом, крестясь и благословляя, вошел в просторную горницу.
Хозяин забыл об открытой калитке. Он настиг монашка и схватил его за плечо.
– Стой, – прошептал он, – стой, говори: кто это? Кого это ты так чтишь? Почему?
Вошедший, не слыша, что делалось сзади него, погрузился в молитву перед темными ликами святых. Божница занимала весь передний угол и стеклянными крыльями прихватывала стены с обеих сторон до окон; она укрыла загадочного гостя. Только силуэт его пал тенью на зеленое серебро риз.
Тогда монашек поднялся на цыпочки до хозяйского уха и прошептал:
– Посол святейшего патриарха, преосвященный Мелетий, епископ Беловодский! Вот кто!
Несколько мгновений казак находился в оцепенении. Застыл ли он в немом уважении к высокому посетителю или был он подавлен новым и достоверным известием о Беловодьи, трудно сказать. Во всяком случае оправился он не раньте, чем монашек, почтительнейше истребовав от епископа шелковый плат, предъявил его хозяину.
– Вот и грамота святейшего патриарха, – сказал он, – прочти-ка, хозяин!
Смущенный казак не знал, как взять ее в руки.
– Да я того, брат мой… Не ведаю я грамоты, – бормотал он, принимая документ, – не учен я.
Он держал на вытянутых руках тонкий шелковый платок как сорочку новорожденного, дивясь ее легкости и неуклюжести своих рук. Монашек спросил, нет ли в доме грамотея, и тогда он обрадованно затряс рыжей, как дубовый клин, бородою.
– Как нет! Есть, есть! Сын родной у меня здоров, на грамоту, всякое читает. Тит! – заревел он вдруг, поворачиваясь к двери, – Тит, поди-ка сюда! Живо!
На зов явился коричневый кривоногий паренек. Он был немножко смущен и присутствием постороннего и странным предметом, лежащим на вытянутых руках отца, но тотчас же оправился и в отношении грамоты проявил большое любопытство. Оно обнаружило в молодом казаке не малую образованность.
– Пергамент, что ли? – делая ударение на последнем слоге: Пергамéнт, – пробормотал он, принимая и ощупывая осторожно шелковый платок. – Не видывал никогда, чтобы на таких писали…
– Да вряд ли доводилось тебе и читать такое! – грубовато добавил Алексей. Он постепенно менял свой тон в зависимости от поведения хозяев.
Хитрая славянская вязь грамоты нисколько не смутила Тита. В древних старообрядческих книгах, потаенно хранимых дедом, он привык в ней разбираться.
Без затруднения прочел он отцу:
«Божией милостью, мы, смиренный Митрофании, патриарх славяно-беловодский, камбайский, японский, индостанский, Ост-Индии а Фест-Индии, и Юст-Индии, и Африки, и Америки, и Земли Хили, и Магелланской земли, и Бразилии, и Абиссинии, в заботах об изыскании средств для поддержания и украшения святых церквей Беловодского края повелеваем любезному во Христе брату нашему Мелетию, епископу Беловодскому, приняв образ кротости и смирения, с единым послушником отправиться в земли Святой Руси, на Урал и за Волгу и на Кавказ сбирать пожертвования на святое сие дело. Возлюбленных же во Христе Иисусе братьев наших, живущих в сих землях, призываем внести свою лепту на велелепие храмов Беловодья, где единственно блюдется древлее благочестие и преемственное от апостолов священство».
Роспись патриарха, несколько витиеватая, не сразу далась чтецу. Но руководимый монашком, прочел он и ее. Она гласила: Смиреннейший Митрофаний, старой веры хранитель, патриарх славяно-беловодский. Вслед за тем была так же прочтена, ощупана и взята на зуб огромная восковая печать с изображением двуперстного сложения, окруженного в треугольнике тем же высоким титулом:
«Патриарх славяно-беловодский, камбайский и прочая и прочая».
Отвечая на безмолвный вопрос отца, сын солидно кивнул головою. Так утверждал он всякие хозяйственные сделки его, если они сопровождались письменными документами. Отец верил сыновним глазам, как своим. Он принял от него грамоту, словно священный, переполненный драгоценным миром сосуд, с осторожностью необычайной коснулся ее губами и так же благоговейно передал платок монашку. Затем, широко крестясь, он направился к послу патриарха. Сложенными в пригоршни руками он потребовал от «его благословения.
Благословив и протянув руку к губам мужика, предупредил его тихо высокий гость:
– Прими меня, как странника, чужим не твори Своим же, блюдущим древнюю христову веру и верным, объяви скорее. Я долго у тебя не буду… От слуг же царевых береги. Сыну накажи… Не будет прибежища гонимым, коли откроем пути в Беловодье поганым никонианцам!
Монашек, блаженно улыбаясь, кивал головою в такт наказу преосвященного. Хозяин поманил сына и, толкая его к гостю принять благословение, приказал коротко:
– Слыхал? Блюдись сказать что лишнее!
Тот подошел к епископу без большой охоты и проделал церемонию без всякого удовольствия. Обряд, столь распространенный у церковников, был неведом лишенным священников староверам. Титу он показался диким. Руки благословлявшего давно не знали воды и мыла. К тому же, едва лишь он наклонился по примеру отца ткнуться в них губами, как отец закричал:
– Как стоишь, Тит?
Тит приложился к руке епископа скорее носом, чем губами, и торопливо оглянулся на отца. Он не понял, чем мог его прогневить. Отец подошел к нему и пинком составил его ноги плотно друг к дружке.
– На молитве ног не расставляют, бес проскочит! – проворчал он.
Смутившийся парень поклонился еще раз высокому посетителю и отошел. Он глядел, как вслед за ним стали подходить вызванные с жилой половины мать, бабушка, сестра. В сумрачном углу, охваченном стеклянными крыльями божницы, сам темный, как лики святых на закопченном серебре их риз, благословлял подходивших епископ. Улыбка его понравилась молодому казаку, но монашек, суетившийся возле, был отвратителен. Длинные руки, худые и жесткие свисавшие с угловатых плеч, действовали уже как-то слишком проворно и ловко. Голова же, втянутая в плечи как у горбуна, была в противоположность рукам недвижна, и в этом несоответствии было что-то неприятное.
Впрочем, у парня недоставало времени составить себе более определенное мнение о гостях. Отец приказал позвать деда, а затем пойти оповестить соседей о прибытии столь редкостных и необычайных странников. Волнение, охватившее отца, плохо скрытое под личиною благоговения, передалось и сыну.
Тит бежал гумнами, задыхаясь: ему чудился набат. В семье его, как во всех других казацких семьях, из уст в уста передавались рассказы о чудесном Беловодьи. Не без участия их, Кафтанниковых. были отправлены с Урала ходоки вызнавать о загадочном крае. Лет тридцать назад один из неугомонных дядьев Тита ушел в праведную страну и остался гам. О богатой и счастливой жизни его ходили прочные слухи. Убаюкивая маленького Тита, мать певала над ним сказку:
– Вырастешь, Титушка, будешь храбрый и смелый и вольный казак. Отправившись в степь, далеко-далеко, отсюда не видать никому, к дяде родному Прохору Федоровичу, заживешь на воле богато и счастливо… Будешь служить не царю, а господу Иисусу Христу, сыну божию…
Эту сказку знал он наизусть. С нею и вырос младший Кафтанников. Слышал от него дед не раз, как, сверкая калмыцкими глазенками, гордо закидывая кудрявую, под кружок стриженую головку, кричал он:
– А мне нет места на свете божьем, что ли? Я как дядя Прохор Федорович! Я в Беловодье уйду…
– Дед учил внука премудростям древнего благочестия. От корявой головки пахло воском и переплетами в тайниках хранимых трехсотлетних книг. Но учитель не забывал и земных обязанностей ученика.
– Твоя служба, Тит, царю нужна! – напоминал он.
– Богу еще нужнее! – спорил тот.
И вот с той странной неожиданностью, с какою приходит к нам все то, чего мы подолгу упорно и страстно ждем, вдруг превратились в живую действительность сказка юности при появлении живых беловодских гостей.
Мудрено ли, что слышался Титу серебряный набат беловодских храмов? Мудрено ли, что с каждым шагом вперед охватывало молодого казака все большее и большее волнение?








