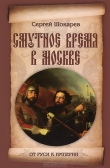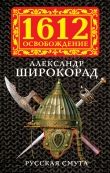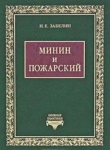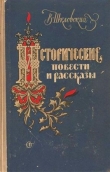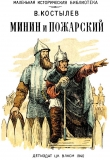Текст книги "Герои Смуты"
Автор книги: Вячеслав Козляков
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 26 страниц)
Давление Лжедмитрия II только подтолкнуло бояр к решению служить королевичу Владиславу. 17 (27) августа 1610 года был заключен известный договор об этом, и в Москве принесли присягу новому царю, похоронив надежды на царствование других претендентов. В начале сентября двор Лжедмитрия II вынужден был покинуть свою ставку в Николо-Угрешском монастыре и возвратиться в Калугу. До гибели самозванца оставалось совсем немного времени.
В последние месяцы калужского сидения Лжедмитрия II боярин Иван Заруцкий совсем незаметен – возможно, он залечивал раны, полученные в подмосковных боях. По-прежнему он должен был входить в Думу Лжедмитрия II и участвовать в разработке плана, занимавшего самозванца. В ожидании рождения Мариной Мнишек наследника «царик» задумал поход к Воронежу и Астрахани. По свидетельству Конрада Буссова, имевшего достоверные сведения из Калуги, оттуда в низовья Волги послали передовой отряд казачьего атамана Ивана Кернозицкого [173]173
Буссов Конрад.Московская хроника… с. 138; Тюменцев И.О.Смутное время в России… с. 560.
[Закрыть]. Самозванец хотел привлечь на свою сторону татар Ногайской орды. Позднее именно этот план осуществит сам Иван Заруцкий, в том числе опираясь на почву, подготовленную эмиссарами Калужского вора. Следовательно, есть основания думать, что Заруцкий не просто знал об этих планах, а был одним из советников в разработке стратегической операции, которая помогла бы вдохнуть в движение сторонников «царя Дмитрия» новые силы. Однако внезапная смерть самозванца отменила все планы. 11 декабря 1610 года князь Петр Урусов отсек Лжедмитрию II голову…
К концу жизни Лжедмитрия II вокруг него оставались люди, которым некуда было отступать. В его русском дворе больше нельзя было увидеть множество «перелетов» из знатных родов. С Заруцким пришли донские казаки; они вместе с ногаями – «юртовскими татарами», жившими в Калуге отдельной слободой, и заменили прежнее наемное польско-литовское войско. Некоторые из наемников еще оставались в войске самозванца, но их численность была не сравнима с тушинскими временами. Как выясняется, находились в Калуге и «старые знакомые» Заруцкого – романовские татары. Все они в страхе бежали из города, опасаясь мести за действия своего соплеменника – ногайского князя Урусова. Из расспросных речей двух романовских татар, Чорныша Екбеева и Яна Гурчеева, 14 (24) декабря 1611 года известно о большой тревоге, возникшей в Калуге. Неуютно почувствовал себя даже Иван Заруцкий, который на следующий день после убийства самозванца «в среду ввечеру хотел бежати из острогу». В дело вмешались калужские посадские люди: «и его изымали миром, а из острогу не упустили» [174]174
Акты исторические, собранные и изданные Археографической комиссией (далее – АИ). СПб., 1841. т. 2. № 307. с. 364-365; Козляков В.Н.Марина Мнишек. с. 272—273.
[Закрыть].
В момент гибели Лжедмитрия II многие в Калуге растерялись и были в состоянии неопределенности и страха. Марина Мнишек, беременная ребенком убитого самозванца, была уверена, что ей осталось жить несколько дней – пока не родит. Дума и двор убитого «царика» раскололись, волновался калужский «мир». Оставшийся во главе калужской Думы погибшего самозванца князь Дмитрий Тимофеевич Трубецкой еще мог питать надежду на снисхождение Боярской думы в Москве к действиям заблудшего Гедиминовича после присяги королевичу Владиславу. Все же другие сторонники «царя Дмитрия» должны были определиться, кому служить дальше. Известный участник самозванческого движения еще со времен Ивана Болотникова князь Григорий Шаховской «и все лутчие воровские люди» предложили послать «с повинною к Москве». Но в такой переворот в действиях князя Шаховского, по расспросным речам упоминавшихся романовских татар, «не поверили» даже сами калужане. Угроза Ивана Заруцкого уйти из Калуги могла быть связана тоже с предложением о присяге королевичу Владиславу. У Заруцкого уже имелся опыт службы королю и королевичу, и он не ждал от такой присяги ничего хорошего. И всё же в Калуге в итоге решили присягнуть королевичу.
Иван Заруцкий, напротив, нашел возможность продолжить «дело Дмитрия» даже после того, как «царика» не стало. Он взял под свое покровительство Марину Мнишек и рожденного ею сына-«царевича», нареченного Иваном Дмитриевичем. Православный крещеный царевич Иван был противопоставлен католику Владиславу. Заруцкий вместе с Мариной перебрался в Тулу. Расчет тех, кто ушел вместе с ним, был прост: заставить считаться с собой главных врагов – московскую Боярскую думу и короля Сигизмунда III. Раньше казаки служили отцу, теперь готовы были послужить сыну, тем более что управление и сама судьба семьи убитого калужского «царика» оказались в руках Ивана Заруцкого. Казачий предводитель повторил действия Ивана Болотникова, сделав каменные укрепления Тульского кремля своей резиденцией, куда для борьбы с ним снова надо было отправлять целое войско.
Из внутренней усобицы армию убитого калужского самозванца, разделенную на две части в Калуге и Туле, вывело обращение в Северские города организатора земского движения рязанского воеводы Прокофия Ляпунова. В конце декабря 1610-го – начале января 1611 года были достигнуты первые договоренности о совместных действиях и сложился союз Рязани, Тулы и Калуги. И не случайно, что именно Прокофий Ляпунов, Иван Заруцкий и князь Дмитрий Трубецкой стали главными руководителями Первого ополчения. Однако готовить их поход под Москву приходилось с большой осторожностью.
Действия Ляпунова, первым поставившего под сомнение присягу королевичу Владиславу, давно вызывали ненависть как у короля Сигизмунда III, так и у главы московского гарнизона старосты Александра Госевского. Лучшим способом для того, чтобы покарать рязанского строптивца, было отправить против него и его союзников верные королю силы. В первую очередь запорожских казаков – «черкас», ходивших разбоями всюду и не разбиравших, кто и в чем виноват. Ивану Заруцкому в Туле приходилось сдерживать «черкас», направленных в украинные города королем Сигизмундом III [175]175
См.: Флоря Б.Н.Польско-литовская интервенция в России… с. 321,335,360.
[Закрыть]. Из грамоты гетмана Яна Сапеги запорожцам от 21 (31) января 1611 года известно, что он просил, чтобы те «внимательно смотрели» за действиями Ляпунова и Заруцкого, препятствуя их неприятельским замыслам. В свою очередь запорожские казаки атамана Наливайки сообщали гетману Сапеге 22 января (1 февраля) 1611 года о большой силе, собранной Заруцким [176]176
Dziennik Jana Piotra Sapiehy… S. 296,298; А И.Т. 2. № 144. с. 166-167.
[Закрыть].
Положение гетмана Яна Сапеги, со времен подмосковного стояния самозванца в Николо-Угрешском монастыре отказавшегося от поддержки «царя Дмитрия», было очень сложным. Сапега и его войско не пошли сразу на королевскую службу, но позволили себя «уговорить», чтобы им отдали в кормление Северские земли. Встав в Можайске, Мещовске и ряде других «малых» калужских городов, сапежинцы – бывшие союзники тушинцев – образовали живой щит между войском Лжедмитрия II в Калуге и силами короля Сигизмунда III, оберегая от «забегов» и нападений королевских фуражиров в Брянской и Смоленской землях. Позицию гетмана по отношению к действиям земских сил внутри Русского государства можно обозначить как нейтральную, но всё же она была более враждебной, чем союзнической. На словах гетман мог говорить о союзе, но прежде всего ему необходимо было добиться уплаты в полном размере жалованья, «заслуженного» его войском в боях за самозванца. Король же соглашался платить жалованье только тем, кто поступал к нему на службу, игнорируя все прежние службы самозванцу «Дмитру». За долги «обманщика», как называли Калужского вора в окружении Сигизмунда III, король расплачиваться не собирался. Боялись калужане и того, что «союз» нужен не с ними, а, образно говоря, с калужской городской казной.
Гетман Ян Сапега получил письмо от Боярской думы, призывавшее его выступить против Ляпунова, 14 января 1611 года. Однако он использовал это письмо в собственных интересах, решив показать, что готов действовать заодно с калужанами, где во главе города оказался присланный из Москвы для приведения к присяге королевичу Владиславу боярин князь Юрий Никитич Трубецкой. «Да генваря, господине, 14 день, – сообщал он князю Юрию Трубецкому «с товарищи», – писали ко мне с Москвы бояра князь Федор Мстисловской с товарыщи, что отложились от Москвы Прокофей Ляпунов со многими городы; и писали ко мне с великим прошеньем бояре с Москвы, чтоб я шел на Рязанские места на Прокофия Ляпунова, и на вас, и на те городы, которые с вами в совете». Однако вместо этого гетман обратился в Калугу, предупреждая земские силы о своей готовности к общему «совету» с ними: «…А я московских бояр не слушаю и с вами битися не хочу, хочу с вами быти в любви и братьстве» [177]177
Его послание было отправлено не ранее 24 января (3 февраля) 1611 года, которым датировался упомянутый в грамоте приезд князя Д.М. Черкасского к Сапеге из Калуги. См.: ААЭ. т. 2. № 182. с. 310—311; Русский архив Яна Сапеги… с. 97—98.
[Закрыть]. Дело дошло до того, что в своем стремлении уничтожить Ляпунова бояре не остановились и перед тем, чтобы послать от имени московской Боярской думы грамоту и Ивану Заруцкому в Тулу, надеясь привлечь бывших сторонников самозванца на свою сторону. Однако Иван Заруцкий переслал грамоту московских бояр самому Прокофию Ляпунову. Рязанский воевода уже знал о нависших над ним угрозах. 31 января 1611 года он писал нижегородцам: «Да бояре, господа, пишут с Москвы на Тулу, чтоб они к нам не приставали, а к нам они на Рязань шлют войною пана Сопегу…» [178]178
СГГ и Д. т. 2. № 228. с. 498.
[Закрыть]Позднее у Прокофия Ляпунова оказалась и грамота гетмана Сапеги в Калугу, из которой становилось ясно, что бывший гетман самозванца не собирается воевать на Рязани. Осторожность калужских воевод князей Юрия и Дмитрия Трубецких, переславших грамоту Ляпунову, объяснялась тем, что они хорошо знали, что было на уме у Сапеги, и тоже стремились найти союзников. Переписка Рязани, Тулы и Калуги еще больше укрепила их «общий совет», и они совместно решили все-таки вступить в переговоры с войском Сапеги.
Воевода Ляпунов прямо объяснял, что договор нужен для того, чтобы во время движения к Москве войско Сапеги не угрожало земским силам. В случае удачного договора с сапежинцами он предполагал поручить гетману встать «в Можайске на дороге, для прибылных людей к Москве от короля, беглой литвы с Москвы». 11 февраля, как мы уже знаем, Ляпунов отослал в Калугу своего племянника, предлагая «укрепиться закладами» при заключении договора. Цель переговоров была определена следующим образом: «…а велел ему с бояры и с гетманом Сопегою о таком великом Божий деле говорить, чтоб ему быти с нами в соединенье и стояти бы за православную крестьянскую веру нашу с нами вместе заодин» [179]179
ААЭ.Т.2.№182.С. 312.
[Закрыть]. Участвовал в переговорах с Сапегой и Иван Заруцкий, стремившийся сохранить известную самостоятельность в этом деле. В дневнике секретарей Сапеги остались свидетельства о получении писем Прокофия Ляпунова и Ивана Заруцкого, пересланных из Калуги 14 (24) февраля, и письма одного Заруцкого от 18 (28) февраля [180]180
Dziennik Jana Piotra Sapiehy… S. 300—301.
[Закрыть]. Пришли письма в очень сложный момент для гетмана, занятого устроением дел в своем бунтовавшем войске: накануне генеральное войсковое собрание («коло») решило, что король Сигизмунд III кормит их одними обещаниями, и поэтому гетману предлагалось самому ехать под Смоленск и договариваться об интересах войска. Свою «братью», сидевшую в Москве, сапежинцы предлагали известить, что не могут оказать им помощь по вине короля. Однако когда Ян Сапега тронулся в дорогу в Смоленск, его вернули с полпути, а обсуждение дальнейших перспектив войска продолжилось. Многие вопреки мнению гетмана склонялись к тому, чтобы идти «за леса», к польской границе. Дело дошло до столкновений внутри войска, и Сапега вынужден был пойти на компромисс [181]181
РИБ.Т. 1.Спб. 225-226.
[Закрыть].
Гетману часто приходилось ездить по разным калужским городам, чтобы договариваться о единой позиции на переговорах с королем Сигизмундом III. В одной из таких поездок он получил из Перемышля письмо от Федора Кирилловича Плещеева, извещавшего о приезде туда людей из Тулы от Ивана Заруцкого и об отсылке Прокофием Ляпуновым своих послов: «Да и от Прокофья к тебе идут послы о том же о добром деле и о совете; а совету де с тобою Прокофей и все городы добре рады». Это оказалось на руку Сапеге, который стремился удержать свое войско в калужских городах в ожидании решения короля. Во всяком случае, Федор Плещеев с большой радостью передавал слова послов Ляпунова: «А про заслуженное де они так говорят: не токмо что де тогды заплатим, коли кто будет царь на Москве, нынече де ради заслуженное платить» [182]182
АИ.Т. 2. №318. с. 375.
[Закрыть]. Не случайно, что именно Федора Плещеева отправили из Перемышля в Тулу 19 февраля (1 марта) 1611 года [183]183
Dziennik Jana Piotra Sapiehy… S. 301.
[Закрыть]: видимо, он должен был продолжить переговоры с Заруцким от имени гетмана Сапеги.
Выжидательная тактика гетмана и начало его переговоров с вождями земского движения в Калуге и Туле помогли ему в достижении своих целей. В королевском лагере под Смоленском вынуждены были все-таки пойти на уступки сапежинцам: их согласились уравнять в заслугах с полком Александра Зборовского, перешедшим на службу к королю сразу после распада Тушинского лагеря. 3(13) марта Сапега уехал под Смоленск, оставив войско на попечение войскового маршалка Чарнецкого. Проведя переговоры в Смоленске, гетман известил войско о их результатах и отправился в свое литовское имение в Усвят, где пробыл до конца апреля 1611 года [184]184
Ibid. S. 304-306, 328-329.
[Закрыть]. Там он получил письмо от короля Сигизмунда III, извещавшего его о действиях Первого ополчения, начавшего осаду Москвы. Гетману напоминали про его обещание вернуться к своему войску, что он вскоре и исполнил.
В отсутствие Сапеги воеводы Первого ополчения продолжали переговоры о совместных действиях с сапежинцами, бывшими куда сговорчивее, чем их гетман. Сохранилось адресованное Сапеге послание от «великого державного Московского государъста царъского величества боярина и воеводы»Ивана Заруцкого [185]185
Сборник князя Хилкова. № 12. LXXI. с. 77-79.
[Закрыть]. При публикации письмо было датировано февралем 1611 года, но на самом деле совместные переговоры Заруцкого и Ляпунова велись с сапежинцами во время прихода ополчения под Москву в конце марта – начале апреля 1611 года. Прокофий Ляпунов обратился с таким же посланием к маршалку сапежинского войска Чарнецкому [186]186
АИ.Т. 2. № 319. с. 375-376.
[Закрыть]. Текст обоих посланий Заруцкого и Ляпунова совпадает. В грамотах земских воевод говорилось о присылке послов от сапежинского войска для договора «к Москве». Титул, употребленный Заруцким в послании Сапеге, несколько отличается от того, который позднее будет дан ему в Первом ополчении: «великого Росийские державы Московского государьства боярин и воевода»т.Вставка в титул упоминания о «царьском величестве»могла свидетельствовать о том, что в самом начале движения Иван Заруцкий отстаивал преемственность службы самозваному «царику». Он не случайно находился рядом с Мариной Мнишек и ее сыном «царевичем» Иваном Дмитриевичем, поэтому такое упоминание было ему важно. Местническими обстоятельствами можно объяснить и появление двух полностью совпадающих по содержанию обращений: Заруцкого – к Сапеге и Ляпунова – к маршалку его войска [187]187
Грамота князя Д. Т. Трубецкого (если она и была) не сохранилась, а начало грамоты П. П. Ляпунова утрачено, поэтому, к сожалению, нельзя сравнить титулатуру земских воевод.
[Закрыть]. Причем почетнее, конечно, было напрямую обратиться к Сапеге, хотя тот и отсутствовал в момент обращения в войске, да и вообще в Русском государстве.
Переписка с сапежинцами показывает, что начало переговоров предварял оживленный обмен грамотами. В послании Ивана Заруцкого гетману Яну Сапеге говорилось: «…И писанные твои листы, в Колугу и на Тулу к бояром и воеводам, и ко мне, прочитая, душевне веселюся» [188]188
См.: Там же. № 328. с. 394.
[Закрыть]. В грамоте Прокофия Ляпунова маршалку Чарнецкому почти так же: «…И писанные от вас к нам листы, в Колугу и на Тулу к бояром и воеводам, и на Резань ко мне к Прокофью, прочитая, душевне веселимся» [189]189
Ср.: Там же. № 319. с. 375; Сборник князя Хилкова. № 12. LXXI. с. 77.
[Закрыть]. Оба воеводы земского ополчения писали о своей радости, видя обращение сапежинцев к союзу с ними: «…зря ваше крепкое утвержение и от неправды отлучение».
Они вспоминали «польского короля неправое востание на Московское государство и всемирное губителство в настоящее сие время» (в этом, как и в других местах послания, осуждалось пролитие «крови неповинной и неискусозлобивых младенец», в чем можно видеть намек на события 19 марта 1611 года). В грамоте Ивана Заруцкого Сапеге вставлен даже пассаж о вине короля Сигизмунда III и гетмана Жолкевского в том, что сапежинское войско не получило своих денег: «Да не токмо к Московскому государьству полской король под присягою неправды свои показал, но и вам, природным людем своим, всему рыцерству, которые в правде с тобою служили и скарб свой утратили, как пришол к Москве гетман Желковский и вам всему рыцерству заслуженное ваше и что скарбов своих утратили, под присягою обещали; и как гетмана Желковского с королевскими людми в Москву пустили и они тебе и всему рыцерству в заслугах ваших посмеялись и во всем вам солгали; что вам и самим королевская правда ведома» [190]190
Сборник князя Хилкова. № 12. LXXI. с. 78.
[Закрыть]. Сапежинцам предлагалось «прислати послов своих к нам к Москве, а самим бы вам всему великому рыцарству побыти, ожидая послов своих от нас, в тех же украинах, где вам годно». С представителями сапежинского войска обещали заключить «истинный договор», отпустить их «тотчас» и, главное, прислать впоследствии с послами из ополчения «заслугу вашу». И Ляпунов, и Заруцкий говорили при этом, что действуют, «воздавая должное» своим будущим союзникам, от имени «всей земли». В итоге сапежинцы всё же предпочли договор с королем Сигизмундом III, узнав о королевской ассекурации 17 (27) марта 1611 года, по которой король соглашался выплатить жалованье, правда, не ранее того времени, «как только Бог даст нам сесть на Московском престоле». Если бы король и потом, спустя полтора года, не исполнил своего обещания, то гарантией обеспечения королевской ассекурации становились все «крепости» и доходы с уездов Северской и Рязанской земель. В отсутствие Сапеги войско согласилось на эти условия и на генеральном «коло» 16 (26) апреля 1611 года приняло решение о походе в Москву. В мае оно шло походом через Козельск, Мещовск и Медынь. Однако без гетмана далеко уйти им не удалось. Сомнения по поводу королевских обещаний тоже никуда не исчезли. 10 (20) мая 1611 года, когда «колеблющиеся» сапежинцы находились в Медыни, к ним приехали послы от Трубецкого, Ляпунова и Заруцкого (воеводы ополчения названы именно в таком порядке), «чтобы войско вошло с ними в какое либо соглашение». Тогда же гетман Ян Сапега снова оказался в королевской ставке и получил сведения о том, что его войско перешло на службу королю и отправилось на помощь столичному гарнизону. Один казак, приехавший под Смоленск, сообщал даже, что сапежинцы нанесли поражение войску Заруцкого, причем было убито якобы 12 тысяч человек. Скорее всего, в королевском лагере намеренно хотели создать у Сапеги иллюзию того, что его полк давно и успешно воюет на стороне короля [191]191
СГГ и Д. т. 2. № 203. с. 123; АИ.Т. 2. № 319. с. 376; РИБ. т. 1. Стб. 238—239, 242; Dziennik Jana Piotra Sapiehy… S. 307—308.
[Закрыть].
Как показало время, именно единства в действиях воевод Первого ополчения и не хватало. Как мы помним, в подмосковных полках, главным образом под влиянием Прокофия Ляпунова, обратились с посольством в Великий Новгород, чтобы договориться о кандидатуре шведского принца Карла Филиппа на русский трон. Но это никак не могло отвечать интересам Ивана Заруцкого, продолжавшего оказывать покровительство Марине Мнишек, в «удел» которой были выданы Коломна и Зарайск. Не было тайной такое противостояние и для современников. Не случайно автор «Нового летописца» напишет потом об этом времени: «У Заруцкого же с казаками бысть з бояры и з дворяны непрямая мысль: хотяху на Московское государство посадити Воренка Калужсково, Маринкина сына» [192]192
Новый летописец. с. 112.
[Закрыть].
От «непрямых мыслей» до разных судеб у Ляпунова и Заруцкого окажется скорая дорога. После смерти одного из главных организаторов ополчения земское дело остановилось. Но если для многих дворян пребывание в подмосковных полках перестало иметь какой-то смысл, то для казаков во главе с боярином Иваном Заруцким, напротив, наступало лучшее время. Именно они оказывались хозяевами положения, продолжая полковую службу и сбор доходов на нужды тех, кто осаждал сидевшего в Москве врага. Большинство людей за пределами столицы, конечно, не могли воспринять такие перемены иначе как полный провал всех усилий по созданию союза сторонников царя Василия Шуйского с бывшими тушинцами. Но действительно ли всё было так плачевно, как посчитали современники? И только ли одни казаки остались под Москвой?
На формирование наших позднейших представлений о разложении ополчения в июле 1611 года повлияли популярные сочинения о Смуте, распространявшиеся во множестве списков на протяжении XVII и XVIII веков. «По неправедном же оном убиении Прокопиеве бысть во всем воиньстве мятежь велик… Казаки же начаша в воиньстве велико насилие творити, по дорогам грабити и побивати дворян и детей боярских… И таковаго ради от них утеснения мнози разыдошяся ис-под царствующего града», – писал в своем «Сказании» Авраамий Палицын [193]193
Сказание Авраамия Палицына. с. 217.
[Закрыть]. Он указал имена трех воевод, оставшихся под Москвой: князя Дмитрия Тимофеевича Трубецкого, Ивана Заруцкого и Андрея Просовецкого «с казаки своими». В «Новом летописце» причинами «разъезда» ратных людей из-под Москвы названы «теснение от казаков» и почему-то хула в адрес царя Василия Шуйского (?!), которого «понизовые казаки» «лаяху и позоряху» [194]194
Новый летописец. с. 114.
[Закрыть]. Сохранилось еще подробное известие «Карамзинского хронографа», автор которого тоже рассказал о времени, наступившем после гибели Ляпунова: «И после Прокофьевы смерти столники и дворяне и дети боярские городовые ис-под Москвы разъехались по городом и по домом своим, бояся от Заруцкого и от казаков убойства; а иные у Заруцкова купя, поехали по городом, по воеводством и по приказам; а осталися с ними под Москвою их стороны, которые были в воровстве в Тушине и в Колуге» [195]195
Изборник… с. 351.
[Закрыть].
Суть произошедших тогда изменений наиболее полно определена именно автором «Карамзинского Хронографа» арзамасским дворянином Баимом Болтиным, писавшим о двойном расколе в земском лагере: во-первых, между дворянами и казаками, а во-вторых, между земцами и бывшими «тушинцами». В этом, безусловно, была значительная доля истины, но если до конца прочитать ту же запись Хронографа, можно увидеть, что правительство, созданное в ополчении, осталось, а осада столицы была продолжена: «А под Москвою владели ратными всеми людми и казаками и в городы писали от себя боярин князь Дмитрей Тимофеевич Трубецкой да боярином же писался Ивашко Мартынов сын Заруцкой, а дал ему боярство Тушинской вор. Да с ними же под Москвою были по воротам воеводы их и советники; да под Москвою же во всех полкех жили москвичи, торговые и промышленные и всякие черные люди, кормилися и держали всякие съестные харчи. А Розряд и Поместной приказ и Печатной и иные приказы под Москвою были, и в Розряде и в Поместном приказе и в иных приказех сидели дьяки и подьячие, и из городов и с волостей на казаков кормы збирали и под Москву привозили, а казаки воровства своего не оставили, ездили по дорогам станицами и побивали» [196]196
Там же. с. 353.
[Закрыть].
Первое ополчение отнюдь не перестало существовать со второй половины 1611 года, как об этом обычно скороговоркой пишут в учебниках. Власть в нем перешла к двум «боярам» – князю Дмитрию Тимофеевичу Трубецкому и Ивану Мартыновичу Заруцкому Позднейшие исторические обстоятельства отменили значение их службы под Москвой со второй половины 1611 года, но идея земского объединения осталась. Более ста лет назад, в 1911 году, Степан Борисович Веселовский впервые собрал и издал «Акты подмосковных ополчений», куда в том числе вошли документы правительственной деятельности Первого ополчения в период, наступивший после убийства Прокофия Ляпунова. Увы, такова сила инерции исторического восприятия, что до сих пор эти акты почти не принимаются в расчет. Говоря о судьбе Первого ополчения, ссылаются, как правило, на оценки историков от Карамзина до Ключевского, у которых просто не было возможности познакомиться с этими документами. Между тем изучение источников позволяет сделать вывод о том, что Первое ополчение продолжало свою деятельность с оставшимися в полках «боярами Московского государства» и главными воеводами.
Под Москвой была создана система управления, основанная на нормах Приговора 30 июня 1611 года: существовали общие для всех полков Разрядный и Поместный приказы, заведена земская печать, собирались пошлины с документов в Печатный приказ. Продолжали обеспечивать «кормами» казаков и стрельцов, хотя, конечно, навести порядок «по Ляпунову» больше не удалось. Прав историк Николай Петрович Долинин, писавший в книге «Подмосковные полки (казацкие "таборы") в национально-освободительном движении 1611 – 1612 гг.», изданной в 1958 году: «Политика казацкого войска после смерти Ляпунова и сосредоточения власти в руках Заруцкого и Трубецкого не дает повода думать о каком-то крутом повороте в деятельности подмосковного правительства в смысле предоставления центральной власти казачеству, точнее, той его части, которая образовала в подмосковных полках низший слой из беглых холопов, боярских людей и крестьян. Не видно в мероприятиях временного правительства и "воровского казацкого обычая", который приписывал подмосковному ополчению Д. Пожарский, изображая Заруцкого новым Болотниковым» [197]197
Долинин Н.П.Подмосковные полки (казацкие «таборы») в национально-освободительном движении 1611 – 1612 гг. Харьков, 1958. с. 71-72.
[Закрыть].
Кроме бесспорных противоречий между дворянами и казаками в подмосковных полках во времена верховенства боярина Ивана Заруцкого имели значение такие насущные проблемы, как обеспечение служилых людей жалованьем, продовольствием, да и просто, выражаясь языком военных уставов, необходимость перехода на зимнюю форму одежды. Сохранились вполне рядовые документы, на которые при других обстоятельствах можно было бы и не обратить внимания. Они касаются шубного сбора, организованного Первым ополчением в августе 1611 года. Есть росписи служилых людей – дворян и детей боярских, посланных для этих целей по городам и уездам, челобитные о сложении этой повинности из-за бедности. Объяснить сбор тулупов иначе чем целями подготовки полков ополчения к зимним боям под Москвой невозможно. Сами акценты в разговорах о распаде подмосковного ополчения следует перенести с политических противоречий (конечно, никуда не исчезнувших после гибели Ляпунова) на другие, природные факторы, традиционно не позволявшие русскому войску в полной мере вести зимой какие-либо военные кампании.
Летом 1611 года в Первое ополчение к воеводам князю Дмитрию Трубецкому и Ивану Заруцкому продолжали прибывать значительные отряды ратных людей из Казани и Смоленска, что также свидетельствует о сохранении подмосковных полков и продолжении ими своей деятельности. Более того, приезд казанского войска во главе с настоящим, а не выборным или назначенным боярином Василием Петровичем Морозовым повышал и статус Думы в ополчении. Принесенный казанцами список чтимой иконы Казанской Божьей Матери имел важное символическое значение для остававшихся под Москвой людей. Некогда само обретение этой иконы было связано с именем казанского митрополита, будущего патриарха Гермогена. Поэтому появление ее списка в полках ополчения имело дополнительный смысл, усиливая отклик на призывы томившегося в заточении первоиерарха Русской церкви. Ратная сила, пришедшая из Казани, уже на следующий день вступила в бой и освободила Новодевичий монастырь от стоявших там немецких рот.
Архиепископ Арсений Елассонский писал, что это событие произошло 28 июля 1611 года: «28-го, в воскресение, с большим трудом русские взяли женский монастырь, не сделав никаких убийств в монастыре, потому что добровольно покорилось большинство» [198]198
Арсений Елассонский.Мемуары из русской истории. с. 192.
[Закрыть]. И здесь также – очевидное расхождение с оценкой событий в русских источниках, авторы которых стремились во всем обвинять Ивана Заруцкого. «Новый летописец», говоря о вине казаков в распаде Первого ополчения, начинает противоречить сам себе. Его автору нужно было примирить сообщение о появлении в ополчении списка иконы Казанской Божьей Матери и связанном с этим военном успехе с одновременным обличением казаков. Из летописного сообщения о взятии Новодевичьего монастыря явствует, что это было не что иное, как его «разорение». Заруцкий якобы не выказал никакого почтения чудотворному образу: «Все же служилые люди поидоша пешие, той же Заруцкой с казаками встретил на конех». По освобождении «понизовой силой» Новодевичьего монастыря «инокинь из монастыря выведоша в табары и монастырь разориша и выжгоша весь, старицы же послаша в монастырь в Володимер». Понимая, что не одни казаки участвовали в боях под Новодевичьим монастырем, автор «Нового летописца» пытается защитить дворян, остававшихся в ополчении (еще одно косвенное признание их присутствия там): «Многия же под тем монастырем дворяне и столники искаху сами смерти от казачья насилия и позору и многия побиты и от ран многия изувечены быша». Но перелистав несколько страниц летописи, можно обнаружить небольшую повесть «о походе под Москву иконы Пречистыя Богородицы Казанския» и упоминание, что именно «Ею помощию под Москвою взяли Новой Девичей монастырь»! [199]199
Новый летописец. с. 113, 132—133.
[Закрыть]
Примечательно, что летописное описание совпадает с тем, что сообщали бояре из самой Москвы в начале 1612 года: «А как Ивашко Заруцкий с товарыщи Девич монастырь взяли, и они церковь Божию разорили, и образы обдирали и кололи поганским обычаем, и черниц королеву княжь Володимерову дочь Ондреевича (ливонскую королевну Марию, дочь великого князя Владимира Андреевича Старицкого. – В. К.)и царя Борисову дочь Ольгу, на которых преже сего и зрети не смели, ограбили до нага, и иных бедных черниц и девиц грабили и на блуд имали; а как пошли из монастыря, и они и до-сталь погубили и церковь и монастырь выжгли… Ино то ли крестьянство?» [200]200
Сб. РИО.Т. 142. с. 295.
[Закрыть]
Конечно, такие утверждения современников не могли быть полностью голословными. Грабеж и дележ добычи при штурме городов были для казаков обычным делом и даже связывались с казачьей доблестью и «правильным» порядком вещей. Однако бояре, сидевшие в Москве вместе с поляками и литовцами, намеренно смешивали два события: взятие Новодевичьего монастыря в конце июля и его сожжение при оставлении подмосковными полками в сентябре 1611 года. Между тем воевода Мирон Вельяминов включал бой у Новодевичьего монастыря в свой послужной список, о чем его дети писали в челобитной царю Михаилу Федоровичу: «И как, государь, Девичь монастырь взяли, и в то, государь, время отец наш был у наряду, а до приступу ходил с казаки». Иосиф же Будило, напротив, считал, что Заруцкий предпринял штурм Новодевичьего монастыря, «желая показать русским свою верность» после гибели Прокофия Ляпунова [201]201
См.: Народное движение в России в эпоху Смуты… с. 340; РИБ. т. 1. Стб. 251-252, 279; РИБ. т. 1. Стб. 251.
[Закрыть].
Дальнейшее пребывание Ивана Заруцкого в подмосковных «таборах» связано с борьбой за власть. Как покажет время, казачий атаман так до конца и не избавится от идеи самозванства, а будет только выжидать удобного случая, чтобы снова начать движение в пользу сына Лжедмитрия II и Марины Мнишек – царевича Ивана Дмитриевича. Все его маневры и закулисная деятельность не оставались тайной. Чем больше пытался Заруцкий укрепить свою власть в полках, тем сильнее и глубже становились противоречия между дворянами и казаками. После неудачного покушения на князя Дмитрия Пожарского в Ярославле (об этом речь впереди) войско Заруцкого покинет подмосковные полки. Казачий атаман бежит через Коломну, где располагался двор Марины Мнишек, в направлении Переславля-Рязанского. По сообщению «Пискаревского летописца», Заруцкий даже откажется от собственной семьи: «…умысля своим воровским обычаем, сослався з жонкою с Маринкою, которая была за Ростригою, сердомирсковою дочерью, жену свою постриг (это единственное указание на то, что Заруцкий был женат! – В. К.),а сына своево послал на Коломну к ней, Маринке, в стольники, а хотел на ней женитца, и сести на Московское государьство, и быти царем и великим князем» [202]202
Пискаревский летописец // ПСР Л.Т. 34. М, 1978. с. 217.
[Закрыть].