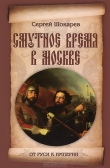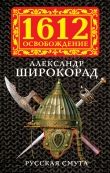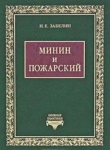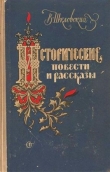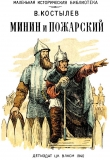Текст книги "Герои Смуты"
Автор книги: Вячеслав Козляков
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 26 страниц)
Совместные действия Нижнего Новгорода и Казани вскоре были освящены авторитетом сидевшего в заточении в Чудовом монастыре патриарха Гермогена. Он просил нижегородцев предостеречь от союза с казаками все соседние города, и прежде всего Казань. Патриаршую грамоту с требованием уклоняться от любых контактов с «атаманьем», начавшим думать о присяге сыну Марины Мнишек, получили в Нижнем Новгороде 25 августа 1611 года. А уже 30 августа состоялся приговор в Казани в поддержку воззвания патриарха. В очередной грамоте в Пермь писали о том, что, «выслушав с патриаршеския грамоты список, приговорили с Ефремом митрополитом Казанским и Свияжским и со всею землею Казанского государьства, что нам отнюдь на царство проклятого паньина Маринкина сына не хотети… а выбрати б нам на Московское государство государя, сослався со всею землею, кого нам государя Бог даст». Для дьяка Никанора Шульгина, стремившегося прибрать власть в Казани к своим рукам, лучшего подарка, чем ссылка на авторитет патриарха Гермогена, трудно было придумать. Не случайно уже в преамбуле этой грамоты состав казанского городового совета существенно усечен, в нем отсутствовали упоминания о представительстве князей и мурз, служилых новокрещенов, татар, чувашей, черемис и вотяков. В Пермь обращались только те приказные и ратные люди, которые на самом деле управляли Казанью. Не упомянуты оказались и рядовые служилые люди – пушкари и затинщики; отсутствовала ссылка на посадских людей: «Никанор Шульгин, Степан Дичков и головы, и дворяне, и дети боярские, и сотники, и стрельцы, и всякие Казанские служилые и жилецкие люди» [604]604
Грамота из Казани в Пермь была доставлена 10 октября 1611 года: ААЭ. т. 2. № 194. с. 332-333.
[Закрыть].
С тех пор Никанор Шульгин ревниво охранял добытую власть. По его указу был казнен гонец от бояр Московского государства князя Дмитрия Трубецкого и Ивана Заруцкого [605]605
См.: Корецкий В. И., Лукичев М. П., Станиславский А.Л.Документы о национально-освободительной борьбе… с. 243.
[Закрыть]. Это было явной демонстрацией силы и нежелания идти ни на какие контакты и компромиссы со скомпрометированными гибелью Ляпунова вождями земского движения. Такая же участь, вероятно, ожидала бы и новых воевод, назначенных в подмосковных полках, если бы кто-то из них рискнул приехать в Казань. Как распорядился Никанор Шульгин полученной властью, можно видеть из сохранившихся документальных свидетельств о наделении землей, сборе доходов «по приговору дьяков Никонора Шулгина и Степана Дичкова» или по одной «Никоноровой» приписи. Сохранились также грамоты, выданные «по указу великого Российского Московского государства и всее земли бояр, от диаков от Никонора Шулгина, от Степана Дичкова» [606]606
Кунцевич Г. 3.Грамоты Казанского Зилантова монастыря // Известия Общества археологии, истории и этнографии. Казань, 1901. т. 17. Вып. 5-6. с. 300.
[Закрыть]. Но одним из самых примечательных свидетельств деятельности казанских властей является самостоятельная отсылка Никанором Шульгиным ногайских послов в Орду [607]607
Корецкий В. И., Лукинев М. П., Станиславский А.Л.Документы о национально-освободительной борьбе… с. 244—245.
[Закрыть]. Шульгину даже удалось установить контроль над Вятской землей, обязав присылать доходы оттуда непосредственно в Казань. Сумел договориться дьяк и с главой казанского посада земским старостой Федором Обатуровым, во всем следовавшим его политике.
Существование особого центра силы в Казани повлияло и на создание ополчения в Нижнем Новгороде. Его вожди, Кузьма Минин и князь Дмитрий Михайлович Пожарский, должны были учитывать в своих расчетах позицию «Казанского государства», с которым нижегородцы были связаны союзническими обязательствами с августа 1611 года. В своих переговорах с Казанью и другими городами Минин и Пожарский с самого начала преодолевали осторожность воевод, продолжавших подчиняться приказам из подмосковного ополчения (как это было в Нижнем Новгороде, Арзамасе, Балахне, Алатыре, Курмыше и в других городах). Для утверждения союза с Казанью, где правил дьяк Никанор Шульгин, был направлен стряпчий Иван Иванович Биркин. Он приехал туда в конце декабря 1611-го – начале января 1612 года. Находясь 22 декабря в нижегородском селе Мурашкине, Иван Биркин послал отписку курмышскому воеводе Смирному Васильевичу Елагину, в которой упомянул о своей казанской миссии: «А мне били челом Нижнева Новагорода всякие люди, чтоб мне ехати в Казань, для ратных людей». Кроме того, торопя курмышского воеводу с присылкой денежных доходов и ратных людей, Биркин ссылался на решение о том, что «Казанских и всех понизовых городов всяким ратным людем сходитца в Нижней и идти всем с стольником и воеводою с князем Дмитрием Михайловичем Пожарским да со мною Иваном на помощь Московскому государству под польских и литовских людей» [608]608
Там же. с. 9—10. Сведения о сборе кормов «казанским ратным всяким людям» зафиксировали нижегородские платежницы 1611/12 года. См.: Подвиг Нижегородского ополчения… т. 1. с. 198.
[Закрыть].
Стряпчий Иван Биркин действовал так, как приговорили в Нижнем Новгороде, надеясь на поддержку решения о сборе ратных сил. Но получилось по-другому. Известие о нижегородском посольстве «о совете и о помочи Московского государства» вошло в «Новый летописец». Его автор рассказывал, что Биркин и Шульгин вместо поддержки земского движения вступили в «недобрый совет». В летописи прозвучали прямые обвинения в адрес Никанора Шульгина, радовавшегося, что «Москва за Литвой», а «ему же хотящу в Казани властвовати». В состав нижегородского посольства в Казань, по свидетельству «Нового летописца», входили также духовные «власти». Именно они, возвратившись в Нижний, рассказали, что Шульгин и Биркин затеяли какую-то свою игру и что в ближайшее время ожидать прибытия казанской рати бесполезно [609]609
Новый летописец. с. 117.
[Закрыть]. Конечно, летописец напрасно обвинял Никанора Шульгина в симпатиях «Литве»: Шульгин служил не королю или королевичу, а себе самому.
В подмосковном ополчении сразу же узнали о наметившемся союзе Нижнего Новгорода и Казани, но истолковали его по-своему. Возникло подозрение, что в «бездельных» грамотах, которыми обменивались между собой поволжские города, обсуждался «царский выбор». Руководители нижегородского ополчения отнеслись к этим слухам серьезно и попытались немедленно пресечь их, организовав розыск в конце декабря 1611 года [610]610
Грамоты и отписки 1611 – 1612 г. курмышскому воеводе С.В. Елагину… с. 13, 15-16.
[Закрыть]. Забеспокоился и Никанор Шульгин. Выяснилось, что заподозренные в передаче «смутных» слов курмышане Борис Синцов и Данила Кобылин говорили в Нижнем, будто в Казани чинятся препятствия сбору татар, чувашей и черемисы для похода на «земскую службу». Поэтому казанские дьяки Никанор Шульгин и Степан Дичков в грамоте в Курмыш 9 февраля 1612 года сочли необходимым написать, что они, напротив, предлагают этим отрядам идти в Нижний Новгород «наперед» казанской рати [611]611
Там же. с. 20-21.
[Закрыть]. Курмыш располагался много ближе к Нижнему Новгороду, чем к Казани, и сам факт такого «разрешения» от казанских дьяков был показателен.
Никанор Шульгин решил вмешаться в дело со сбором отрядов земских сил еще по одной причине. Он узнал, что в Курмыш обратились с просьбой о помощи арзамасские воеводы, последовательно подчинявшиеся подмосковным властям. Действия каких-либо соседних городов в поддержку «бояр Московского государства» князя Дмитрия Трубецкого и Ивана Заруцкого были невыгодны Никанору Шульгину, представившему дело так, что Арзамас находится в «воровстве». Там якобы случился переворот, в результате которого власть захватили стрельцы: «в Арзамасе стрельцы заворовали, дворян и детей боярских и жилецких всяких людей… побивают и вешают… и ворихе Маринке и ее Маринкину сыну хотели крест целовати». Ничего особенного в Арзамасе, кроме смены воевод, в то время не происходило. Вероятно, в своих оценках Никанор Шульгин ссылался на слова устраненного от власти прежнего арзамасского воеводы Ивана Биркина (вопрос о присяге Марине Мнишек или ее сыну обсуждался именно в августе 1611 года, когда Биркин лишился воеводства). Шульгин просто запугивал жителей Курмыша возможными потрясениями. Показательно, что симпатии казанского дьяка были явно не на стороне «низов».
Обращение из Казани в Курмыш понадобилось еще и для того, чтобы дьяк Никанор Шульгин мог снова продемонстрировать свою силу. Казанская грамота заключалась прямой угрозой курмышскому воеводе Смирному Елагину: «А буде ты, Смирной, учнешь вперед так делати, ратных людей собрав, в Нижней не пошлешь и с Казанским государством учнешь рознь чинити(выделено мной. – В. К.)– и мы, не ходя в Нижней, со всеми ратными людьми придем под Курмыш и тебя Смирнова взяв, отошлем в Казань иль в Нижней Новгород» [612]612
Там же. с. 22-23.
[Закрыть]. Эта история ярко свидетельствует о том, в какой непростой обстановке создавалось нижегородское ополчение. Она подтверждает, что Казань в тот момент оставалась основным союзником нижегородцев. Однако Никанор Шульгин отнюдь не преследовал земские интересы, а стремился к сохранению контроля над Казанской землей.
В итоге Минин и Пожарский выступили из Нижнего Новгорода самостоятельно, хотя и продолжая надеяться на то, что в будущем их ополчение пополнится ратными людьми из «понизовых» городов. Действительно, казанцы не остались в стороне и прислали ратных людей во главе с Иваном Биркиным в Ярославль весной 1612 года. Но прежний второй воевода «Приказа ополченских дел» не зря несколько месяцев пробыл в Казани. Он, видимо, многому научился у дьяка Никанора Шульгина (а может, даже и договорился с ним заранее). Едва приехав в Ярославль, где, конечно, очень ждали казанское войско, Биркин вступил в борьбу за власть в ополчении. Автор «Нового летописца» обвинил его в том, что он еще на дороге «многую пакость делал городам и уездам», а едва приехав в Ярославль, «многую смуту содеяша: хотяху быти в началниках». Претензии эти означали его участие в управлении делами земского ополчения и распределении собранной им казны. Однако Иван Биркин упустил момент, слишком положившись на свои заслуги при начале земского движения в Нижнем Новгороде. Для «Совета всея земли», созданного в Ярославле, его прежнее значение второго воеводы в ополчении уже стало забываться. В новой временной столице земских сил вполне проявилась организаторская роль князя Дмитрия Пожарского, пользовавшегося поддержкой собиравшихся в Ярославле бояр и членов Государева двора.
Столкновение по поводу претензий воеводы казанской рати Ивана Биркина оказалось серьезным, могло дойти и до раскола ополчения: «едва меж себя бою не сотвориша». Биркина поддержали смоленские дворяне и дети боярские, помнившие, как он помогал исполнить распоряжение воевод Первого ополчения об испомещении смольнян в Арзамасе и затем, вместе с князем Дмитрием Пожарским, встречал их в Нижнем Новгороде. Однако этой поддержки Биркину оказалось недостаточно; не получив желаемой воеводской должности, он скомандовал пришедшим казанцам возвращаться обратно [613]613
О вхождении смолян и казанцев в полки князя Дмитрия Мамстрюковича Черкасского, отправленные из Ярославля воевать против «черкас», говорилось в грамоте в Путивль в июне 1612 года. См.: СГГ и Д. т. 2. №281. с. 595.
[Закрыть]. И в этом решении видна «рука» казанского дьяка Никанора Шульгина, которому тоже важно было добиться того, чтобы казанцы и в Ярославле были на первых ролях. Не случайно автор «Нового летописца» считал, что, уйдя из Ярославля, казанцы действовали «по приказу Никонора Шулгина». Служить в ополчении осталось совсем немного казанцев вместе с головой Лукьяном Мясным (под его началом числились 20 служилых князей и мурз и 30 дворян) и стрелецким головой Постником Нееловым с сотней стрельцов. Оба они, несмотря на участие в освобождении Москвы, стали впоследствии жертвами мести со стороны Никанора Шульгина. Как сказано в летописи, «многие беды и напасти от Никонора претерпеша», который их «едва в тюрме не умориша» [614]614
Новый летописец. с. 120.
[Закрыть]. Безусловно, то была расплата за их ослушание в Ярославле.
В дальнейшем позиция Шульгина по отношению к земскому движению оставалась такой же двойственной: формально действуя на стороне ополчения, он делал всё для того, чтобы с ним продолжали считаться.
Новый статус Казани подчеркивался и возросшим авторитетом казанского митрополита Ефрема, оставшегося после смерти патриарха Гермогена одним из первых иерархов Русской церкви. Земскому ополчению нужен был пастырь, который мог стать правителем всех дел Русской церкви. К митрополиту Ефрему прямо обращались как к преемнику власти умершего патриарха Гермогена, видя в нем «едино утешение» и «великое светило… на свешнице в Российском государстве сияюща». В Ярославле готовы были даже пойти на чрезвычайные меры, вмешавшись во внутренний порядок церковных дел, и «по совету всея земли приговорили» выбрать в крутицкие митрополиты игумена Саввино-Сторожевского монастыря Исайю, ставшего духовным пастырем земского ополчения. Казанского митрополита Ефрема просили поставить нового владыку, выдать ему «ризницу» и «отпустить его под Москву к нам в полки вскоре» [615]615
СГГ и Д. т. 2. № 283. с. 599-600. Корецкий В. И., Лукичев М. П., Станиславский А.Л.Документы о национально-освободительной борьбе… с. 244.
[Закрыть]. Обращение об этом было послано от князя Дмитрия Михайловича Пожарского и земского «Совета всея земли» в тот самый момент, когда ополчение двинулось из Ярославля в поход на Москву 29 июля 1612 года. Выступая уже от имени всего земского войска, в грамоте Ефрему писали: «Не мала скорбь нам належит, что под Москвою вся земля в собранье, а пастыря и учителя у нас нет».
Просьба в итоге так и осталась невыполненной, крутицкую кафедру впоследствии занял другой иерарх. Неизвестно даже, как мог митрополит Ефрем в одиночку, без церковного собора возвести игумена Исайю, по сути дела, в сан патриаршего местоблюстителя. Вполне возможно, что ополчение, обратившись к митрополиту Ефрему, переоценило степень его самостоятельности в Казани. Даже действуя в интересах церкви, он, видимо, не мог решить этот вопрос без совета с Никанором Шульгиным. А тому, напротив, было на руку, что именно казанского митрополита признали в земском ополчении временным главой Русской церкви. Да и сам митрополит Ефрем мог рассчитывать на приезд в столицу.
В подчинении Никанора Шульгина оставалась огромная сила, сопоставимая по численности с отрядами ополчений. Только один отряд свияжских татар, отправленный Шульгиным в конце 1612 года на помощь в борьбе с Иваном Заруц-ким, насчитывал более четырех тысяч человек [616]616
Корецкий В. И., Лукичев М. П., Станиславский А.Л.Документы о национально-освободительной борьбе… с. 248; Станиславский А.Л.Гражданская война в России XVII в…. с. 63—64.
[Закрыть]. Поэтому пока шла борьба за Москву, Шульгину многое прощалось и сходило с рук. Его даже повысили до ранга воеводы, отправив в поход на Арзамас; далее казанское войско должно было действовать против Ивана Заруцкого, обосновавшегося под Рязанью [617]617
Станиславский А.Л.Гражданская война в России XVII в…. с. 63.
[Закрыть]. По дороге Никанор Шульгин исполнил свою старую угрозу курмышскому воеводе Смирному Елагину, сменив его на другого – Савина Осипова [618]618
Титов А.А.Акты Нижегородского Печерского Вознесенского монастыря. М., 1898. с. 137.
[Закрыть]. Между прочим, когда воевода нижегородского ополчения князь Дмитрий Пожарский также пытался сместить Елагина и заменить его нижегородским дворянином Дмитрием Саввичем Жедринским в феврале 1612 года, ему это не удалось [619]619
Грамоты и отписки 1611—1612 г. курмышскому воеводе С.В. Елагину… с. 23-25.
[Закрыть]. Курмыш, вступивший в союз с Арзамасом и другими понизовыми городами – Козьмодемьянском, Ядрином, Санчурином и Свияжском, только отдалялся от нижегородского движения. В начале лета 1612 года он держался присяги царю Дмитрию [620]620
Там же. с. 26-27.
[Закрыть], то есть поддерживал подмосковные «таборы», а не земские силы, собиравшиеся в Ярославле.
Показательно, что арзамасского воеводу Григория Очина-Плещеева, присланного из полков подмосковного ополчения и возглавившего приказную администрацию после присяги города Лжедмитрию III – Псковскому вору, пленили и, ограбив, отправили в Казань к Никанору Шульгину, который его позднее в тюрьме «уморил» [621]621
Корецкий В. И., Лукичев М. П., Станиславский А.Л.Документы о национально-освободительной борьбе… с. 263.
[Закрыть]. Внешне всё выглядело так, что Казань превращалась в форпост земских сил, противостоявших остаткам самозванщины. Но основной целью Никанора Шульгина было подчинение городов на казанско-нижегородском пограничье. Еще одна причина, заставившая его уйти из-под охраны казанских стен в опасный поход под Арзамас, проясняется из спорного земельного дела по поводу арзамасского поместья Семена Нетесева. Прежний владелец, как выяснилось позднее, был просто убит по приказу Никанора Шульгина! О «насильствах» казанского дьяка били челом братья Семена Нетесева, писавшие, что «в нынешнем же во 121-м году (не ранее 1 сентября 1612 года. – В. К.)брата их роднова Семена Нетесева Никонур Шульгин казнил смертью, и после того бил челом боярам о том отца их поместье». Грамота была дана от властей подмосковного ополчения 22 ноября 1612 года [622]622
Судя по дате документа, случилось это, вероятно, еще до арзамасского похода Никанора Шульгина. Семен Нетесев мог быть одним из тех, кого привезли в Казань и посадили в тюрьму вместе с арзамасским воеводой Григорием Очиным-Плещеевым. См.: Веселовский С.Б.Арзамасские поместные акты… с. 489—490.
[Закрыть]. Арзамасский поход Никанора Шульгина оказался трагически памятен целому уезду, а не одной семье дворян Нетесевых. Согласно дозорным книгам, многие поместья запустели «от Никонуровых кормов Шульгина и от казанских ратных людей». Присутствие казанцев в Арзамасском уезде сравнивали с действиями «тушинсков воров», «татарской войной» и походами «черкас» [623]623
Там же. с. 506.
[Закрыть].
Свою главную ошибку Никанор Шульгин совершил тогда, когда начал препятствовать участию Казани в земском соборе. Грамоты о созыве собора стали рассылаться властями «Совета всея земли» с середины ноября 1612 года. Дело шло к царскому избранию, а это означало конец чрезвычайным полномочиям дьяка в Казанской земле. Тогда-то он и решился на противодействие земской власти. Первой жертвой, по свидетельству челобитной дьяка Ивана Поздеева, стала Вятка, куда Шульгин прислал большой отряд стрельцов «с вогненым боем», чтобы заставить вятские власти отказаться от участия в земском соборе. Из слов Ивана Поздеева можно увидеть, что речь также шла о продолжении существования самостоятельного Казанского государства. Новую присягу Никанор Шульгин и его главный советник на казанском посаде земский староста Федор Обатуров задумали на свой страх и риск, «умысля без мирского ведома». Ведь дело шло о прямом неповиновении решению о созыве избирательного земского собора. Шульгин «велел по записи крест целовать на том, что вяцким городом быть х Казанскому государству, а Московского государьства ни в чем не слушати, и с Казанским государьством стояти за один, и друг друга не подати, и для государева царского оберанья выборных людей и денежных доходов к Москве не посылать, а прислати в Казань» [624]624
Корецкий В. И., Лукичев М. П., Станиславский А.Л.Документы о национально-освободительной борьбе… с. 258.
[Закрыть].
Вспоминал об этих событиях в Вятской земле дьяк Иван Поздеев много лет спустя, поэтому к его обвинениям нужно отнестись с известной долей осторожности. Однако детали той истории он должен был запомнить очень хорошо, потому что случившееся едва не стоило ему жизни. Вятчан, сопротивлявшихся воле Никанора Шульгина, «велели, за приставом сковав, прислати в Казань». Двенадцать человек вятских жителей были повешены в Казани. Никанор Шульгин добился своего и продолжал распоряжаться доходами с Вятки по своему усмотрению («денежные многие доходы роздавал, где ему годно»). Даже отправившись в поход в Арзамас, он не забыл о вятских врагах и специально послал своих людей, чтобы арестовать и привести в казанскую тюрьму Ивана Поздеева. Как позднее вспоминал в своей челобитной вятский дьяк, «и в тюрьме сидел долгое время, и многую нужу терпел, и ждал от Никонора смертного часа» [625]625
Там же. с. 259.
[Закрыть]. Стоит напомнить, что тогда же попали в тюремное заключение в Казани и участники освобождения Москвы голова Лукьян Мясной с товарищами, оставшиеся некогда в земском ополчении.
Удивительно, но именно в это время к Никанору Шульгину в Казань писали грамоты, с уважением адресуя их «Никанору Михайловичу». Новые земские власти признали его заслуги. В грамоте 25 января 1613 года его просили «к Московскому государству работа своя и служба показати, для государского обиранья по совету Казанского государства всяких чинов людей, выбрав из них духовных и крепких и разумных и постоятельных людей, сколько человек пригоже отпустить к нам к Москве с Ефремом, митрополитом Казанским и Свияжским, наспех». Участие в соборных заседаниях митрополита Ефрема было особенно важно, чтобы освятить царский выбор присутствием первенствующего в иерархии духовного лица. В Казань было послано посольство от «Совета всея земли» во главе с архимандритом Костромского Ипатьевского монастыря Кириллом, келарем Спасо-Ярославского монастыря старцем Порфирием Малыгиным и владимирскими дворянами Иваном Зловидовым и Мясоедом Лутовиновым. Однако соборное заседание 21 февраля, на котором было принято решение об избрании на царство Михаила Романова, так и прошло без казанских представителей, а их ожидание лишь затянуло «государское обиранье» на многое время.
Авторы грамоты явно не знали причин, по которым случилось «замотчанье» (промедление), поэтому описывали события в Москве с некой извинительной интонацией. Они объясняли, что им пришлось действовать скоро, под давлением ратных людей, из-за опасности, исходящей от Ивана Заруцкого, который воевал «в рязанских городех» от имени Марины Мнишек и ее сына («и прельщает Маринкою и сыном ея, выблядком, многих малодушных людей»), а также от запорожских казаков-«черкас», одна часть которых воевала на Белоозере, в Вологде, Галиче и Солигаличе, а другая оставалась в Калуге (это полностью подтверждают упоминавшиеся выше свидетельства купцов в Новгороде). Даже после царского избрания, 23 февраля, Никанора Шульгина по-прежнему просили прислать выборных людей к Москве и написать о «своем и всего Казанского государства всяких чинов людей о совете». До тех пор, пока в Москве не имели никаких сведений от посольства в Казань, там вынуждены были питаться слухами, считая всё же, что Казанское государство находится в полном союзе с земской властью: «…слышали мы подлинно про ваш совет, что Божиею милостию ни в чем к нашему доброму общему совету, к государскому избиранью не рознитеся, что Богу угодно и всей земле, а вам то же годно».
Посольство во главе с Ипатьевским архимандритом Кириллом все-таки сумело уговорить Никанора Шульгина выступить против Ивана Заруцкого, с чем и был связан арзамасский поход. Шульгин мог прельститься на полученный им чин воеводы казанской рати или обещания других пожалований. Слава первого союзника освободителей Москвы и победителя Заруцкого много бы значила для него, а возможно, даже открыла бы ему путь в Думу, как Кузьме Минину. Но для этого надлежало быть еще и воином, а не только приказным дельцом, думающим о власти и наживе. В то время как в Москве «соборне» воздавали хвалу Богу и «похваляли» воеводу Шульгина, тот шел в поход «мешкотно», грабя население и заставляя людей собирать «кормы» на его армию. Дойдя до Арзамаса, казанский воевода остановился, несмотря на адресованные ему призывы из Москвы «идти бы дорогою на вора на Ивашка Заруцкаго не мешкая». Соборные власти продолжали прежде всего думать о том, как защититься от опасных действий казаков Заруцкого. 24 февраля 1613 года к Никанору Шульгину готовились отправить в Арзамас новое посольство, куда вошли игумен Бежецкого Антониева монастыря Кирилл и дворяне Алексей Иванович Зубов и Иван Иванович Баклановский. Однако участники собора, особенно после принятого решения об избрании Михаила Романова, справедливо не хотели больше зависеть от присутствия или неприсутствия казанцев в Москве. Всех теперь волновала судьба другого посольства, направленного земским собором в Кострому для того, чтобы «упросить» Михаила Федоровича принять царский венец и прийти в Москву. Казанского митрополита Ефрема и дьяка Никанора Шульгина лишь известили о состоявшемся избрании [626]626
Там же. с. 252-258.
[Закрыть].
Когда Никанор Шульгин в Арзамасе получил точные вести о выборе нового царя, ему оставалось только подчиниться и продолжать службу Михаилу Федоровичу. Впрочем, он поступил по-своему: сначала присягнул царю и отправил требовавшихся для «царского обиранья» представителей [627]627
Д.Р. СПб., 1850. т. 1.Стб. 1122-1123.
[Закрыть], а затем 7 марта 1613 года пошел обратно в Казань, отговариваясь внезапно закончившимися запасами, взятыми войском только «на три месяца». Демарш оказался настолько неожиданным, что, получив 15 марта известие об этом, земское правительство не стало удерживать Шульгина в Арзамасе, а лишь попросило отобрать «лутчих ратных людей человек с 600» и прислать их на помощь воевавшему с отрядами Заруцкого под Рязанью воеводе Мирону Андреевичу Вельяминову. Были также приняты меры, чтобы удержать от возвращения в Казань свияжских татар с головой Иваном Чуркиным, присланных раньше по приказу Никанора Шульгина к тому же Вельяминову, но они и без того самостоятельно присягнули Михаилу Федоровичу в Рязани [628]628
Там же. Стб. 1047-1048.
[Закрыть]. Главное, что казанская рать все-таки принесла присягу Михаилу Федоровичу, и царя немедленно известили об этом грамотой от земского собора 20 марта 1613 года [629]629
Тамже.Стб. 1055-1058.
[Закрыть].
Представление о развернувшихся в Арзамасе спорах дает «Новый летописец», посвятивший им отдельную статью «О Никонорове воровстве». Согласно летописному свидетельству, Шульгин продолжил в Арзамасе свои политические игры, выдвинув условием присяги царю Михаилу Романову необходимость на месте заручиться поддержкой жителей Казани: «Без Казанского совета креста целовати не хочю». Однако и в казанском войске, и в занятом им Арзамасе накопились свои счеты с казанским дьяком. Там сразу же присягнули царю Михаилу Федоровичу, поэтому Никанор Шульгин «с советники своими пойде в Казань наспех, хотяше Казань смутити» [630]630
Новый летописец. с. 130.
[Закрыть].
Интересный рассказ о действиях Шульгина содержится в рукописи седьмого тома «Истории Российской» Василия Никитича Татищева. Этот том историк намеревался посвятить царствованию Михаила Федоровича. «Токмо вор казанской дьяк Никонор Шульгин, не хотя ему государю креста целовать, а хотя сам Казанью завладеть, – говорится здесь, – быв тогда с войском в Арзамасе, тем отрицался, что якобы ему о том выборе прежде объявлено не было». Как обычно у Татищева, источник этого известия остается неизвестным. Влияние «Нового летописца» только угадывается, а сама трактовка событий принадлежит автору «Истории…». Но нельзя исключить и того, что наш первый историограф опирался на какие-то неизвестные, не дошедшие до настоящего времени источники или устные рассказы. «А он, имея грамоту о выборе, – продолжал Татищев рассказ о Никаноре Шульгине, – тогда утаил и войску присегать без воли всех казанцов возпрещал. Но видя, что войско, не послушав его, присегали, собрався с единомышленники малыми людми побежали к Казани» [631]631
Татищев В.Я.История Российская. Л., 1968. т. 7. с. 152.
[Закрыть].
Не стоило всё же Шульгину тогда покидать Казань. Как это обычно и бывает с теми, кто стремится обрести полную власть, он попал в зависимость от своего окружения, хорошо умевшего только подчиняться. При получении известий о выборе царя Михаила Романова в самой Казани в отсутствие Никанора Шульгина произошел переворот. Один из казанских тюремных сидельцев дьяк Иван Поздеев рассказывал позднее, как «его, Никанора, за его воровство, как шол назад, всем Казанским государьством в Казань не пустили, и город заперли, и стали на городе своими головами, а за государя всем Казанским государьством велели молебны пет и з звоном и крест целовати». Так пала местная диктатура, несколько лет создававшаяся Никанором Шульгиным. Против него восстали лишенные своего представительства в управлении чины Казанского государства. Важно указание на пение молебнов «со звоном», которым отмечались наиболее важные события. Косвенным образом это свидетельствует о том, что перемены в Казани происходили не без благословения митрополита Ефрема, знавшего, что его давно ждут в Москве, но не смевшего покинуть город без разрешения Шульгина. Тогда же, в марте 1613 года, в Казани на месте одних тюремных сидельцев, страдавших от «насильств» казанского дьяка, оказались другие: «посадский староста» Федор Обатуров, а также «Никанорово родство и советники» [632]632
Корецкий В. Н., Лукичев М. П., Станиславский А.Л.Документы о национально-освободительной борьбе… с. 259.
[Закрыть]. Интересно, что одним из тех, кто сидел в казанской тюрьме еще со времен царя Василия Шуйского, «да от Никонора от Шулгина живот мучил полтора года в темнице», оказался тарусский дворянин Полуект Нарышкин. Деда будущей царицы Натальи Кирилловны – второй жены царя Алексея Михайловича и матери Петра Великого, выпустили из казанской тюрьмы «как крест целовали всем Казанским царством». В 1613 году, по словам челобитной, поданной царю Михаилу Федоровичу, он «прибрел к Москве наг, бос и голоден» [633]633
Забелин И.Е.Минин и Пожарский… Прил. XVI. с. 288.
[Закрыть].
Казанский дьяк уже не увидел переменившейся Казани. Возвращаясь из Арзамаса, он, конечно, думал, как «навести порядок» и казнить врагов, дожидавшихся решения своей участи в казанской тюрьме. Однако все его размышления были пресечены в Свияжске простой фразой, которую он никак не ожидал услышать от встретивших его казанцев: «В Казань тебе ехати не пошто». Шульгина «поймали» и посадили в свияжскую тюрьму, а к царю Михаилу Федоровичу послали гонцов, с тем чтобы узнать, как новый царь распорядится судьбой бывшего казанского правителя. Но даже сидя в свияжской тюрьме, Никанор Шульгин еще не считал себя проигравшим. В окружении царя Михаила Федоровича знали только о том, что казанские ратные люди присягнули в Арзамасе, и не поняли причин, по каким Шульгина задержали в Свияжске. Сам Никанор Шульгин послал с челобитной новому царю своего родственника луховского сына боярского Федора Федоровича Шульгина, приказав ему по дороге заехать в Троицесергиев монастырь к архимандриту Дионисию и келарю Авраамию Палицыну. Видимо, у него были какие-то основания надеяться, что они выступят ходатаями за него перед новой властью. Действительно, так и произошло, бояре князь Федор Иванович Мстиславский с товарищами извещали царя о привезенной к ним челобитной Никанора Шульгина «о своих нуждах, из Свияжского» в апреле 1613 года [634]634
См.: Д Р.Т. 1.Стб. 1117-1118.
[Закрыть].
Пока царь Михаил Федорович находился на пути из Костромы в Москву, 25 марта и 5 апреля в Ярославль приехали казанцы Андрей Образцов и Игнатий Дичков, рассказавшие о присяге царю в Казани и других понизовых городах. О судьбе арестованного в Свияжске Никанора Шульгина ничего определенного сказать они не могли, поэтому в окружении царя Михаила Федоровича попытались самостоятельно разобраться, что произошло с Шульгиным. В наказе новому казанскому воеводе князю Юрию Петровичу Ушатому просили выяснить: какова причина того, что казанского дьяка посадили «за пристава»? Из этого наказа, отправленного в Казань 16 апреля 1613 года, можно узнать, что власть в Казани на время перешла к казанскому дворянину Григорию Веревкину и второму дьяку казанской администрации Степану Дичкову, видимо, не участвовавшему в делах Никанора Шульгина. В наказе Ушатому говорилось: «И воеводе князю Юрью Петровичи) и дьеком роспросити казанцов: в какове деле Никанор Шулгин дан за пристава. А роспрося подлинно отписати к государю царю и великому князю Михаилу Федоровичю всеа Руси к Москве, чтоб про то государю было ведомо» [635]635
См.: Димитриев В.Д.«Царские» наказы казанским воеводам XVII в. // История и культура Чувашской АССР. Чебоксары, 1974. Вып. 3. с. 287-290.
[Закрыть]. Вскоре судьба дьяка Шульгина перестала волновать царя Михаила Романова. В конце апреля 1613 года в Троицесергиев монастырь приехал казанский и свияжский митрополит Ефрем, и ему, без сомнения, было что рассказать о «Никаноровых» временах в Казани! Присяга в Арзамасе и высокое заступничество, видимо, были учтены, поэтому Никанора Шульгина не казнили, а приказали доставить в Москву. Митрополит же Ефрем вместе с царем Михаилом Романовым вошел в Москву и венчал его на царство.
Завершение истории Никанора Шульгина было не столь трагичным. Бывшего казанского дьяка держали в заключении в московской тюрьме до августа 1618 года. При приближении к столице войска королевича Владислава в связи с угрозой осады Москвы тюрьмы освобождали от опасных пленников, поэтому Шульгина и его слуг, терпевших вместе с ним тюремную «нужу», отослали в Тобольск. Там присланного в царской опале Никанора велено было посадить в тюрьму и наблюдать, чтобы он «дурна над собою никоторого не учинил» [636]636
Корецкий В. И., Лукичев М. И, Станиславский А.Л.Документы о национально-освободительной борьбе… с. 259—261.
[Закрыть]. Из Сибири редко кому из таких опальных людей удавалось возвратиться, не получилось выйти на волю и у Шульгина. Последние годы его жизни подчинялись звукам «ссыльного» угличского колокола, висевшего на тобольской колокольне со времен Бориса Годунова и извещавшего тюремных сидельцев обо всем, что происходило в миру радостным или скорбным звоном.