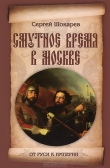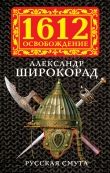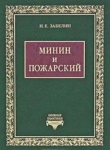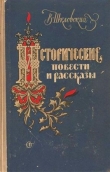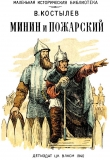Текст книги "Герои Смуты"
Автор книги: Вячеслав Козляков
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 26 страниц)
Сначала в Ярославле повторилась та же история с «уставом» Кузьмы Минина, что и в других городах, например в Балахне. Правда, «лучшим» людям ярославского посада не было смысла прикидываться нищими. Им бы никто не поверил, ибо их торговля была хорошо известна в Нижнем Новгороде и по всей Волге. Попытка задобрить вождей земского движения дарами при встрече тоже не удалась: «князь Дмитрей же и Кузма ничесо же прияша» (то есть ничего не взяли у встретивших их ярославцев) [456]456
Новый летописец, составленный в царствование Михаила Федоровича. Издан по списку кн. Оболенского. М., 1853. с. 148. Ср.: Новый летописец. с. 119.
[Закрыть]. К тому времени, когда ополчение выступило из Нижнего Новгорода, уже были получены «неокладные доходы» с самых заметных ярославских купцов: с Григория Никитникова – 500 рублей, с Василия и Степана Лыткиных – 350 рублей, со Второго Чистова – 100 рублей. Сбор затронул также хозяев Устюга, Сольвычегодска и Перми – «именитых людей» Строгановых, у которых было взято сразу больше трех тысяч рублей. Деньги брали в долг «по приговору» нижегородских воевод князя Василия Звенигородского, Андрея Алябьева, Ивана Биркина, дьяка Василия Семенова, «выборного человека» Кузьмы Минина, земских старост и «всех нижегородцев посадских людей». То, как формулировалась цель этого сбора, позволяет узнать официальную цель ополчения, как ее первоначально декларировали в Нижнем Новгороде: «ратным людям на жалованье, которые пошли из Нижнего с стольником и воеводою с князем Дмитром Михайловичем Пожарским да с выборным человеком с Кузьмою Мининым для московского очищенья» [457]457
Нижегородские платежницы 7116 и 7120 гг. / Подг. к печати С.Б. Веселовский. М., 1910. с. 151—152. См. также: Подвиг нижегородского ополчения… т. 1. с. 198—199.
[Закрыть].
Когда нижегородское ополчение дошло до Ярославля, то ярославскому земскому старосте Григорию Никитникову, уже поддержавшему своими капиталами нижегородское движение, сложно было подчиниться новым запросам. Пришлось Кузьме Минину показывать, что он не зря называется «выборным человеком», а не просто земским старостой Нижнего Новгорода. «Повесть о победах Московского государства» рассказывает: «Пришедше князь Димитрей Михайлович с полки и сташа в Ярославле. Козьма же Минин пришед в Ярославль и поиде в земскую избу денежнаго збору и для кормов и запасов ратным людем по его нижегородцкому окладу. Ярославцы же посац-кия люди, Григорий Никитин и иныя лутчия люди, послушати его не восхотеша. Он же много тязав их своими доброумными словесы и повеле не в честь взяти их, Григорья Никитина с лутчими людми, и отвести ко князю Дмитрию Михайловичу, и повеле жывоты их напрасно (то есть силой – В. К.)брати. Они же вси, видевше от него велику жестость и свою неправду, ужасни быша, и вся вскоре с покорением приидоша, имение свое принесоша, по его уставу две части в казну ратным людем отдающе, 3-ю же себе оставиша» [458]458
Повесть о победах Московского государства. с. 32.
[Закрыть]. Впрочем, как и в Костроме, всё закончилось миром: «лучших» ярославских посадских людей, в том числе Григория Никитникова, вскоре позвали для участия в «земском совете».
Повседневные занятия ярославского правительства начались с устройства ратных людей. В одном из предместий Ярославля долгое время сохранялось название Таборы (там же и Таборская улица), в котором, согласно местной традиции, отразилась память о стоянии здесь ополчения Минина и Пожарского. Если это действительно так, топонимический источник указывает на осторожность, с которой земское войско выбрало место расположения своего основного лагеря. Полки князя Пожарского встали рядом с земляным городом и рекой Волгой с романовской и вологодской стороны – там, где было безопаснее всего, потому что Романов и Вологда поддерживали ополчение. На стороне ополчения воевали воевода Петр Иванович Мансуров (он с галичанами сначала был в Первом подмосковном ополчении, а потом оказался в Вологде) и Барай мурза Алеевич Кутумов с романовскими татарами. Именно там пролегала дорога в Поморские города, бывшие главными союзниками властей ярославского земского ополчения: через них шли контакты с Новгородом Великим. По московской же или угличской дорогам можно было ожидать нападения казаков. Подобная предусмотрительность оказалась нелишней. Как пишет автор «Нового летописца», казачий отряд Первого ополчения во главе с Василием Толстым «прииде с Москвы» и «ста в Пошехонье»; казаки нападали на местных дворян, выбивая их из поместий.
Первая грамота «ото всей земли» была направлена из Ярославля в Сольвычегодск 7 апреля 1612 года. В ней наконец-то формулировались цели создавшегося движения и определялась его позиция по отношению к подмосковным «таборам» князя Дмитрия Трубецкого и Ивана Заруцкого. Призыв собрать свой «земский совет» и прислать для этого «изо всех чинов людей человека по два» с наказами выборным («и с ними совет свой отписати, за своими руками») свидетельствовал о том, что в Московском государстве был создан новый земский центр власти. Пожалуй, впервые жители Московского государства услышали не только беспощадные слова о том, что происходило у них на глазах, но и приговор всем прежним годам Смуты, воспринятой как наказание за грехи: «По умножению грехов всего православного крестьянства, по праведному прещению неутолимой гнев на землю нашу наведе Бог». Отправной точкой стала смерть царя Федора Ивановича («первое прекротил благородный корень царского поколения»), после чего разные цари сменяли друг друга, но спокойствия в государстве их подданные так и не обрели. Борис Годунов происходил «из синклиту», то есть из боярского сословия, и его царство скоро прекратилось. Гришка Отрепьев – это «предотеча богоборного Антихриста», он «безстудно нарек себя царем Дмитреем» и «чародейством» захватил престол, приняв от Бога «пагубную смерть». «Потом же произволися бо царьс-твовати царю Василию», но тут произошло «межусобное кровопролитье», в котором были виноваты «воровские люди», приходившие под Москву «с Ивашкой Болотниковым». «Ос-тавшеи воры» продолжили смуту, стали собираться в Украинных городах «и меж себя выбрали вора и назвали его тем же проименованием, царем Дмитреем». С этого момента началось вмешательство «литовского короля» и случились самые тяжелые времена: «и мнози от грабителей и ненасытных кровоядцов царями себя называше Петрушка, и Август, и Лаврушка, и Федка, и иные многие, и от них многия крови разлияшася и безчисленно благородных людей мечем скончаша». Автор земской грамоты вспоминал «злую смерть» Петрушки, стояние «воров» в Тушине «два годы», осаду королем Сигизмундом III Смоленска и присылку гетмана Станислава Жолкевского с обещанием дать королевича Владислава на русский престол. Не упустил он случая напомнить и о приходе в Коломенское «лжеименитого царя из Колуги». В грамоте содержатся важные детали для понимания того, какие ожидания связывали русские люди с договором о призвании королевича Владислава. Оказывается, гетман Станислав Жолкевский «с полскими и с литовскими людми» должен был «от Москвы отойтить и стать в Можайску», а король Сигизмунд III – оставить осаду Смоленска. Для этого и свели с престола царя Василия Шуйского, что сделано было «по лукавому совету» Михаила Салтыкова с «единомышленики». Его же и Федьку Андронова обвиняли и в последующих преступлениях: «царя Василья с братьею, утаяся ото всей земли, отослали к королю под Смоленск; а полских и литовских людей, которые были с Желтковским, пустили внутрь царьствующаго града Москвы». Завершилось же это тем, что «литовской король» нарушил все мирные постановления, «сына своего королевича на Московское государьство не дал», «жестокими приступы Смоленеск взял» и «послов, которые посланы от всей земли, митрополита Филарета, да боярина князя Василья Васильевича Голицына с товарыщи, послал в Польшу в заточенье».
Особый интерес представляет история создания Первого ополчения, как она изложена в грамоте «земского совета». Здесь было уже не до прорисовки деталей эпической картины Смуты. Ее авторам нужно было четко и внятно объяснить, как они относятся к тем, кто начинал освобождение Москвы, и к тому, что происходило в подмосковных полках. Воевода Прокофий Петрович Ляпунов пользовался явной симпатией составителей грамоты. Он раньше всех, «сослався со всеми городы Московского государства», пришел под столицу. Вместе с ним пришли «бояре, и воеводы, и столники, и стряпчие, и дворяне болшие, и дворяне и дети боярские всех городов, и всякие служивые люди». Все они «положили совет» и принесли клятву биться с врагами «до смерти», «литовских людей в Москве осадили, и тесноту им великую учинили». Заметно, что в новом ополчении пытались представить дело так, что Прокофий Ляпунов был главным, если не единственным создателем Первого ополчения. Здесь не упоминалось ни о роли патриарха Гермогена, ни о призывах, шедших из того же Нижнего Новгорода, ни о союзе с бывшими тушинцами. Среди тех, кто принес клятву освобождать Москву, авторы грамоты перечисляли только служилых людей «по отечеству», совсем не упоминая казаков. То, что это было сделано намеренно, становится ясно из дальнейшего текста грамоты. В ней полностью отказывались от какого-либо компромисса с казаками и их вождем Иваном Заруцким, для описания преступлений которого не останавливались перед преувеличениями, обвиняя его в предательстве и во всем плохом, что случилось под Москвой: «Старые же заводчики великому злу, атаманы и казаки, которые служили в Тушине лжеименитому царю, умысля своим воровством с их началником, с Иваном Заруцким, хотя того, что полским и литовским людем ослаба учинить, а им бы по своему воровскому обычаю владети, Прокофья Ляпунова убили, и учали совершати вся злая по своему казацкому воровскому обычаю». Далее последовали новые преступления: «…и всчали в полкех и по дорогам многие грабежи и убийства, и дворяном и детем боярским смертные позоры учинили, и бедных полонеников, которые выходили из города всякого чину мужьска и женьска, поругали, иных смерти предали; начал-ник же их Иван Заруцкой многие грады, и дворцовыя волости, и монастырския вотчины себе поймал и советником своим, дворяном и детем боярским и атаманом и казаком роздал». Именно эти бесчинства, как можно понять из текста земской грамоты, и стали поводом для создания нового движения, объединившего служилых людей «по отечеству»: «Столники же, и стряпчие, и дворяне, и дети боярские всех городов, видя неправедное их начинание, из под Москвы розъехались по городом и учали совещатися со всеми городы, чтоб всем православным християном быти в совете и в соединенье, и выбрати государя всею землею».
Последняя фраза самая важная из всего земского послания, призывавшего города к созданию нового «Совета всея земли». Он и требовался в первую очередь для того, чтобы сначала избрать царя и только потом думать об освобождении Москвы и создании правительства. В действительности всё произошло, как известно, по-другому. Но не принимая во внимание того, что выбор нового царя «общим советом» был целью ополчения князя Дмитрия Пожарского и Кузьмы Минина доприхода его под Москву, нельзя понять главного в противостоянии двух ополчений. В подмосковных полках поддерживали псковского самозванца «вора Сидорку, имянуя его бывшим своим царем», а руководители нового движения резко осуждали эту присягу. Грамота 7 апреля 1612 года напоминала о прежних обещаниях князя Дмитрия Трубецкого (единственный раз, когда он был упомянут) и Ивана Заруцкого, «чтобы им без совету всей земли государя не выбирати». Присяга Сидорке давала бесспорный аргумент для обвинения казаков и лишний раз напоминала союзникам нового ополчения о их общем враге: «…хотя по своему первому злому совету бояр и дворян и всяких чинов людей и земьских и уездных лутчих людей побити и животы розграбити и владети бы им по своему воровскому казацкому обычаю». Особенный – и справедливый! – гнев вызывало возвращение ненавистного имени «царя Дмитрия»: «Как сатана омрачи очи их! При них Колужской их царь убит и безглавен лежал всем на видение шесть недель, и о том они из Колуги к Москве и по всем городом писали, что их царь убит, и про то всем православным християном ведомо». При этом в нижегородском ополчении не забывали еще про одну опасность, исходившую от признания царем сына Марины Мнишек, и формулировали свою программу очень ясно: «И ныне, господа, мы все православные християне общим советом, сослався со всею землею, обет Богу и души свои дали на том, что нам их воровскому царю Сидорку и Марине и сыну ее не служити и против врагов и разорителей веры християнской, полских и литовских людей, стояти в крепости неподвижно» [459]459
ААЭ. т. 2. № 203. с. 353-356.
[Закрыть].
Надо сказать, что судьба Сидорки оказалась незавидной. Псковичи восстали против него, и он вынужден был бежать из города, но 20 мая 1612 года его схватили и выдали послам подмосковного ополчения и казакам во главе с Иваном Плещеевым. Новгородские власти сообщали в грамоте воеводам Заонежских погостов Василию Федоровичу Неплюеву и Василию Ивановичу Змееву 5 июня 1612 года: «А ныне во Пскове вора, которой назывался царевичем Дмитреем, псковичи связали, а связав повезли к Москве». Самозванца привезли в подмосковные полки, где держали под охраной. В начале царствования Михаила Федоровича он был казнен, причем сделано это было тайно [460]460
См.: Riksarkivet. Ockupationsarkivet fran Novgorod, SE/RA/2403/Se– rie 2/354. Л. 47—48; Тюменцев И.О.Движение земских ополчений и Лжедмитрий III… с. 48. Документы «оккупационного» Новгородского архива в настоящее время полностью описаны и доступны для изучения в Интернете на сайте информационного отдела Национального архива Швеции (SVAR) по адресу http://www.svar.ra.se. См.: Elisabeth Lofstrand and Laila Nordquist.Accounts of an Occupied City. Catalogue of the Novgorod Occupation Archives 1611—1617 / Series 1. Stockholm, 2005; Series 2. Stock holm, 2009.
[Закрыть].
Осмысливая слова ярославской грамоты 7 апреля 1612 года, можно лучше оценить искренность призывов, обращенных к земским городам. Об очевидных целях послания, созданного ввиду выборов нового царя, свидетельствует формуляр документа. После традиционных слов: «…и вам, господа, пожаловати» следует то, чего и ждали от тех городовых советов, которым, в свою очередь, адресовалась грамота из Ярославля: «…советовать со всякими людми общим советом, как бы нам в нынешнее конечное разорение быти не безгосударным; чтоб нам, по совету всего государьства, выбрати общим советом государя, кого нам милосердый Бог по праведному своему человеколюбию даст». Для этого предлагалось присылать «к нам, в Ярославль, изо всяких чинов человека по два, и с ними совет свой отписати, за своими руками». Кроме того, земцы напоминали про то, как гости и посадские люди пожертвовали своим «имением» для обеспечения жалованьем «дворян и детей боярских смольян и иных многих городов». Однако, по словам грамоты, та казна оказалась уже розданной, а прибывающим в ополчение людям, бьющим челом «всей земле» о жалованье, дать уже нечего. Поэтому руководители земского движения просили последовать нижегородскому примеру и «промеж себя обложить, что кому с себя дать на подмогу ратным людям». Собранную денежную казну просили прислать в Ярославль. В обоснование была создана универсальная формула русского патриотизма: «чтоб нам всем единокупно за свою веру и за отечествопротив врагов своих безсумненною верою стояти (выделено мной. – В. К.)».
Грамоту подписали князь Дмитрий Пожарский и другие члены «Совета всея земли», собравшиеся в Ярославле: бояре Василий Петрович Морозов, князь Владимир Тимофеевич Долгорукий, окольничий Семен Васильевич Головин (ближайший сотрудник князя Михаила Скопина-Шуйского в годы борьбы с тушинцами; он оказался в Ярославле после того, как был воеводой подмосковных полков в Переславле-Рязанском), князь Иван Никитич Одоевский, бывшие воеводы Первого ополчения князь Петр Пронский, князь Федор Волконский и Мирон Вельяминов. Все они приложили руки к грамоте даже раньше князя Дмитрия Пожарского и Кузьмы Минина. Среди других рукоприкладств на грамоте 7 апреля 1612 года находим еще несколько десятков имен дворян, дьяков и «лучших» посадских людей, в том числе и упоминавшегося ярославского земского старосты Григория Никитникова.
Первым делом в Ярославле определились, что будут продолжать поддерживать кандидатуру шведского королевича на русский престол. «Новгородское государство», согласившееся ранее, хотя и под давлением, принять у себя правителем шведского королевича, таким образом оставалось вместе с Москвой. Возвращаясь, как во времена действия рати князя Михаила Скопина-Шуйского, к союзу со Швецией, можно было подумать о продолжении боев с главным врагом – королем Сигизмундом III. Кроме того, переговоры со шведской стороной были еще ранее начаты Первым ополчением, но остановились из-за известных обстоятельств падения Новгорода. Шведы, установившие оккупационный порядок в городе, гарантировали при этом, что будут сохранять новгородскую «старину», новгородские духовные власти оставались на своих местах, новгородских дворян и детей боярских не лишали поместий и вотчин. В противоположность этому политика Сигизмунда III в отношении Смоленска означала захват западных земель Русского государства. Новое Смоленское воеводство должно было войти в состав Речи Посполитой, о какой-либо его автономии, пусть и ограниченной, как в случае с Новгородом, никто не помышлял. Мириться с этим дворяне из Смоленска, составившие основу нижегородского ополчения, естественно, не могли. Кроме того, призвание шведского королевича, о кандидатуре которого договаривались в полках Первого ополчения еще до гибели воеводы Прокофия Ляпунова, предоставляло возможность компромисса тем, кого казаки «неволею» заставили присягнуть псковскому самозванцу. Перейдя на службу из подмосковных полков в Ярославль, они всего лишь возвращались к прежней кандидатуре, которую ранее выбрали для себя.
В Великий Новгород было направлено посольство, в которое вошли представители уже созданного в ополчении земского совета «ото всех городов по человеку и изо всех чинов». «А писаху к ним для того и посылаху, – объяснял впоследствии автор «Нового летописца», – как пойдут под Москву на очищенья Московского государства, чтоб немцы не пошли воевати в Поморския городы» [462]462
Новый летописец. с. 119.
[Закрыть]. В действительности же всё было намного сложнее. В ополчении не могли «прикрываться» выбором нового царя для похода на Москву. Иначе бы земский «совет» ничем не отличался от тех, кто, по слову Авраамия Палицына, царем играл «яко детищем». Если бы в нашем распоряжении был только текст летописи, можно было бы подумать, что переговоры не имели никакого значения, а служили лишь отвлекающим манёвром земских властей. Однако посольская переписка между Ярославлем и Новгородом неопровержимо свидетельствует о серьезности намерений обеих сторон, увидевших шанс реализовать собственные интересы, объединившись вокруг кандидатуры шведского королевича [463]463
См.: Замятин Г.А.Из истории борьбы Швеции и Польши за московский престол в начале XVII века… с. 71—73; Кобзарева Е. И.Шведская оккупация Новгорода… с. 211—216.
[Закрыть].
12 мая 1612 года ярославское посольство во главе со Степаном Лазаревичем Татищевым, состоявшее из пятнадцати человек «дворян розных городов» и других представителей «Совета всея земли», достигло Великого Новгорода. С собою они привезли грамоты «о земском деле» к новгородскому митрополиту Исидору, воеводе боярину Ивану Большому Никитичу Одоевскому [464]464
В официальных документах самого Новгорода его имя писали без боярского чина, так как у шведского короля не было «бояр».
[Закрыть]и шведскому наместнику Якобу Делагарди от земских бояр и воевод, которые «собрався всех Зарецких, и Сиверских, и Замосковных городов с дворяны и с детьми боярскими, и стрелцы и с казаки, и с Казанскими и всех Понизовых городов князи и мурзы и с тотары, и со всякими служилыми людьми со многим собраньем» стояли «под Москвою и в Ярославле» (показательно, что подмосковное и ярославское ополчение не отделялись друг от друга) и воевали «с литовскими людми, которые сидят на Москве в осаде и которые под городами» [465]465
ААЭ. т. 2. № 208. с. 363—364. Переписка новгородского посольства в настоящее время хранится в архиве Санкт-Петербургского Института истории РАН. См.: СПбИИ РА Н.Ф. 174. Оп. 2. Д. 548, 549.
[Закрыть]. Посольство было организовано таким образом, чтобы подчеркнуть соборную волю, выраженную в Ярославле. В него вошли жильцы и дворяне, служилые мурзы, представлявшие примкнувшие к движению Смоленск, Казань, Нижний Новгород и «все Низовские городы», тверские города, Ярославль, Кострому, Вологду и Поморье. Присутствие в посольстве детей боярских из Переславля-Рязанского говорило об участии в ярославском ополчении служилых людей из самой обширной уездной дворянской корпорации в России. В Новгород приехали также выборные люди от литвы, немцев и «всех иноземцев, которые служат в Московском государстве», и «от гостей и от посадцких людей всех городов». Под грамотой к Якобу Делагарди с запросом «опасного листа» для проезда ярославского посольства подписались чингизид на русской службе сибирский царевич Араслан Алеевич (будущий касимовский царь) [466]466
Интересно, что в тот момент в Новгороде на положении знатного пленника находился другой сибирский царевич – Алтанай. См.: Беляков А.В.Чингисиды в России XV—XVII веков. Просопографическое исследование. Рязань, 2011. с. 230—232.
[Закрыть], боярин князь Андрей Петрович Куракин (за него расписался родственник – князь Федор Куракин), брат новгородского воеводы князь Иван Меньшой Никитич Одоевский (его имя открывало перечень московских дворян в боярском списке), боярин Василий Петрович Морозов, сам стольник князь Дмитрий Михайлович Пожарский и окольничий Семен Васильевич Головин [467]467
См.: Памятники истории нижегородского движения в эпоху Смуты и земского ополчения 1611 – 1612 гг. / Под ред. С.В. Рождественского // Действия Нижегородской губернской ученой архивной комиссии. 1912. т. 11. № CXLIII, CXLIV. с. 249-255. См. также: Подвиг нижегородского ополчения. т. 1. с. 282—289 (в дальнейшем ссылки на источники из этой публикации даны по новейшему переизданию); Селин А.А.Новгородское общество в эпоху Смуты. с. 360—361, 480 (Роспись участников ярославского посольства 1612 года из шведского архива).
[Закрыть]. Исследователь земских соборов XVI—XVII веков Лев Владимирович Черепнин писал: «Конечно, состав посольства – это еще не состав земского собора, но какая-то взаимосвязь между тем и другим есть» [468]468
См.: Черепнин Л.В.Земские соборы Русского государства… с. 182.
[Закрыть].
Приехавшие в Новгород представители «всех чинов и всяких людей» Московского и Казанского государств ссылались на то, что еще в апреле 1612 года узнали о переписке новгородцев с белозерскими воеводами и властями Кириллова монастыря (действительно, белозерский игумен Матфей одним из первых приехал в Ярославль). В своей грамоте они писали о начавшейся со времен «вора ростриги Гришки Отрепьева» смуте, неправдах польского короля Сигизмунда III, нарушении им договора о призвании королевича Владислава и продолжении войны. Как уже говорилось, в ярославской грамоте не делалось различия между властями Первого ополчения, начинавшими переговоры о кандидатуре шведского королевича, и новым земским правительством: «Мы, бояре и воеводы, соб-рався Российского государьства всех городов со всякими люд-ми пришли под Москву…» Напоминая о посылке в Новгород более раннего посольства Первого подмосковного ополчения стольника князя Ивана Федоровича Троекурова-Ярославского, Бориса Степановича Собакина и Сыдавного Васильева, авторы грамоты дипломатично умалчивали об истинных причинах, по которым «не стался» договор у чашника и воеводы Василия Ивановича Бутурлина с «Яковом» – Якобом Делагарди, то есть о штурме и захвате Новгорода: «То вам самем ведомо, и для того з дороги послы воротились». Новое посольство в Новгород представляло как тех, кто стоял под Москвой, так и тех, кто только собирался в поход на столицу из Ярославля. Их общей целью было «Московское государство очищать, и Москвы доступать, и други за друга стоять, и с полскими людми битися до смерти».
В Ярославле отказывались от кандидатур «Псковского вора» и Марины Мнишек с ее сыном, желая заключить договор о призвании на престол одного из двух сыновей шведского короля Карла IX (в Ярославле еще не знали, что он умер). Для того чтобы не повторить прежних ошибок, ярославские земские власти просили «ко всей земли прислать для прямого ведома и договору» послов, представлявших все чины Новгородского государства. Эти послы должны были привезти письменное подтверждение («за своими руками и за печатьми») договоренностей с Якобом Делагарди («на чом у вас с Яковом договор и укрепленье было») о призвании шведского королевича и его крещении в православие. В Ярославле хотели из первых рук достоверно узнать о том, «как ему свой царский престол правити и люди свои розсужати и ото врагов обороняти и всякие дела делати». В противном случае, как говорилось в грамоте, «нам будет мнително, что у вас с Яковом о государе и о государственных и о земских и о всяких делех договор неучинен» [469]469
Подвиг Нижегородского ополчения. т. 1. с. 282—289.
[Закрыть].
Якоб Делагарди и новгородцы готовы были с ответом уже через неделю, отпустив ярославских послов 19 мая 1612 года. Новгородский митрополит Исидор и боярин князь Иван Большой Никитич Одоевский подтверждали стремление к союзу и обещали вскоре прислать со своими послами требуемое «полное письмо» и списки «с утверженных грамот», по которым Новгород договаривался с Якобом Делагарди о призвании шведского королевича, «как ему государю на Новгоротцком государстве, а будет похотят, также и на Владимерском и на Московском и на всех великих государьствах Росийского царствия государем царем и великим князем всеа Русии быти» [470]470
ААЭ. т. 2. № 208. с. 362-366.
[Закрыть]. 1 июня 1612 года посол Степан Лазаревич Татищев возвратился в Ярославль. По расспросам членов посольства, в Великом Новгороде всё было в порядке, «от немецких людей християнской вере никакой нарухи и православным крестьяном разорения никакова нет, а живут по прежнему безо всякие скорби» [471]471
СГГ и Д. т. 2. № 282. с. 598.
[Закрыть]. Тогда же в Ярославле впервые узнали точное имя того царя, которому собирались присягать. Послы привезли достоверные сведения обо всех изменениях на шведском престоле после смерти короля Карла IX 30 октября 1611 года. Ему наследовал король Густав II Адольф, поэтому на русский престол стал претендовать одиннадцатилетний королевич Карл Филипп [472]472
Посольство из Новгорода в Швецию, отправленное 25 декабря 1611 года, называло обоих королевичей в качестве возможных претендентов. В Новгороде официальные известия о вступлении короля Густава II Адольфа на трон получили 8 апреля, а вдовствующая королева Кристи на (Христина в русских источниках) подтвердила решение о приезде ее сына Карла Филиппа в Новгород 20 апреля. См.: Дополнения к Актам историческим, собранные и изданные Археографической комиссией (да лее – ДАИ). СПб., 1846. т. 1. № 162. с. 283-285; Замятин Г.А.Из истории борьбы Швеции и Польши за московский престол в начале XVII века… с. 61—59. В начале июня 1612 года новгородцы начали уже активно готовиться к приезду Карла Филиппа. Упоминавшаяся выше грамота в Заонежские погосты (она сохранилась в черновом варианте) была посвящена сбору кормов для его встречи. В этом документе встречается занятная описка: имя Филиппа подьячий в новгородской канцелярии поначалу ошибочно написал как «Липа», потом зачеркнул и поправил как надо. Новгородцы, видимо, быстро учились правильному написанию имени своего будущего владетеля Карла Филиппа Карловича. См.: Riksarkivet. Ockupationsarkivet fran Novgorod, SE/RA/2403/Serie 2/354. Л. 47.
[Закрыть].
Возвращение посольства из Великого Новгорода стало сигналом к действию для нового земского правительства [473]473
Любомиров П. Г.Очерки истории нижегородского ополчения… с. 141-142.
[Закрыть]. В начале июня 1612 года из Ярославля отправили грамоту в Путивль с призывом прислать выборных для обсуждения договора об избрании нового государя. Хотя служилые люди из «зарецких» и «северских» городов находились в подмосковных полках, а воеводы подчинялись князю Дмитрию Трубецкому и Ивану Заруцкому, это было необходимо в том числе и для подтверждения уже заявленного ранее представительства от этих городов. Грамота в Путивль, адресованная местному «освященному собору» и представителям всех чинов, является одним из самых важных документов периода стояния земского ополчения в Ярославле. В ней также содержалось изложение недавней истории Смуты; правда, учитывая известные обстоятельства поддержки Северской землей самозванцев, составители документа начинали сразу с обвинений Сигизмунда III в нарушении прежних постановлений о мире. Грамота осуждала действия Ивана Заруцкого и «старых заводчиков всему злу», то есть «атаманов и казаков, холопий боярских». Их обвиняли в убийстве Прокофия Ляпунова и в последовавшем развале ополчения, что стало одной из причин нижегородского движения. Потом, объяснял князь Дмитрий Михайлович Пожарский, «собрався аз князь Дмитрей со всеми ратными людьми, пришел в Ярославль, из Ярославля хотели со всеми людьми идти под Москву», однако этот поход остановило полученное известие о присяге полков бояр князя Дмитрия Трубецкого и Ивана Заруцкого «вору, который во Пскове, имянуя его Дмитрием, что был в Калуге, да Марине и сыну ея». Интересно, что в ярославском ополчении присягу третьему Лжедмитрию восприняли как общую присягу самозванцу и его жене Марине Мнишек. После этого власти ополчения приняли решение поддержать обращение новгородцев, ожидавших приезда шведского королевича (говорили об этом с дипломатической осторожностью), для чего и послали грамоты в Путивль о созыве выборных «для общаго земского совета, изо всяких чинов человека по два и по три». Видимо, когда грамоту уже приготовили к отсылке, в Ярославле получили ободряющее известие об отказе «таборов» от «Псковского вора» и написали о приезде из подмосковных полков Корнилия Никитича Чоглокова, дьяка Алексея Витовтова и казачьих атаманов Афанасия Коломны, Ивана Немова, Степана Ташлыкова, Бесчастного Власьева с товарищами 6 июня 1612 года. Послы подмосковного ополчения подтвердили в Ярославле, что князь Дмитрий Трубецкой и Иван Заруцкий отказались от присяги самозванцу: «про того вора сыскали и от него отстали». Таким образом, создавались реальные условия для объединения «всей земли» и выбора царя «общим советом» [474]474
СГГ и Д. т. 2. № 281. с. 593-597.
[Закрыть].
Послы из Новгорода, игумен Никольского-Вяжищского монастыря Геннадий и князь Федор Тимофеевич Черново-Оболенский с товарищами, прибыли в Ярославль в двадцатых числах июня 1612 года [475]475
Посольство выехало из Новгорода 8 июня, его первые переговоры состоялись около 26 июня. См.: Любомиров П.Г.Очерки истории ниже городского ополчения… с. 142—144; Замятин Г.А.Из истории борьбы Швеции и Польши за московский престол в начале XVII века… с. 74—77; Кобзарева Е. И.Шведская оккупация Новгорода… с. 216—224; Селин А.А.Новгородское общество в эпоху Смуты. с. 207—208, 362; Рабинович Я.Н.Личности Смутного времени: Федор Тимофеевич Черново-Оболенский // Известия Саратовского университета. 2010. т. 10. Сер. История. Международные отношения. Вып. 1. с. 22—31.
[Закрыть]. В целом исследователи характеризуют это посольство как не особенно удачное. В ярославском ополчении согласились с тем, что кандидатура королевича Карла Филиппа является для них приемлемой, но отказались участвовать в посольстве в Швецию. Слишком памятен всем был «ожог» от неудачи с другим посольством – под Смоленск. В Ярославле потребовали выполнения предварительных условий о приезде в Новгород шведского королевича Карла Филиппа и его крещении в православие.
Сведения о новгородском посольстве в Ярославль могут быть дополнены благодаря одному забытому документу, опубликованному ростовским купцом, коллекционером и исследователем рукописей Андреем Александровичем Титовым в конце XIX века. Публикатор определил разновидность документа – «расспросные речи» [476]476
Титов А.А.Рукописи славянские и русские, принадлежащие И.А. Вахрамееву. Сергиев Посад, 1897. Вып. 4. с. 284—285. См.: Козляков В.Н.Двор в поисках монарха в 1612 году (забытый источник о нов городском посольстве к «совету всея земли» в Ярославле) // Верховная власть, элита и общество в России XIV – первой половины XIX века. Российская монархия в контексте европейских и азиатских монархий и империй. Вторая международная научная конференция. Тезисы докладов. М., 2009. с. 72-74.
[Закрыть], но не увидел его связи с переговорами новгородцев и ярославцев в 1612 году по поводу кандидатуры шведского королевича Карла Филиппа на русский трон. Титова, как и всех, кто позднее знакомился с этим документом в публикации, видимо, сбивало то, что речи принадлежали Луке Милославскому, а представители этого рода, породнившегося с царской семьей, стали известны со второй половины XVII века. Между тем Лука Иванович Милославский был заметной фигурой в Великом Новгороде; достаточно сказать, что именно ему перед штурмом Новгорода в 1611 году была поручена починка острога на Софийской стороне [477]477
Перед этим, в 1610 году, Лука Иванович Милославский находился на воеводстве в Орешке, а после падения Новгорода был отправлен «дозирать» (описывать) земли Старой Руссы. См.: Седов77. В.Захват Новгорода шведами в 1611 году с. 116—127; Селин А.А.Новгородское общество в эпоху Смуты. с. 234, 240.
[Закрыть].
В расспросных речах Луки Милославского содержатся чрезвычайно интересный рассказ о приезде посольства в Ярославль и уникальные детали переговоров относительно кандидатуры шведского королевича. Люди, упомянутые в документе только по именам, уверенно отождествляются: «князь Федор» – глава посольства князь Федор Черново-Оболенский, «Смирной» – Смирной Отрепьев, а «Яков» – Якоб Делагарди. Оказывается, сразу по приезде в Ярославль послы были приняты «митрополитом», то есть ярославским и ростовским владыкой Кириллом, которому они «грамоты отдали». Митрополит Кирилл занимал ростовскую и ярославскую кафедру до времени Лжедмитрия I, когда новым главой Ростовского митрополичьего дома стал митрополит Филарет Романов. После этого Кирилл жил на покое в Троицесергиевом монастыре, где он долгое время служил архимандритом. Поэтому митрополит Кирилл хорошо знал многих знатных паломников в Троицу, входивших в Боярскую думу. Скорее всего, он был среди тех, кто пережил осаду Троицы тушинскими войсками. Его почтенный возраст и преемственность личных связей с деятелями времен последних «прирожденных» государей оказались востребованными в 1612 году, когда его снова позвали в Ярославль. Как видно, он, так же как митрополит Исидор в Великом Новгороде, стал представлять власти земского «Совета всея земли».
Дальше возникла двухнедельная пауза, подогревавшая подозрения в том, что послов необоснованно задерживают («ставят»). Внутри посольства тоже возникли разногласия. Смирного Отрепьева (того самого, родного дядю самозванца Григория Отрепьева) обвиняли в том, что он втайне от других дал переписать «статейные списки». Ждали некоего посольского дьяка, вероятно, Савву Романчукова, который вел дальнейшие переговоры и готовил грамоты [478]478
Известны сведения о его службе в ополчении начиная с августа 1612 года, но, возможно, он приступил к заведованию посольскими делами еще раньше. См.: Любомиров П. Г.Очерки истории нижегородского ополчения… с. 92; Лисейцев Д.В.Приказная система Московского государства в эпоху Смуты. с. 494.
[Закрыть]. В расспросных речах говорилось об аргументах Якоба Делагарди, оправдывавшего захват Новгорода шведами: «…и Лука говорил: слышал де он наперед сего от Якова, что ч[елованье] наруш[е]но от нас, помирились с литовским» [479]479
Использование сокращения «ч.» не оговорено публикатором, что создало дополнительные сложности в понимании смысла документа. Вероятно, А.А. Титов и/или переписчик документа не учли характерный признак новгородской речи – подставление «ч» вместо «ц», а потому и не поняли слово «челованье» – «целованье», приведя только первую букву «ч.», что скорее можно было понять как – «челобитная».
[Закрыть]. Вспоминали в Ярославле и переговоры со шведами присланного из полков Первого ополчения и вошедшего в новгородскую администрацию воеводы Василия Ивановича Бутурлина: «писал де к ним Василей про крещенье, что креститца на рубеже»: речь шла о том, что шведский претендент должен перейти в православие до того, как войдет в пределы Русского государства. «И князь Федор говорил, что Яков про то с Васильем (Бутурлиным. – В. К.)говаривал». Кстати, эта отсылка подтверждает предположения ученых о том, что князь Федор Черново-Оболенский приехал в Новгород в составе посольства Первого ополчения и участвовал еще в первых переговорах о призвании шведского королевича. Ярославские власти явно уклонялись от того, чтобы дать подробный ответ на «статейные списки», собираясь написать только о приеме и отпуске послов. Глава новгородского посольства князь Федор Черново-Оболенский тем временем использовал пребывание в Ярославле отнюдь не только для дипломатических трудов: «да у князя Федора ж де были скоморохи, и медведя травил и зернью играл с Потапом Нарбековым». Очень неожиданное свидетельство, непривычное для картины патриотического подъема в Ярославле летом 1612 года!