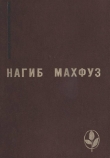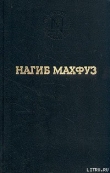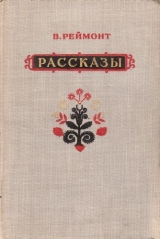
Текст книги "Рассказы"
Автор книги: Владислав Реймонт
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 14 страниц)
IV
Как прошла эта долгая ночь? Мать ничего не сознавала, кроме терзавшей ее невыразимой муки. Рассвет уже осветил горницу, а она все сидела у давно остывшей печи. И только время от времени машинально вставала, смотрела в окно, ходила за перегородку взглянуть на спавшего сына – и снова садилась у печи. В ее серых утомленных глазах стояли слезы. Она уже не имела сил плакать, и слезы стыли на ресницах, застилали зрачки как бы матовым стеклом.
– Иисусе! Иисусе! – шептала она порой.
Не передать, что пережила она этой долгой ночью, какая тревога, какая боль рвала сердце на части, какая буря протеста бушевала в ней – и какое отчаяние бессилия! Нет, никакими словами этого не опишешь.
Она чувствовала, что спасения нет, что все погибло.
Ее вызывают в волостное правление! Пришла бумага насчет Ясека!
«Боже, боже! Значит, им уже дали знать, что он убежал. Его ищут… И заберут опять. Нет, нет, не отдам! Он мой, кровинка моя, мой сын… Не дам!»
Так бунтовало материнское сердце, потом снова поддавалось страху, слабости, отчаянию, падало куда-то в отвесную пропасть бессилия, и стекленели слезами красные, воспаленные глаза.
Если Ясека теперь заберут, то не видать ей больше его никогда. Никогда…
– Иисусе, где же справедливость? Справедливость где?
Так стонала мать, все больше теряя власть над собой.
И за что его карают? Он пырнул вилами управляющего. А за что? Ведь Ясек был прав! Управляющий не раз пробовал затащить его Настку в амбар. Ясек ее и себя защищал! И за это тюрьма на целых три года! Сколько раз мужики друг другу рожи в кровь разбивали, руки-ноги ломали – и никто их в тюрьму не сажал. А Ясека засадили. Справедливо это? А управляющему все с рук сходит. Живет себе, как пан, и блудит, как блудил! Какая девушка ни пойдет в усадьбу барщину отрабатывать, так и жди, что принесет дитенка в переднике. Ей стыд и грех, а ему за это кары никакой не полагается. И где на него управу найдешь? Кого он боится? Вот захотел – и посадил Ясека в тюрьму. Проклятый!
Такая страшная, дикая, неумолимая ненависть закипела в ней, что она вцепилась худыми пальцами в грубую ткань запаски и с ожесточением рвала ее. Из этого состояния вывел ее приход Тэкли.
Ясек попрежнему лежал в беспамятстве. Она не знала, что делать. За доктором итти далеко, да и опасно: а вдруг донесет! И люди увидят, пойдут разговоры, расспросы… Нет, нет!
«А если он умрет?»
Долго взвешивала она в уме этот вопрос, камнем свалившийся на ее бедное, измученное сердце.
«Пусть умрет! И мне тогда конец будет. А чтобы выдали его, – не допущу, нет… Пусть умрет!» – уныло думала она.
Был уже белый день, когда она приоделась, завязала в платок полтора десятка яиц и пошла в волостное правление.
Весело сияло солнце, играя в лужах на дороге, по которой шла Винцеркова. В овражках между камнями маргаритки уже поднимали розовые ресницы, улыбаясь солнцу. Откуда-то, с еще холодных полей взлетел жаворонок и колокольчиком звенел в чистой лазури неба. Резкий свежий ветер охлаждал разгоряченное лицо старой женщины.
До волостной канцелярии было не очень далеко. Она помещалась около костела в большом полуразрушенном здании бывшего монастыря, на горке, под которой деревня длинной лентой тянулась к темневшим вдали лесам.
Писаря не было, он еще спал. В канцелярии вертелся только сторож. Он подметал пол, потом пошел кормить свиней, настойчиво хрюкавших в глубине длинных коридоров, разгороженных деревянными переборками.
Винцеркова села перед домом на громадную каменную капитель, обрушившуюся с фронтона монастырского здания и теперь служившую скамьей. Она терпеливо ждала.
Скоро пришел войт. [12]12
Войт– волостной старшина.
[Закрыть]Поздоровавшись, старуха сразу обратилась к нему:
– Я насчет той бумаги, что про моего Ясека.
– Да, да, есть что-то. Подождите, вот пан писарь встанет.
– А вы не знаете, что там сказано?
– На улице говорить не стану. Да и на то писарь, чтобы бумаги читать! Сейчас я ему прикажу, так он вам объяснит, в чем дело.
Войт о бумаге ничего не знал, но не хотел ронять свой авторитет.
– Войт, помогите-ка снести ушат! Мне самому не справиться, а свиньи жрать хотят, – сказал сторож.
– Вот еще! Сам неси! – обиделся войт, но, покосившись на завешенные окна писаря, плюнул и понес ушат.
– Люди должны всегда по-соседски помогать друг другу, – сказал он с важностью, когда вернулся. Сел на камень и стал потчевать табаком крестьян, которые пришли по своим делам.
– Войт! Пан писарь велел, чтобы вы телегу смазали и запрягли лошадь, – сказал сторож.
Войт, видя, что мужики уже ухмыляются, не двинулся с места.
Но в этот момент в форточку высунулась растрепанная голова:
– Войт! Ты здесь! Приготовить телегу, едем в Горки на следствие!
– Мигом будет… Как же, следствие – дело казенное, подводу мы приготовить обязаны.
– Войт, а кур пани писарши вы уже сегодня щупали? – подтрунил над ним кто-то из мужиков.
– Заткни глотку, ты!
– И ребятенка писарши тоже надо бы перепеленать!
– И ночной горшок вынести.
– Да сапоги почистить господам.
– И дочкам носы утереть.
Так подсмеивались над войтом мужики, но он их не слушал; обрядил телегу, выкатил ее и поставил перед канцелярией, потом пошел за своей лошадью, чтобы впрячь ее в пару с лошадью писаря.
– А славный конь! Заводской, что ли? – шутили мужики, следя, как войт тащит за гриву свою лошаденку.
– Конь что надо! Дашь ему соломы – съест. Дашь жердь – только бы не очень сухая! – схрупает всю дочиста. С плетня одежу тащит и уписывает ее, как клевер. Борову не даст одному из корыта жрать – такой компанейский конь!
– Конь как конь, но упряжь важная и поступь, как оно и полагается начальникову коню!
– Гляньте, как шагает – точь-в-точь стельная корова! А хвост у подлеца, как мочала! Ишь, как он его задирает – с хозяина пример берет.
– А морда совсем как у панского арендатора.
– Сбруя – просто загляденье. Тут шнурочек, там ремешок! Обряжен, как шляхтич! Еще только портки на него наденьте, войт, – и в Варшаву на выставку!
– И быстрый, наверное, как корова!
Так они высмеивали и войта и его лошадь.
А Винцеркова ждала. Прислонив голову к стене, она сидела с закрытыми глазами, неподвижно, как мертвая. Она не слышала, что говорили вокруг, потому что в голове у нее шумели вчерашние слова сторожа: пришла бумага насчет Ясека.
Что там может быть, в этой бумаге? Что скажет ей писарь? Знают ли уже? Вопросы эти молниями острой боли и тревоги прошивали ей мозг.
Она не замечала, что солнце поднимается все выше, зажигая золотой пожар во всей долине. Начиналась оттепель, в бороздах, оврагах, лужах блестела вода, а дым из труб прямыми голубоватыми столбами уходил в небо. В деревне, которая отсюда, с горы, видна была, как на ладони, гнали скот на водопой. Но Винцеркова ничего не видела, не слышала, погруженная в свои думы.
– Винцеркова, в канцелярию! – позвал сторож и, заметив у нее в руках узелок, добавил: – Идите через кухню.
Она не спеша, как-то машинально пошла по старому монастырскому коридору, где копошились куры и поросята.
В кухне, громадной, сводчатой, с готическими окнами, стояла жена писаря с папиросой в зубах.
Винцеркова поклонилась.
– Что скажете?
– Я насчет той бумаги. Вот яйца… только полтора десятка, потому что куры еще плохо несутся, – бормотала старуха. Она развязала узелок и положила его на пол, к ногам писарши.
– А свежие?
– Только два дня как снесены.
– У вас просьба есть? – спросила пани писарша, просматривая яйца на свет.
– Есть, есть. Тут бумага пришла насчет моего сына… того, что в тюрьме… вы, наверное, знаете, пани.
– Идите в канцелярию, я сейчас скажу мужу.
– Спасибо, пани! – шепнула Винцеркова и вышла.
– Адам, скажи там мужу, что у Винцерковой просьба! – крикнула в дверь писарша и продолжала просматривать яйца.
Винцеркова вошла в канцелярию, поздоровалась, но ей никто не ответил, и она в ожидании остановилась у дверей. Писарь еще только одевался, каждую минуту он исчезал в соседней комнате и, возвратившись с какой-нибудь частью туалета, не спеша надевал ее, разговаривая в то же время с посетителями.
Винцеркова ждала добрый час, так как, одевшись, писарь ушел завтракать. В канцелярии остался только молодой парень, рыжий и веснушчатый. Он сидел и курил, осторожно пуская дым в печку. Через некоторое время старуха отважилась, наконец, обратиться к нему:
– Пане!
– Чего вам?
– Да, говорят, бумага пришла насчет моего сына, Ясека Винцерка.
– Ага, это тот вор, что удрал из тюрьмы?
– Мой сын не вор! И ты, шляхтич голоштанный, не смей его так обзывать! – крикнула она громко, потому что это слово ножом резнуло ее по сердцу.
– Не шуми, баба, не то попадешь в кутузку, – спокойно заметил парень, пуская густые клубы дыма.
Она не сказала больше ни слова. Сидела у окна, вконец измученная томительным ожиданием.
– Вы будете Анна Винцеркова?
– Я, вельможный пан. – Она торопливо встала, отвечая писарю.
– Это ваш сын, Ян Винцерек, приговорен к трем годам тюрьмы за избиение и покушение на убийство?
– Да, Яном его звать. Засадили на три года… только по злобе.
– Получено извещение, что Ян Винцерек неделю назад сбежал из тюрьмы.
– Иисусе! – простонала она, откачнувшись к стене.
– И его разыскивают. Если он явится к вам, вы обязаны его задержать, уведомить солтыса и доставить его в волость.
– Это родного сына-то!
– Родного не родного, тут про это ничего не говорится. Сказано только, что убежал. А если убежал, должен быть пойман. А поймают его – так пойдет под суд и опять в тюрьму. И кто его будет укрывать или поможет ему убежать, того тоже засудят.
Писарь кончил и принялся за работу.
А Винцеркова долго еще стояла, как пораженная громом, не имея сил уйти.
«Под суд и в тюрьму! Под суд и в тюрьму…»
V
Только слезы, горе и терзания душевные – удел наш в жизни. Терпи, человек, жалкий червяк, или борись с ними, гони их от себя или беги, несчастный, хоть за леса и моря – все равно злая доля и там тебя достанет, схватит за горло, где бы ты ни прятался.
Эх, судьба, судьба!
Люди – как воды земные: не знает река, откуда течет и куда, не ведает, для чего.
Люди – как облачка, гонимые ветром туда, сюда, по всему свету… как листья, сорванные ветром с дерева: носит он их по полям, по лесам, пока не бросит где-нибудь умирать. Люди – как день вчерашний: прошел – и нет его, и никогда не вернется.
И нет пощады, нет спасения, не убежать никуда.
Куда от судьбы убежишь, несчастный, куда?
За звезды, что ли, уцепишься? Отдашь верующую душу милосердному господу богу?
Ох, доля наша, горькая доля!
Роптала душа Винцерковой, скорбящая душа матери.
А на дворе гудел ветер, трепал соломенную крышу, качал деревья так, что они хлестали о стены, свистел в трубе и, как бес, которого тешат людские несчастья, гоготал, плясал на темных дорогах в эту дождливую, печальную и жуткую ночь.
– Иисусе! – вздыхала Винцеркова, и веретено ускользало из ее немеющих пальцев, а утомленные, исплаканные глаза все лили и лили горькие слезы, стекавшие по впалым щекам. Иссохшая грудь поднималась от тяжких рыданий, и страшное сознание своей беспомощности гнуло до земли бедную старуху, рождало рабскую покорность…
Сегодня Тэкля одна хлопотала по хозяйству. Сготовив ужин, она взяла ребенка из холщовой люльки, подвешенной к потолку, и ушла спать.
Старуха, занятая своими горькими мыслями, и не заметила ее ухода. Время от времени она вставала и заходила к Ясеку, который метался в жару. Потом начинала вслушиваться во всякий звук снаружи, свист ветра, голоса ночи… Ей каждую минуту чудилось, что она уже слышит бряцанье шашек, что уже пришли за ее сыном. Она вскакивала с места, заслоняла собой дверь в каморку, и взгляд ее, полный отчаяния, был страшен, как может быть страшен только взгляд матери, защищающей своего ребенка.
Но никто не шел. Она слышала лишь шаги ночи, хлеставшей мир ветрами.
Уже незадолго до полуночи кто-то легонько постучал в дверь, и вошла промокшая, иззябшая Настка.
– Нет, сидеть мне некогда, надо сейчас же домой. Я прибежала вам сказать… Ох, совсем запыхалась… что господа в усадьбе говорили… будто Ясек убежал из тюрьмы…
– Так ты хочешь его выдать, иуда! – прошипела старуха.
– Господи помилуй, что вы такое говорите! Или у вас совсем сердца нет? Это я Ясека выдам, я? Да я себя всю до последней косточки отдала бы за него!
Слезы помешали ей говорить. Она надвинула платок на глаза и выбежала. Только стук ее башмаков слышался еще некоторое время в темноте, все слабее и слабее.
– Помучайся и ты, натерпись горя, как я! – крикнула ей вслед старуха. Шагая из угла в угол, она придумывала, как спасти сына.
Но выхода не было. Придут, найдут его, схватят, и пойдет он под суд, потом назад в тюрьму! И больше она его не увидит… Никогда!
От внезапного прилива страха у нее затряслась голова. Она утерла передником глаза и нос и все ходила, ходила и думала.
Хоть бы он поскорее встал на ноги! Тогда она поможет ему бежать, продаст свинью… а то корову или даже обеих коров… и пойдет за ним хоть на край света, туда, где его никто не знает, где его не посадят за решетку.
Но куда?
И перед этим вопросом душа отступала в тревоге.
В самом деле, куда бежать? Ведь везде, во всем мире есть суды, стражники, тюрьмы!
Ее так ужаснула эта мысль, что она схватилась за голову и тяжело села на лавку.
«Да, везде… везде капканы понаставили, как на волков… везде».
Вот ходила она на богомолье в Ченстохов – так и там нужно было предъявлять паспорта. Была в Кальварии, за Краковом, – и там то же самое.
Старуха растерянно осмотрелась кругом. Ей виделись повсюду непроницаемые стены, ряды стражи, канцелярии, писари, руки, протянутые, чтобы хватать людей.
О боже! Некуда податься бедному человеку, некуда уйти от этой силы, которая только сейчас предстала перед ней во всей своей беспощадности и олицетворением которой для нее были стражники и тюрьма.
Бедняжка не понимала слова «закон» и думала, что оно означает «справедливость».
В утомленном мозгу затеснились воспоминания о прошлом, о муже, ожили пережитые страдания и обиды и синими, искаженными мукой устами кричали из глубины времен: «Нигде! Нигде нет спасенья!»
Старая мать заскулила от боли, как пес, которого пнули ногой, согнулась вся, окаменев от невыразимого ужаса, и сидела у окна, уйдя в себя.
Но из этого горестного сознания своей беспомощности и одиночества понемногу рождался бунт существа, раздавленного судьбой, против несправедливости, страстный бунт отчаявшейся, но еще сильной души.
Как? Ее Ясека схватят, будут судить и вернут в тюрьму, хотя он и так два года отсидел ни за что? А сколько настоящих разбойников, убийц ходит на свободе! Вот хотя бы Адам Бжостек – все знают, что он в сговоре с грабителями. Или Михаляк, который убил человека. Оба они на свободе. Почему это так? Где же справедливость?
И долго нескончаемой нитью сновали в голове эти «почему», пока старую женщину не сморил сон. Проснулась она только на заре.
Новый день не принес облегчения, напротив – ей стало еще тяжелее, и бунт ее постепенно переходил в ненависть ко всему на свете и ко всем, кто на свободе.
Ясеку ничуть не стало лучше, несмотря на то, что она несколько раз ставила ему банки на спину и на бока и, чтобы пустить кровь, подрезала острым ножиком вздувшиеся пузыри.
А в полдень пришла обедать Тэкля, отрабатывавшая барщину у помещика, и сказала:
– В усадьбе уже знают… И по деревне идут толки.
– Что говорят? Что?
– Управляющий сказал работникам, что если кто Яська поймает и доставит в волость, он тому даст десять рублей и целую бутыль водки.
– А… а мужики что? – еле выговорила старуха.
– Что ж, мужики как мужики. Десять рублей – ведь это деньги немалые! На них можно хорошую свинью купить, – добавила Тэкля как бы про себя.
Винцеркова пытливо всмотрелась в ее лицо. И заметив, как сосредоточенно и жадно Тэкля смотрит на ее поросят, она, после недолгой, но тяжелой внутренней борьбы, решилась на жертву.
– Тэкля, я тебе подарю ту свинью, что с пятном на боку…
– Разве я иуда? – искренно возмутилась Тэкля, но в глазах у нее еще заметнее блеснула жадность.
– Что ты, у меня и в мыслях этого не было… Я давно надумала дать ее тебе.
– Как же это – даром, ни за что?
– Ну да. Мало ли ты мне подсобляла и основу делать, и прясть. Не заслужила разве?
– Неужто вправду дадите?
– Вправду. Она супоросная, будут поросята…
– Значит, свинья теперь уже совсем моя? – спрашивала обрадованная Тэкля.
– Ну да, твоя.
– Иисусе, Мария! Родная мать столько добра не сделает! – воскликнула Тэкля и бросилась целовать у Винцерковой руки, кланялась ей до земли, а потом побежала в хлев: и пригнала свинью на свою половину. Она все ходила вокруг нее, подсовывала ей еду и, не помня себя от радости, что у нее теперь есть собственная свинья, не слышала даже, что в люльке плачет ребенок.
– Господи, какая красавица! Складная какая! И откормленная! – выкрикивала она поминутно.
А Винцеркова, слыша эти выражения восторга, усмехалась довольно кисло. Конечно, за Ясека она готова была отдать и жизнь, но все-таки… все-таки свинья стоила рублей шесть, а то и семь, потому что весной свиньи в цене.
«Что поделаешь, нужда заставит, так и не то отдашь», – думала она, когда шла навестить вчерашнюю роженицу. По дороге она нарочно останавливалась и первая заговаривала с людьми, надеясь как-нибудь выпытать у них, знают ли в деревне, что она скрывает Ясека у себя в хате. Но мужики не давали себя перехитрить – никто ни словом, ни взглядом не обнаружил, что им что-либо известно. Когда же она в конце концов сама заговорила о его бегстве из тюрьмы, они делали такие удивленные лица, как будто эта новость, о которой уже говорила вся деревня, была для них полнейшей неожиданностью.
– Хитрецы чортовы, ни один и словечком не обмолвился! – бормотала она разочарованно.
– Тряпье, тряпье покупаю! – послышался чей-то голос на дороге.
– Эй, хозяйка, не продаете ли что? Не нужно ли чего? – окликнул Винцеркову тряпичник, малорослый и тощий еврей, который брел среди дороги рядом со старой бричкой. В бричку была впряжена худая, как скелет, лошадь.
– Остановитесь у моей хаты, я сейчас вернусь.
Она зашла к роженице, а еврей медленно двинулся дальше, подталкивая свою повозку, нагруженную тряпьем, и подгоняя лошадь. Перед каждым домом он кричал:
– Тряпье! Тряпье!
Иногда делал остановку и приобретал кучку лохмотьев в обмен на булавки, нитки, иголки, ленты, глиняные свистульки. Или совершал сделки покрупнее: менял старье на десяток яиц, полмеры картошки, старую ощипанную курицу.
Ватага полуголых ребятишек с шумом и криками бежала за ним.
– Эй, тряпичник! На тебе грош, продай петушка!
Еврей не обращал на них никакого внимания и только энергично отгонял кнутом собак, которые яростно хватали его за полы длинного кафтана и заливались на всю деревню.
Он продолжал выкрикивать: «Тряпье покупаю!», а в промежутках подгонял лошадь, которая поминутно останавливалась, или толкал бричку, подпирая ее костлявым плечом с таким усилием, что его покрасневшие от натуги глаза просто лезли на лоб, щелкал кнутом и приговаривал: «Пошел, пошел, гнедко!» Когда он наклонялся, полы его длинного кафтана волочились по грязи, оставляя на ней длинный след. По временам он в изнеможении останавливался и, прислонившись к бричке, сдвинув шапку на затылок, утирал лоб, тяжело дыша. Его рыжая борода тряслась, глаза наполнялись слезами.
Уже под вечер дотащился он до Винцерковой, дал лошади сена и с кнутом в руке вошел в избу. Он был так утомлен, что долго сидел у печки молча, не в силах выговорить ни слова.
– Что, замучились?
– С утра еду. И ничего еще сегодня не ел – вот и ослабел немного.
– Молока выпьете?
– Спасибо, хозяйка. Я сейчас принесу свою кружку, так вы мне в нее надоите.
Она надоила ему молока, а он вскипятил его на огне, накрошил в кружку черствой булки, надел шапку и стал есть с такой жадностью, что Винцеркова принесла из чулана три яйца и положила перед ним.
– Спасибо, – от души поблагодарил еврей.
– Ешьте на здоровье.
Он сварил яйца, но съел только одно, а остальные два украдкой спрятал в карман, для детей. Потом, словно в благодарность за ее доброту, сказал тихо:
– Стражники мне говорили про вашего сына. Его ищут!
У Винцерковой и руки опустились. Она невольно бросила взгляд на дверь в каморку.
– Ищут! Они рассказывают, что с неделю тому он пришел ночью в корчму, разбил нос стражнику и убежал.
– Матерь божья! – вскрикнула старуха. Этой подробности она до сих пор не знала.
– Когда он придет домой, вы его тут не оставляйте, потому что поймают, – и всему конец. Я это хорошо знаю. Когда мой младший брат убежал с военной службы, мы его прятали у себя две недели, а потом ночью пришли, забрали, и больше мы его не видели. Ой, ой, что это была за ночь!
Еврей даже захлебнулся от волнения.
– А если бы он сразу уехал в Америку, он не попал бы к ним в руки!
– А где она, Америка эта? – быстро спросила старуха.
– Далеко, за морем, а может, и за двумя морями. Там всякого народу много – и евреев, и поляков, и немцев. В Америке хорошо, там никаких стражников нет. Я знаю, потому что туда уехал сын фельдшера из нашего города, и теперь он каждый год посылает отцу деньги.
– А отчего же вы, Мойше, не отправили туда брата? – недоверчиво заметила Винцеркова.
– Отчего? Оттого, что денег не было. Если бы у меня было столько денег, сколько стоит доехать до Америки с женой и детьми, так я бы и тут жил хорошо.
– А много надо денег? – спросила она с притворным равнодушием.
– Не знаю наверное. Но один еврей говорил мне, что целых сто рублей одна дорога! Это большие деньги.
Они помолчали.
Еврей опоясался красным платком, заткнув за него концы кафтана, собрал свои коробки, надел шапку и, выходя, сказал вполголоса:
– Я вам, как друг, советую: пусть он сразу удирает в Америку. Ну, счастливо оставаться!
– Поезжайте с богом, Мойше.
– А вы Гершеля знаете, хозяйка? Он иногда переправляет людей за границу. Вы с ним потолкуйте, он сейчас дома.
«В Америку! За море! Господи помилуй! – думала Винцеркова, оставшись одна. – Это, должно быть, туда и потянулись теперь люди из деревень!»
Несколько дней она носилась с этим планом. Обдумывала его со всех сторон, но не могла решиться отпустить сына так далеко.
«Поеду и я с ним! Чего ради мне тут оставаться?»
Эта идея ее ошеломила, в ней быстро проснулся непобедимый интерес крестьян к новым местам. Но она смотрела в окно на знакомые с детства картины, и остывал этот интерес, сменяясь страхом. Уехать из дому, от земли, от костела? Все оставить, чтобы никогда больше не увидеть?
– Господи, да я там помру с тоски! Не искушай меня, нечистый, не искушай! – шептала она, но на душе становилось все светлее. Надежда спасти Ясека окрыляла ее.
«В Америку! Ведь туда и прошлым летом уехали мужики, и нынешним летом другие сбираются… Да, да! А ксендз в проповеди говорил, чтобы не уезжали, потому что там их ждет погибель… Э, недаром говорится: ксендз болтает – что вор присягает!»
Эти мысли скоро вылетели у нее из головы, потому что Ясеку становилось все хуже. Рана никак не заживала, не прошло, видимо, и воспаление в легких. Мать делала, что могла и умела, но ничего не помогало. Она и окуривала его, и заговаривала болезнь, а облегчения не было. Ее все больше охватывало безнадежное отчаяние, потому что Ясек в те редкие минуты, когда приходил в сознание, твердил ей шопотом:
– Умру я, матуля. Умру!
– Нет, сынок, выздоровеешь, не бойся. Вот увидишь, Иисус и богородица ченстоховская помогут тебе.
– Умру, матуля, уж я чую… Совсем дышать нечем… Придет Костуха, ой, придет! – жаловался он слабым голосом, и слезы ручьем текли по его щекам.
– Позовите ко мне ксендза, матуля… Грешен я, так пусть он заступится за меня перед божьим судом.
Мать, хотя сердце у нее разрывалось от горя, успокаивала его, уверяя, что он поправится.
А Ясек не верил. Да ему уже и не хотелось жить: он был вконец измучен, и все живое в нем замирало.
– На что мне теперь жизнь? Если поймают, так сейчас же в острог отправят. Не могу я больше, мама, не выдержу там… Если опять запрут, повешусь или что другое сделаю над собой…
– Ох, сыночек мой единственный, сирота ты мой разнесчастный, не уйдешь ты от матери, не покинешь меня, бедную! – обнимая его, плакала Винцеркова.
– Что ж, когда мне так тяжко, матуля… так худо… так худо… – бормотал Ясек, снова впадая в полусон, полный видений и кошмаров.
Она все ночи напролет просиживала около него, томимая страхом: ей то и дело казалось, что он умирает, и она обнимала его, прижимала к себе, согревая своим теплом его холодеющее тело. Она теряла голову от отчаяния, а когда наступало, наконец, утро, падала ниц перед образами, и голосом, идущим из глубины обливавшегося кровью сердца, полным горькой жалобы, скорби, мольбы, просила пресвятую деву смилостивиться над нею.
В одну из таких ночей, когда дождь неустанно стучал в окна и зеленоватая мгла заливала горницу, рождая безнадежную грусть и чувство заброшенности, Ясек вдруг приподнялся, громко закричал:
– Ксендза! Ксендза! – и снова бессильно упал на подушки.
Винцеркова, едва дождавшись утра, оставила при больном Тэклю, взяла с насеста курицу и, спрятав ее под платок, побежала в плебанию.